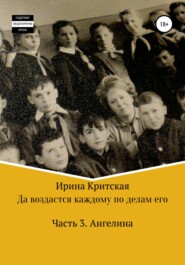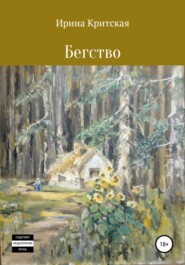По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Да воздастся каждому по делам его. Часть . Ирка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Иногда заходил папа. Вот, кого бабка ждала, как манну небесную. Живой, любопытный ум, который она умудрилась сохранить до последних дней, был еще острее, чем у матери с отцом, во всяком случае, мне так казалось. До позднего вечера отец читал ей политические статьи из газет и они, размахивая руками и крича, что-то обсуждали. Мне было скучно, и я думала свои думы, периодически вздрагивая от особенно рьяных воплей. А бабка всегда побеждала в их неравной политической борьбе.
– И не спорь, мине жизня учила. Ишь!
Папа смеялся и не спорил…
***
– Со духи праведных скончавшихся, Пелагии, душу рабы Твоея, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче…
В комнате почти ничего не было видно от дыма кадила, свечек и сгустившегося, как масло воздуха. Желающих проститься с бабушкой не вмещала наша большая квартира, и народ толпился даже на лестнице, у лифта. Дядя Боря, черный, как головешка, трясся от сдерживаемых слез, а его жена, тетя Лина, кивала на каждое слово попа белой кудлатой головой и плакала.
Баба Таня, тетя Галина, Ленка… приехали все. Гудящая толпа была похожа на шмелиный рой, и нарастал и нарастал шум – равномерный, странный, навязчивый.
Я стояла, прижавшись к маме и чувствовала, как напряженно ее тело, вытянуто в струночку и чуть вздрагивает. Черное шершавое платье неприятно царапало мне щеку, кололо ухо, но я не отодвигалась, потому что думала – я отойду, а она упадёт. Но мама не упала. Она и не плакала почти, только шевелила губами, повторяя что-то за священником.
– Гель! Ты давай, держись-ка! Что это ты нюни распустила!
Тетя Галя стояла рядом с нами и говорила резким, хорошо поставленным голосом, рубя воздух ладонью, как топором.
– У тебя вон, мать на руках. Семья. Что молчишь? Бабка хорошую жизнь прожила, слава Богу. Восемьдесят семь! Тебе бы столько.
– Она пожила бы еще, – мама прошелестела еле-еле и отвернулась, глядя на большой дубовый крест на бабкиной могиле.
– Себя что ли винишь? – тетя Галя совсем рассердилась и почти кричала, – ты все сделала для нее. Все что могла! Она от болезни умерла, от старости. Давай-ка, чухайся. У каждого своя дорога
– Она от тоски умерла, – вдруг хрипло сказала мама, развернулась и пошла по дорожке к воротам…
Глава 10. Давление
– Смотри, Ирка. Да не туда! Вон, глянь, какой носатый. Ну, ведь пропустишь все на свете, что ты в книжку свою впялилась…
Мама толкала меня в бок и щебетала, быстро, быстро. У меня было чувство, что она сбросила с десяток лет, и еще немного – рванула бы прямо через площадь к высокому, старинном зданию института, что бы успеть первой прочитать списки поступивших. А тут я толстая, неповоротливая, да ещё вечно читающая что-то, где бы мы ни были, не отрывающая глаз от страниц.
–Ир, иди, смотри же. Ну не мне же идти, я и так тут, как курица, бегаю.
Но списки я уже прочитала, фамилию свою нашла, а больше меня ничего не интересовало. Разве что Аксинья, все-таки пришедшая на свиданье к Григорию в подсолнухи…
– Ну что ты тоскливая такая. Ведь весело же здесь, ребят столько, давай – иди, знакомься.
Она почти пинала меня в сторону небольшой группки, стоящей у самого забора – высокого, из причудливо закрученных металлических прутьев с вензелями.
– Мам! Ну, отстань же. Я не знаю там никого, чего ты. Я потом.
– Потом – суп с котом! Сейчас только и узнавать, пока все по компаниям не распределились. А то так и останешься одна, как белая ворона.
Она схватила меня за руку и потащила по тропинке, но я уперлась, вырвалась, и, развернувшись, удалилась в тенистый маленький скверик неподалеку. Надувшись, села на лавку и снова раскрыла книгу, но мне не читалось. Краем глаза я наблюдала, как мама подскочила к ребятам и что-то весело говорила, привычным движением откидывая назад голову, круглую и большую от копны густых, пепельных волос. Блестели её зубы и глаза, и мне казалось, что я старше мамы, лет этак на пятнадцать.
А уж тоскливее – лет на сто.
***
– Там очень интересные ребята есть, умные, грамотные. Мне понравились они… Саша, например. И Сергей. Красиииивый… На него уж все девахи глаза положили. Видела, высокую такую одну, волосы длинные, волнистые, светлые. Вот она – особенно.
Мы сидели у телевизора и лопали белые булки с вареньем и орехами. «Калорийные», – так их называли, и, судя по моим бочковидным бокам, булки вполне оправдывали свое название. Мама тоже булочки обожала, но любимым её лакомством были ореховые трубочки. Счастье они вызывали у неё необыкновенное, и мы с папой не ленились, раз, а то и два в неделю, трястись на трамвае до дальней булочной, той, что у самого леса. Эти штучки продавались только там, вместе с косхалвой и прочими восточными радостями. Мама могла срубить их разом штук восемь, аппетитно запить молоком, и добавить еще парочку. Полнота ее почти не волновала, хотя я видела, что ей стало тяжелее ходить, особенно по лестнице.
– Да ладно, мам. Познакомлюсь. Куда спешить.
Мне хотелось сбежать скорее к себе, открыть книгу и уйти туда, где мир был ярким и радостным, где тоже любили и предавали, но красиво, по-настоящему. Не так, как у нас с Раменом. Последнее время я совсем ушла в тот мир и здесь меня почти не было. И все время так болела голова…
– Ир, не нравишься ты мне совсем. Квелая стала, отстраненная. Давай мы тебя с папой врачу покажем. Обследование сделаем, кровь… А?
– Не. Мне завтра в институт. Какие врачи еще.
Я спряталась в своей норке, включила торшер, взяла книгу…и …унеслась…
***
Знаете, что такое давление? То, что внутри головы, внутричерепное, как называют его доктора? Его не зря так назвали, потому что этот поршень, состоящий из тяжелого и неприятно тёплого воздуха, давит так, что ты распластываешься по кровати, как червяк после дождя на асфальте, и ноги не справляются со свинцовым, неповоротливым телом. И еще, самое страшное, ты не можешь читать, потому что вылазят глаза, и их хочется прижать кулаком посильнее, запихнув обратно. Человеческая еда не лезет в глотку, хочется чего – нибудь зверского. Чтобы прочистить внутри. Например – пары-тройки лимонов, но не чищенных и с сахаром, как мне давала баба Аня, а прямо кусать, вместе с кожурой и глотать, аж захлебываясь. И больше ничего.
Что я и делала, не обращая внимания на испуганные круглые карие глазки бабушки, пытающейся выдрать лимон из моих, крепко сжатых пальцев.
– Может нам её в больницу, Гель, смотри, что творит…
Голоса гулко доносились из кухни, дребезжа, бились о стенки длинного коридора, а потом ухались в мою картонную голову, дробясь на глухие, неприятные звуки. Баба Аня всегда была сторонницей кардинальных мер.
– Ты, мам, рада всех по больницам рассовать. И меня, и Ирку. Зачем?
Голос мамы был совсем другим, хрипловатый и нежный, он струился по коридору шелковой лентой и обвивал, касался кожи, уменьшая боль.
– Там психотерапевты есть. Ты что, не видишь, как она изменилась. Молчит, смотрит куда-то, все время одна. А лимоны! Видала, как жрет? И давление такое, как у старухи. И то еще – внутричерепное. Еще гидроцефалия начнется. Толстеет, смотри, страшная какая стала. Ты такой не была…
Ветеринарное образование бабы Ани не прошло зря, ещё немного и она произведет вскрытие моей башки или сделает клизму. Неизвестно что, у нее получится лучше, с ее опытом-то работы с коровами.
– Мы разберемся, мам! Займись собой, ты вон, смотрю опять – красотка. Вот и занимайся. Мы сами.
Я услышала, как мама раздраженно хлопнула дверью балкона и тот, мой любимый и запретный, терпко-дымный запашок чуть разбавил плотный, сладковатый запах болезни.
***
Невольное заточение подходило к концу. Усилиями хороших врачей, маминых знакомых, мою бедную голову привели в порядок, облегчили, охладили, стабилизировали.
– А что же вы хотели… Такая нагрузка. И неуверенность в себе, с такой внешно… Ну вы понимаете. Для молодой девочки все это даром не проходит…
Худая, как сушеная вобла, старая врачиха, заведующая каких-то там кремлевских клиник, смотрела на меня, вроде я муха в стеклянной банке. Смотрела долго и испытующе, потом оттянула веко, точно, как доктора в старых фильмах, зачем-то заглянула в ухо, и крепко ухватив за голову цепкими лапками, резко наклонила к коленям. Так же резко выпрямила и заглянула в глаза, видимо ожидая, что они побегут по кругу, сверкая белками. Они, похоже, не побежали, хотя и перевернулся вверх ногами торшер. Раздраженно, скорее разочарованно цокнув, врачиха вытащила из сумки красивый, розовый длинный рецепт и быстро записала в нем тоненькой красно-серебристой ручкой. Шмякнула рецепт на стол и раздельно сказала
– Дэпрессия! Скоро! Завоюет! Мир! Тебе, детка, надо к людям. Похудеть, лицо полечить.
Я подумала, что плюну в её щелястый, искусственный рот, если она только попробует вякнуть про мои прыщи. Старушенция поняла, наверное, но продолжила: