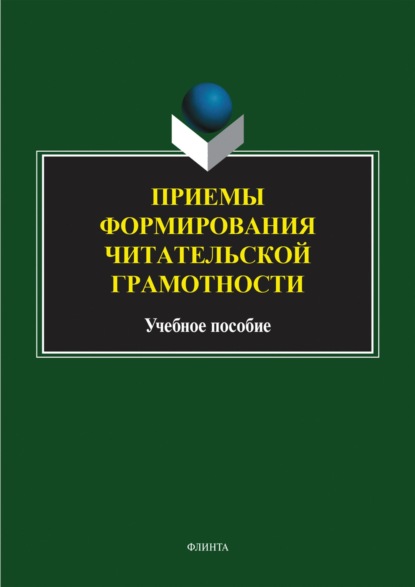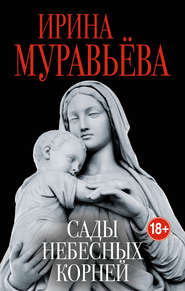По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жизнеописание грешницы Аделы (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Жизнеописание грешницы Аделы (сборник)
Ирина Лазаревна Муравьева
На земле, пропитанной нефтью, иногда загораются огни, которые горят много десятков лет, и их погасить невозможно. Так же и в литературе – есть темы, от которых невозможно оторваться, они притягивают к себе и парализуют внимание. К одной из таких тем обращается Ирина Муравьёва в неожиданной для её прежней манеры повести «Жизнеописание грешницы Аделы». Женщина, в ранней юности своей прошедшая через гетто, выработала в душе не страх и извлекла из своего сознания не робкую привычку послушания, напротив: она оказалась переполнена какой-то почти ослепительной жизненной силы. Талант опереточной актрисы – не более чем слабое отражение её незаурядного жизненного таланта, настолько же яркого, насколько и злого, и мелочного настолько же, насколько и великодушного. Характер Аделы – это характер почти запретный, поскольку если такому характеру было бы позволено распространиться на земле, всё наше существование на ней состояло бы исключительно из жертв, из страстей и желания мести. Тем более странно, что Муравьёвой удаётся убедить читателя в том, что этой её героине, написанной на стыке гротеска и беспощадной точности, знакома любовь…
Ирина Муравьёва
Жизнеописание грешницы Аделы (сборник)
Жизнеописание грешницы Аделы
Был хороший провинциальный город, зеленая и мирная австрийская провинция. Явились румыны в своих этих шапках, усатые, смуглые, без церемоний. Сказали, что это – их город. Ну, пусть. Как жили, так жили. Румыны, австрийцы… А куры на рынке – все те же, петрушка – все та же.
Еврейские мальчики учились в австрийской гимназии – как она была австрийской, так и осталась, – читали Гомера, зубрили Горация. Кричали друг другу на чистой латыни: «Veni! Vidi! Vici!» А после дрались беззаботно. Ходили к молочнице, маленькой, доброй и сморщенной, вроде подгнившего яблока. Молочницу звали фрау Гавричек. Когда бы она дожила до сегодня, ей было бы… сколько? О, много. Не меньше, чем сто пятьдесят. А жаль, что она померла. Когда помирают такие вот тихие, смирные люди, особенно грустно: добра в жизни меньше.
У фрау Гавричек был подвал, заставленный банками с молоком. Молоко сворачивалось, потом становилось сметаной и творогом. Мальчики в серых гетрах и тяжелых башмаках играли на поле в футбол. Зеленое поле пропахло их потом. Фрау Гавричек приставляла ладонь к глазам и звонко кричала:
– Попить не хотите?
Мальчики вытирали пот под волнистыми волосами; хрипя и откашливаясь, бросались в студеный подвал.
– Ах, мейн Готт! – восклицала фрау Гавричек. – Вы все мне побьете! Мейн Готт!
В подвале доставала белые кружки, доверху наполняла их свежим кефиром. Переступая своими тяжелыми башмаками, мальчики пили солидно, большими глотками. Потом убегали обратно на поле.
Адела слушала рассказы об умершей к тому времени фрау Гавричек в таком же подвале. Рукой прикрывала звезду на нестираной кофте. Звезда была желтой, а грудь – сильной, жадной, большой, выразительной лепки. И все было сильным, особенно взгляд – чернее парных вечеров Буковины, когда ни звезды, ни луны, только шум: не то это ветки шумят по дубравам, не то на горах, скрытых мраком, резвятся кудрявые ангелы – мертвые детки. В подвале Аделу и мать вместе с отчимом спрятала молдавская семья. Еще одни добрые люди. Адела однажды припала губами к руке молдаванина. Рука была черной, в больших заусенцах. Старик-молдаванин немного смутился.
– Зачем вы нас прячете? Вас же убьют! – сказала Адела.
– Успеешь еще умереть. Молодая, – сказал молдаванин.
В подвале прожили три года. За это время ненависть к тем, из-за которых она три года не видела солнца, стала такой горячей, что Аделе никогда не бывало холодно. Чем больше ты их ненавидишь, тем жарче. С таким вот нутром вышла из подземелья. Красавица – вся, только росту большого. И ноги большие, и руки. А кудри! Из этих кудрей свить петлю да набросить на шею коня – конь повалится сразу.
Войны уже не было. Немцев прогнали, румынов прогнали. Осталась родная советская власть. Однако базар был все тем же, петрушка все та же. Кур резали так, как Марат с Робеспьером своих неугодных французских сограждан: головку на плаху – и нету головки. Бежит по базару багровая птица, из шеи фонтанчик. Куда ты, наседка? Тебя больше нету!
Адела же пела, училась вокалу. Прекрасный был голос, густой и богатый. Вокруг говорили: «Дай Бог ей здоровья! Наверное, станет московской певицей!»
В Москву Адела поехала поступать в консерваторию. В Москве тогда жил ее брат. Когда-то он очень несчастно женился, страдал, но весной того года судьба пожалела его: встретил девушку. Теперь нужно было бы снова жениться, но как, если нету развода?
Иногда кажется, что многие люди появляются на свете случайно. Вот, скажем, война, и какой-нибудь Фридрих спит с русой какой-нибудь девушкой Нюрой. А может, не Фридрих с ней спит. И не с Нюрой. Но звезды на небе вдруг вздрогнут: случилось! Сменяются три быстрых времени года: простреленный Фридрих гниет в чистом поле, а Нюра пугливо качает младенца. Случайность? Да как посмотреть… Вот и здесь похожая история. Старший брат Аделы случайно оказался в Москве. Он оказался в Москве, а в это же самое время его одноклассников, голых, костлявых, сгоняли в просторные камеры «мыться». Не всех. Потому что другие кричали: «За Родину-у-у-! У-у! За Сталина-а-а! А-а!» Одни докричали, другие сгорели. Но так всё на свете: один прогорает, другой проедает, а после – все вместе, и кости смешались. Чернеет земля, орошенная ливнем.
Аделин брат прямо с фронта был отправлен в Сибирь, где долго валил русский лес на морозе. Считался, однако, не зэком, а ссыльным. И в той же Сибири прибился к семейству. Его подкормили, его приласкали. В семействе две дочки. Окончили школу, а тут и война. Собрались, поехали в эвакуацию. О грустная, грустная жизнь человечья! Подхватит тебя, как песчинку, и ветром, и бурей, со стоном и звоном уносит куда-то. Вернешься? Кто знает… Молись и терпи.
Обласканный брат очень вскоре женился на младшей, Ревекке, родил с нею сына, и все они вместе вернулись в Москву. Младенец был худеньким, голубоглазым, отец грел его на вокзалах дыханьем.
Еще прошло время. Москва, все чужое. Ревекка не любит его, он – Ревекку. Ребенок растет, очень худенький, хрупкий. И вдруг эта девушка с ласковым смехом… Но главное: взгляд, светло-серый, целебный. Он начал метаться от девушки к сыну, потом заявил, что уходит из дому. Тесть, маленький, умный, в атласной ермолке, сказал, что раз так – сына он не увидит. А тут ко всему приезжает Адела. Ревекка не очень страдала. Ревекка была равнодушна и к браку, и к мужу, и к дому, и к сыну, но музыку искренно, страстно любила. Поэтому когда он, наполовину ушедший от жены, от отца жены, от матери жены, от старшей сестры жены и только не знающий, как же быть с сыном, сказал, что Адела приедет учиться, Ревекка, жена, равнодушная к мужу, сказала, что в этом всегда ей поможет.
Но именно в консерватории, то есть в самой что ни на есть сердцевине возвышенного, и случился тот скандал, который изуродовал Аделину жизнь. В приемной, где сидели молодые юноши и девушки в ожидании прослушивания, одна из этих совсем молодых, свежих девушек, которых судьба еще не обижала, вдруг громко сказала в затылок Аделе:
– А эта жидовка что здесь потеряла?
И тут же настало возмездие. Большая, белее, чем снег Буковины, Адела, обернувшись, так мощно обрушилась на тщедушную, в лимонных кудрях, слаборукую девушку, что кровь, хлынувшая из этой девушки, закрасила мокрым и жирным ковер (который был красным, но много бледнее), и грудь слаборукой, и всех, кто вмешаться хотел в это дело. Она избила свежую девушку с такою недевичьей яростной силой, как будто вернулись все те, кто хотел, чтоб мать и Адела, и отчим Аделы остались навеки в молдавском подвале.
Вызвали милицию. В консерватории, где люди должны услаждать друг друга звуками Моцарта и Бетховена, случилось буквальное кровопролитье. Аделу впихнули в большую машину, и брат ее был вскоре вызван в милицию. Могли посадить, могли дело затеять: с лимонными прядями, та, слаборучка, лежала в медпункте и громко стонала. Но брат был уже москвичом: сунул взятку. Аделу вернули в семью. А вечером брат и Ревекка с ее очень выпуклым пристальным взглядом простились с Аделой уже на вокзале. Вернулась к себе, в город тихий, зеленый. Вокалу училась в училище. Ночами ей снились румыны и немцы, но часто бывало, что русские тоже. Солдаты с овчарками, рельсы, вагоны… Она просыпалась в слезах и стонала.
В эту зиму за нею начали вовсю ухаживать молодые люди, поджидали ее возле училища, поигрывали мускулами. Но этих людей было, кстати, немного. Одних застрелили, другие сгорели. А девушки – что? Ну, беретик надвинут, ну, гребень какой-нибудь вставят в прическу, помада там, шпильки – а счастья ведь нету. Грызешь кукурузу с досады и плачешь.
Прошел почти год. По дороге в училище (Адела обычно ходила пешком) ее догнал сильный красивый военный. Сказал, что из Киева, в командировке. Глаза голубые, в глазах – одна наглость. Он взял ее под руку, нежно, но крепко. Неделю лежали на травах, на сучьях – весна расцветала вовсю, разгоралась, и всюду палило свирепое солнце, и мухи блестели своими телами. Лежали в любви, наслажденье, согласье, шептали какую-то глупость, кричали. Потом он исчез. Вроде в Киев уехал. А вскоре вернулся опять, но женатым. Увидел Аделу в трамвае и спрыгнул: на полном ходу, как какой-нибудь школьник.
Теперь по ночам Адела рисовала себе страшные картины. Вот она входит к ним в дом, достает нож и закалывается прямо у них на глазах. Они же при этом лежат на постели, грызут шоколад и едят мандарины. А то еще лучше: она подходит к его жене, которая стоит, склонившись над базарным прилавком, где разные яйца, укроп, помидоры, и острым ножом протыкает ей сердце. Жена тут же падает на помидоры. Хотелось, чтоб крови лилось очень много, но также и слез. Может, слез даже больше. И он чтобы очень рыдал. Это важно.
И вдруг появляется Беня, бухгалтер. Лицо как лицо, рот большой, темно-красный, с как будто приклеенной нижней губою. Собой, правда, мелкий и ей до плеча, однако настырный, горячий, веселый. Сперва подарил букет белой сирени и газовый шарфик, потом еще что-то. А к слову заметить: тот, нежно любимый, совсем ничего не дарил, даже мыла. Адела все губы проела до крови, пока не сказала смущенному Бене:
– Пойдемте гулять с вами в горы. Хотите?
Конечно же, Беня хотел. Она привела его прямо в то место, где месяц назад истекала любовью. Трава еще так и осталась примятой. Она сперва села на мятую траву, потом прилегла, опустила ресницы. И Беня, пылая, лег рядом.
Он был смущен тем, что Адела оказалась не девушкой, и все поведенье ее, отчаянное, с немалою долей брезгливости, злости, его оттолкнуло, но тело понравилось. Белее сметаны. Куда ни посмотришь: колечки и кудри, пушок ярко-черный, жемчужинки пота. Лежит на траве, как картина в музее.
Спускаясь с горы, она, кажется, плакала. Прощаясь, на Беню и не посмотрела. А через две недели брат, который по-прежнему жил в Москве, но уже по другому адресу и был очень счастлив в своей этой новой любви, новом браке, вдруг получил дикую телеграмму от матери: «Сестра отравилась жива ждет ребенка что делать целую».
Брат скомкал дикую телеграмму. Потом опомнился, расправил измятый листок и протянул его жене.
– Убью, – сказал брат молодым своим басом. – Позор на весь город.
– Пусть женится лучше, – вздохнула жена. – У них же ребенок родится, подумай!
От этого брат покраснел еще гуще.
Через двое суток он приехал в родной город. С вокзала явился домой. Мать припала к его груди; отчим обнял его через материнскую голову, левая щека у него мелко задрожала.
– Она сейчас где? – спросил сразу брат.
– Лежит третий день. И обедать не стала.
Брат вошел в комнату, где она лежала спиной к нему и лицом к стене, завернутая в простыню, как египетская мумия: на улице было почти тридцать градусов жары.
– Адя! – произнес брат.
Она махнула рукой, чтобы он ушел.
– Зачем ты поела коробку со спичками? – спросил ее брат.
– Зачем я поела? – грубо ответила она и рывком села на кровати, выставила свое горящее, с изломанными бровями лицо. – А что еще делать? Я жить не хочу.
– Чей это ребенок? – спросил ее брат.
Адела низко опустила голову. Несчастный ребенок мог быть чьим угодно: и Бенин, и этого, с командировки.
– Чей? Бенин, конечно, – ответила она.
Ирина Лазаревна Муравьева
На земле, пропитанной нефтью, иногда загораются огни, которые горят много десятков лет, и их погасить невозможно. Так же и в литературе – есть темы, от которых невозможно оторваться, они притягивают к себе и парализуют внимание. К одной из таких тем обращается Ирина Муравьёва в неожиданной для её прежней манеры повести «Жизнеописание грешницы Аделы». Женщина, в ранней юности своей прошедшая через гетто, выработала в душе не страх и извлекла из своего сознания не робкую привычку послушания, напротив: она оказалась переполнена какой-то почти ослепительной жизненной силы. Талант опереточной актрисы – не более чем слабое отражение её незаурядного жизненного таланта, настолько же яркого, насколько и злого, и мелочного настолько же, насколько и великодушного. Характер Аделы – это характер почти запретный, поскольку если такому характеру было бы позволено распространиться на земле, всё наше существование на ней состояло бы исключительно из жертв, из страстей и желания мести. Тем более странно, что Муравьёвой удаётся убедить читателя в том, что этой её героине, написанной на стыке гротеска и беспощадной точности, знакома любовь…
Ирина Муравьёва
Жизнеописание грешницы Аделы (сборник)
Жизнеописание грешницы Аделы
Был хороший провинциальный город, зеленая и мирная австрийская провинция. Явились румыны в своих этих шапках, усатые, смуглые, без церемоний. Сказали, что это – их город. Ну, пусть. Как жили, так жили. Румыны, австрийцы… А куры на рынке – все те же, петрушка – все та же.
Еврейские мальчики учились в австрийской гимназии – как она была австрийской, так и осталась, – читали Гомера, зубрили Горация. Кричали друг другу на чистой латыни: «Veni! Vidi! Vici!» А после дрались беззаботно. Ходили к молочнице, маленькой, доброй и сморщенной, вроде подгнившего яблока. Молочницу звали фрау Гавричек. Когда бы она дожила до сегодня, ей было бы… сколько? О, много. Не меньше, чем сто пятьдесят. А жаль, что она померла. Когда помирают такие вот тихие, смирные люди, особенно грустно: добра в жизни меньше.
У фрау Гавричек был подвал, заставленный банками с молоком. Молоко сворачивалось, потом становилось сметаной и творогом. Мальчики в серых гетрах и тяжелых башмаках играли на поле в футбол. Зеленое поле пропахло их потом. Фрау Гавричек приставляла ладонь к глазам и звонко кричала:
– Попить не хотите?
Мальчики вытирали пот под волнистыми волосами; хрипя и откашливаясь, бросались в студеный подвал.
– Ах, мейн Готт! – восклицала фрау Гавричек. – Вы все мне побьете! Мейн Готт!
В подвале доставала белые кружки, доверху наполняла их свежим кефиром. Переступая своими тяжелыми башмаками, мальчики пили солидно, большими глотками. Потом убегали обратно на поле.
Адела слушала рассказы об умершей к тому времени фрау Гавричек в таком же подвале. Рукой прикрывала звезду на нестираной кофте. Звезда была желтой, а грудь – сильной, жадной, большой, выразительной лепки. И все было сильным, особенно взгляд – чернее парных вечеров Буковины, когда ни звезды, ни луны, только шум: не то это ветки шумят по дубравам, не то на горах, скрытых мраком, резвятся кудрявые ангелы – мертвые детки. В подвале Аделу и мать вместе с отчимом спрятала молдавская семья. Еще одни добрые люди. Адела однажды припала губами к руке молдаванина. Рука была черной, в больших заусенцах. Старик-молдаванин немного смутился.
– Зачем вы нас прячете? Вас же убьют! – сказала Адела.
– Успеешь еще умереть. Молодая, – сказал молдаванин.
В подвале прожили три года. За это время ненависть к тем, из-за которых она три года не видела солнца, стала такой горячей, что Аделе никогда не бывало холодно. Чем больше ты их ненавидишь, тем жарче. С таким вот нутром вышла из подземелья. Красавица – вся, только росту большого. И ноги большие, и руки. А кудри! Из этих кудрей свить петлю да набросить на шею коня – конь повалится сразу.
Войны уже не было. Немцев прогнали, румынов прогнали. Осталась родная советская власть. Однако базар был все тем же, петрушка все та же. Кур резали так, как Марат с Робеспьером своих неугодных французских сограждан: головку на плаху – и нету головки. Бежит по базару багровая птица, из шеи фонтанчик. Куда ты, наседка? Тебя больше нету!
Адела же пела, училась вокалу. Прекрасный был голос, густой и богатый. Вокруг говорили: «Дай Бог ей здоровья! Наверное, станет московской певицей!»
В Москву Адела поехала поступать в консерваторию. В Москве тогда жил ее брат. Когда-то он очень несчастно женился, страдал, но весной того года судьба пожалела его: встретил девушку. Теперь нужно было бы снова жениться, но как, если нету развода?
Иногда кажется, что многие люди появляются на свете случайно. Вот, скажем, война, и какой-нибудь Фридрих спит с русой какой-нибудь девушкой Нюрой. А может, не Фридрих с ней спит. И не с Нюрой. Но звезды на небе вдруг вздрогнут: случилось! Сменяются три быстрых времени года: простреленный Фридрих гниет в чистом поле, а Нюра пугливо качает младенца. Случайность? Да как посмотреть… Вот и здесь похожая история. Старший брат Аделы случайно оказался в Москве. Он оказался в Москве, а в это же самое время его одноклассников, голых, костлявых, сгоняли в просторные камеры «мыться». Не всех. Потому что другие кричали: «За Родину-у-у-! У-у! За Сталина-а-а! А-а!» Одни докричали, другие сгорели. Но так всё на свете: один прогорает, другой проедает, а после – все вместе, и кости смешались. Чернеет земля, орошенная ливнем.
Аделин брат прямо с фронта был отправлен в Сибирь, где долго валил русский лес на морозе. Считался, однако, не зэком, а ссыльным. И в той же Сибири прибился к семейству. Его подкормили, его приласкали. В семействе две дочки. Окончили школу, а тут и война. Собрались, поехали в эвакуацию. О грустная, грустная жизнь человечья! Подхватит тебя, как песчинку, и ветром, и бурей, со стоном и звоном уносит куда-то. Вернешься? Кто знает… Молись и терпи.
Обласканный брат очень вскоре женился на младшей, Ревекке, родил с нею сына, и все они вместе вернулись в Москву. Младенец был худеньким, голубоглазым, отец грел его на вокзалах дыханьем.
Еще прошло время. Москва, все чужое. Ревекка не любит его, он – Ревекку. Ребенок растет, очень худенький, хрупкий. И вдруг эта девушка с ласковым смехом… Но главное: взгляд, светло-серый, целебный. Он начал метаться от девушки к сыну, потом заявил, что уходит из дому. Тесть, маленький, умный, в атласной ермолке, сказал, что раз так – сына он не увидит. А тут ко всему приезжает Адела. Ревекка не очень страдала. Ревекка была равнодушна и к браку, и к мужу, и к дому, и к сыну, но музыку искренно, страстно любила. Поэтому когда он, наполовину ушедший от жены, от отца жены, от матери жены, от старшей сестры жены и только не знающий, как же быть с сыном, сказал, что Адела приедет учиться, Ревекка, жена, равнодушная к мужу, сказала, что в этом всегда ей поможет.
Но именно в консерватории, то есть в самой что ни на есть сердцевине возвышенного, и случился тот скандал, который изуродовал Аделину жизнь. В приемной, где сидели молодые юноши и девушки в ожидании прослушивания, одна из этих совсем молодых, свежих девушек, которых судьба еще не обижала, вдруг громко сказала в затылок Аделе:
– А эта жидовка что здесь потеряла?
И тут же настало возмездие. Большая, белее, чем снег Буковины, Адела, обернувшись, так мощно обрушилась на тщедушную, в лимонных кудрях, слаборукую девушку, что кровь, хлынувшая из этой девушки, закрасила мокрым и жирным ковер (который был красным, но много бледнее), и грудь слаборукой, и всех, кто вмешаться хотел в это дело. Она избила свежую девушку с такою недевичьей яростной силой, как будто вернулись все те, кто хотел, чтоб мать и Адела, и отчим Аделы остались навеки в молдавском подвале.
Вызвали милицию. В консерватории, где люди должны услаждать друг друга звуками Моцарта и Бетховена, случилось буквальное кровопролитье. Аделу впихнули в большую машину, и брат ее был вскоре вызван в милицию. Могли посадить, могли дело затеять: с лимонными прядями, та, слаборучка, лежала в медпункте и громко стонала. Но брат был уже москвичом: сунул взятку. Аделу вернули в семью. А вечером брат и Ревекка с ее очень выпуклым пристальным взглядом простились с Аделой уже на вокзале. Вернулась к себе, в город тихий, зеленый. Вокалу училась в училище. Ночами ей снились румыны и немцы, но часто бывало, что русские тоже. Солдаты с овчарками, рельсы, вагоны… Она просыпалась в слезах и стонала.
В эту зиму за нею начали вовсю ухаживать молодые люди, поджидали ее возле училища, поигрывали мускулами. Но этих людей было, кстати, немного. Одних застрелили, другие сгорели. А девушки – что? Ну, беретик надвинут, ну, гребень какой-нибудь вставят в прическу, помада там, шпильки – а счастья ведь нету. Грызешь кукурузу с досады и плачешь.
Прошел почти год. По дороге в училище (Адела обычно ходила пешком) ее догнал сильный красивый военный. Сказал, что из Киева, в командировке. Глаза голубые, в глазах – одна наглость. Он взял ее под руку, нежно, но крепко. Неделю лежали на травах, на сучьях – весна расцветала вовсю, разгоралась, и всюду палило свирепое солнце, и мухи блестели своими телами. Лежали в любви, наслажденье, согласье, шептали какую-то глупость, кричали. Потом он исчез. Вроде в Киев уехал. А вскоре вернулся опять, но женатым. Увидел Аделу в трамвае и спрыгнул: на полном ходу, как какой-нибудь школьник.
Теперь по ночам Адела рисовала себе страшные картины. Вот она входит к ним в дом, достает нож и закалывается прямо у них на глазах. Они же при этом лежат на постели, грызут шоколад и едят мандарины. А то еще лучше: она подходит к его жене, которая стоит, склонившись над базарным прилавком, где разные яйца, укроп, помидоры, и острым ножом протыкает ей сердце. Жена тут же падает на помидоры. Хотелось, чтоб крови лилось очень много, но также и слез. Может, слез даже больше. И он чтобы очень рыдал. Это важно.
И вдруг появляется Беня, бухгалтер. Лицо как лицо, рот большой, темно-красный, с как будто приклеенной нижней губою. Собой, правда, мелкий и ей до плеча, однако настырный, горячий, веселый. Сперва подарил букет белой сирени и газовый шарфик, потом еще что-то. А к слову заметить: тот, нежно любимый, совсем ничего не дарил, даже мыла. Адела все губы проела до крови, пока не сказала смущенному Бене:
– Пойдемте гулять с вами в горы. Хотите?
Конечно же, Беня хотел. Она привела его прямо в то место, где месяц назад истекала любовью. Трава еще так и осталась примятой. Она сперва села на мятую траву, потом прилегла, опустила ресницы. И Беня, пылая, лег рядом.
Он был смущен тем, что Адела оказалась не девушкой, и все поведенье ее, отчаянное, с немалою долей брезгливости, злости, его оттолкнуло, но тело понравилось. Белее сметаны. Куда ни посмотришь: колечки и кудри, пушок ярко-черный, жемчужинки пота. Лежит на траве, как картина в музее.
Спускаясь с горы, она, кажется, плакала. Прощаясь, на Беню и не посмотрела. А через две недели брат, который по-прежнему жил в Москве, но уже по другому адресу и был очень счастлив в своей этой новой любви, новом браке, вдруг получил дикую телеграмму от матери: «Сестра отравилась жива ждет ребенка что делать целую».
Брат скомкал дикую телеграмму. Потом опомнился, расправил измятый листок и протянул его жене.
– Убью, – сказал брат молодым своим басом. – Позор на весь город.
– Пусть женится лучше, – вздохнула жена. – У них же ребенок родится, подумай!
От этого брат покраснел еще гуще.
Через двое суток он приехал в родной город. С вокзала явился домой. Мать припала к его груди; отчим обнял его через материнскую голову, левая щека у него мелко задрожала.
– Она сейчас где? – спросил сразу брат.
– Лежит третий день. И обедать не стала.
Брат вошел в комнату, где она лежала спиной к нему и лицом к стене, завернутая в простыню, как египетская мумия: на улице было почти тридцать градусов жары.
– Адя! – произнес брат.
Она махнула рукой, чтобы он ушел.
– Зачем ты поела коробку со спичками? – спросил ее брат.
– Зачем я поела? – грубо ответила она и рывком села на кровати, выставила свое горящее, с изломанными бровями лицо. – А что еще делать? Я жить не хочу.
– Чей это ребенок? – спросил ее брат.
Адела низко опустила голову. Несчастный ребенок мог быть чьим угодно: и Бенин, и этого, с командировки.
– Чей? Бенин, конечно, – ответила она.
Другие электронные книги автора Ирина Лазаревна Муравьева
Сады небесных корней




 4.67
4.67
Поклон тебе, Шура




 3.67
3.67