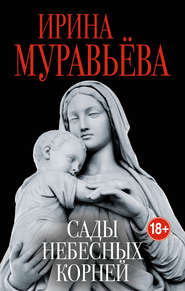По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мы простимся на мосту
Серия
Год написания книги
2011
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Еще бы не верить! Она увидела, что я вхожу в кухню с черного входа и у меня в руках корзина с бельем. И я будто начинаю из этой корзины вынимать какие-то сорочки – все белые, чистые – и вдруг достаю одну, а она в крови. И я говорю: «Не бойся, это моя».
Дверь отворилась, в купе заглянул проводник с пестрыми пчелиными глазами.
– Местечко найдется? Входите, товарищ!
Втиснувшийся вслед за проводником человек был огромного роста – едва ли не выше Шаляпина, в добротном сером пальто с меховым воротником и черных высоких ботинках на пуговицах. Он сел рядом с Диной, размотал шарф, открыв большой тяжелый подбородок со шрамом, упирающимся в угол узкого рта, где кожа казалась прихваченной изнутри, как ткань бывает прихвачена английской булавкой.
– Прошу извинить за вторжение. Поезд забит.
Он раздраженно снял очки, протер их вынутым из кармана носовым платком и снова надел, а платок аккуратно сложил и спрятал в карман.
Дина Ивановна пожала плечами и немедленно отвернулась к окну, ловящему мутные волны метели. Шаляпин сказал:
– Добрый вечер.
И вновь наступило молчание. По лицу пассажира маслянисто скользнул свет станционного фонаря.
– Приятно, оказывается, ехать в столь близком соседстве с великим артистом. – Новый пассажир усмехнулся. – Сидишь – и как будто в театре. Я – Павел Андреич Терентьев.
Шаляпин насупился и промолчал. Павел Андреич близко поднес к глазам волосатое запястье.
– Нам с вами придется потерпеть друг друга, граждане, не так уж и долго. Предлагаю спокойный дружеский разговор. Не хотите?
– Нет, я подремлю, – отозвался Шаляпин. – Глаза просто сами слипаются.
– И верно! Человеку гораздо чаще хочется побыть в одиночестве, чем в этом принято признаваться. Читали вы «Робинзона Крузо»? Весь успех этого малого состоял в том, что он остался один и никто ему не мешал. Вы как полагаете, мадемуазель?
Дина удивленно повела на него глазами и ничего не ответила.
– Ну, спать – значит, спать! – бодро воскликнул Павел Андреич и, сняв очки, крепко зажмурился. – Еще раз прошу извинить за вторжение.
Ничего особенно неприятного не было в этом массивном и хорошо одетом человеке, но и Дина Форгерер, и знаменитый на весь мир певец Федор Иванович Шаляпин почувствовали неприятную неловкость.
– У моей сестрицы покойной, – не открывая глаз, сказал Павел Андреич Терентьев, – был попугай. Муж ее капитаном служил на торговом судне, в экзотических странах посчастливилось побывать. Привез попугая. Болтун был ужасный. Сестрица его научила – по-русски, разумеется. Так вот, как сейчас помню, загонят его вечером в клетку, накроют платком, а он оттуда, из-под платка, гнусавит: «Увидимся завтра! Увидимся завтра!» – Он приоткрыл глаза. – Вот так же и я говорю: «Увидимся завтра!»
Дина и Шаляпин переглянулись. Опять наступило молчание. Федор Иванович мог бы поклясться, что он не собирался спать в эту ночь, и странное предчувствие, что вот-вот должно произойти что-то особенно безобразное не то с ним самим, не то с кем-то из очень близких ему людей, не оставляло его с момента, как только он сел в этот поезд; но мерный стук колес и мягкая темнота вызвали в нем легкое и приятное головокружение, от которого Федор Иванович, в конце концов, уселся поудобнее, вытянул ноги и вскоре заснул очень крепко и сладко.
Очнулся он оттого, что мопс лизал его щеку своим горячим шершавым языком, и голос женщины, с которой Шаляпин вчера познакомился на питерском вокзале, сказал возле самого уха:
– Исчез, слава Богу! Какой неприятный!
Дина Ивановна Форгерер, в шубке и шапочке, низко надвинутой на лоб, обращалась к Федору Ивановичу, и требовательность в ее интонации приказала ему немедленно вернуться к действительности.
– Проснулись? Медведь так в берлоге не спит, как вы спали! Завидую вам. Я и глаз не сомкнула. Сейчас выходила; он был здесь, дремал. Вернулась – его уже нет. Куда же он делся?
Ему показалось, что она еще больше похудела и, может быть, даже постарела за эту ночь. Видно было, что она борется с собой и ни за что не хочет возвращаться ко вчерашнему, слишком откровенному разговору.
– Кто делся? – не понял Шаляпин. – Ах, этот! Да что он вам, право? Исчез – и прекрасно.
Она не ответила. Поезд со скрежетом остановился. За окнами замелькали лица, узлы на плечах, чемоданы, коробки… Шаляпин засунул собаку под шубу и в руку взял трость. Букет, как бывает со всеми, которых внезапно бросают, вдруг переменился: стал вялым, бесцветным, напуганным, жалким, остался, как мертвый, лежать на сиденье.
– Куда вы теперь? – спросил Шаляпин у Дины.
– Домой, – сонно ответила она. – Куда же еще?
– Дина Ивановна, – чувствуя, что нужно непременно успокоить и ободрить ее, пробормотал Шаляпин. – Вы так молоды, так собою хороши… У вас еще все впереди…
– Да хватит вам, Федор Иваныч! – оборвала она. – И так все понятно.
– Хотите, я вас провожу?
– Увольте. Зачем же? Не те времена. И холод какой! Вы на автомобиле?
– Нет, я на извозчике.
Они уже стояли на перроне. Утренний мороз колкими своими, рассыпающимися искрами забеливал темную жизнь. Человеческие тела, угрюмые лица, шаркающие по снегу валенки, разинутые рты, раздутые ноздри – все уродливое, растерзанное, охваченное паникой и оттого кажущееся первобытным, грубо животным и, может быть, даже немного червивым, как будто бы все это стыло в земле и грызло друг друга, стремясь на поверхность, – все это кричало, бежало, неслось, и снег серебрил исступленные крики…
– Прощайте, Федор Иваныч, – сказала Дина Форгерер, и у Шаляпина сжалось сердце. – Спасибо вам, милый. Вы милый, чудесный…
– Прощайте, – ответил Шаляпин, и в горле почувствовал соль. – Осторожней…
Она подхватила дорожную сумку, ладонью закрылась от ветра и побежала к выходу. Шаляпин провожал ее глазами. Она не сделала и двадцати шагов, как сбоку от нее вдруг выросла огромная фигура Павла Андреича Терентьева, который властно взял ее под руку, как будто имел свое право на это. С другой стороны к Дине Ивановне Форгерер подошел совсем уж незнакомый человек, весь в черной облупленной коже, в которой многие ходили в это время благодаря тому, что пошитые для будущего авиационного батальона в первые месяцы Мировой войны куртки так и остались невостребованными и перешли в распоряжение ЧК. Шаляпин заторопился вперед, чтобы вмешаться, но толпа оттеснила его, от сильного толчка в спину бобровая шапка упала на снег, и мопс завозился под шубой. Федор Иваныч, чертыхаясь, надел свою шапку и палкой пытался пробить себе путь сквозь вокзальное месиво, но Дина и оба ее провожатых куда-то исчезли.
Прославленный на весь мир русский бас не мог знать того, что случилось. Обнаружив прямо у своих глаз закутанное шарфом лицо Терентьева и почувствовав себя намертво схваченной с одной стороны богатырской рукою этого самого Терентьева, а с другой стороны маленькой, но жесткой и цепкой рукою кого-то, кого она даже не видела прежде, Дина Форгерер попыталась было закричать и вырваться, но они держали ее крепко, и Павел Андреич сказал ей настойчиво:
– Тише вы, тише!
– Да кто вы такие? – возмутилась она. – И как же вы смеете…
– Тише, Дина Ивановна, тише! – повторил Терентьев. – Без нервов, прошу вас.
– Откуда вы знаете, кто я?
– Да кто вас не знает? – развязно пошутил он в то время, как легкая ее фигурка в темной меховой шубе и шапке такого фасона, как прежде носили боярышни, почти повисала на сильных руках их, влекомая к выходу с той быстротою, с которою ветер гнал снег над вокзалом.
В машине они отпустили ее. Терентьев сел слева, а кожаный справа, и сильно запахло бензином.
– К портнихе, – сказал раздраженно Терентьев.
– К портнихе? Зачем? – И Дина опять начала вырываться.
Кожаный засмеялся отрывистым смехом:
– Пошьем тебе платьице. Шоб ты не мерзла!
– Потише, товарищ Астахов, – оборвал Павел Андреич и негромко ответил Дине: – Вы все сейчас сами увидите.
На Молчановке машина обогнула низенькую старинную церковь и остановилась у ничем не примечательного каменного дома.
Другие электронные книги автора Ирина Лазаревна Муравьева
Сады небесных корней




 4.67
4.67
Поклон тебе, Шура




 3.67
3.67