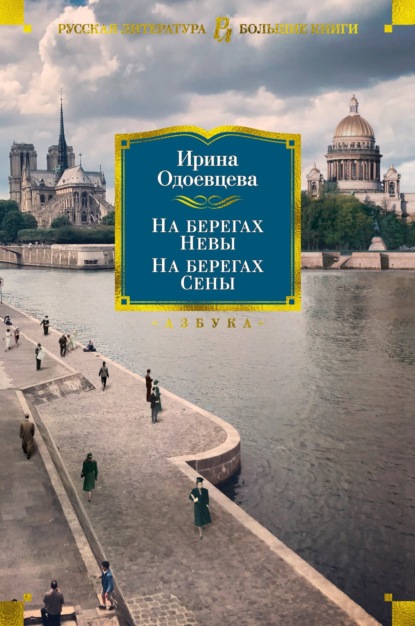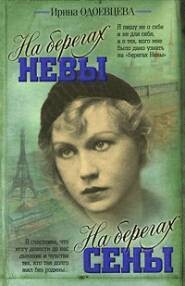По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
На берегах Невы. На берегах Сены. На берегах Леты
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я слово позабыл, что я хотел сказать,
Слепая ласточка в чертог теней вернется
На крыльях срезанных – с прозрачностью играть.
В беспамятстве ночная песнь поется…
Я слушаю, затаив дыхание. Да, такая «песнь» не только поется, но и слушается в беспамятстве. А он продолжает в упоении, все громче, все вдохновеннее:
О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
И выпуклую радость узнаванья.
Я так боюсь рыданья аонид…
И вдруг, не закончив строфы, резко обрывает:
– А кто такие аониды?
Я еще во власти музыки его стихов и не сразу соображаю, что это он спрашивает меня. Уже настойчиво и нетерпеливо:
– Кто такие аониды? Знаете?
Я качаю головой:
– Не знаю. Никогда не слыхала. Вот данаиды…
Но он прерывает меня.
– К черту данаид! Помните у Пушкина: «Рыдание безумных аонид»? Мне аониды нужны. Но кто они? Как с ними быть? Выбросить их, что ли?
Я уже пришла в себя. Я даже решаюсь предложить:
– А нельзя ли заменить аонид данаидами? Ведь ритмически подходит, и данаиды, вероятно, тоже рыдали, обезумев от усталости, наполняя бездонные бочки.
Но Мандельштам возмущенно машет на меня рукой:
– Нет. Невозможно. Данаиды звучит плоско… нищий, низкий звук! Мне нужно это торжественное, это трагическое, рыдающее «ао». Разве вы не слышите – аониды? Но кто они, эти проклятые аониды?
Он задумывается на минуту.
– А может быть, они вообще не существовали? Их просто-напросто гениально выдумал Пушкин? И почему я обязан верить вашей мифологии, а не Пушкину?
С этим я вполне согласна. Лучше верить Пушкину. И он, успокоившись, снова начинает, закинув голову:
Я слово позабыл, что я хотел сказать…
И я снова стою перед ним, очарованная, заколдованная. Я снова чувствую смутный страх, как перед чем-то сверхъестественным.
Только он один умеет так читать свои стихи. Только в его чтении они становятся высшим воплощением поэзии – «Богом в святых мечтах земли».
И теперь, через столько лет, когда вспоминаю его чтение, мне всегда приходят на память его же строки о бедуине, поющем ночью в пустыне…
…И если подлинно поется
И полной грудью, наконец,
Все исчезает, остается
Пространство, звезды и певец.
Да, когда Мандельштам пел свои стихи, все действительно исчезало. Ничего не оставалось, кроме звезд и певца. Кроме Мандельштама и его стихов.
Теперь, оглядываясь назад, мне трудно поверить, что мои встречи с Мандельштамом продолжались только несколько месяцев. Мне кажется, что они длились годы и годы – столько у меня (и самых разнообразных) воспоминаний о нем.
Конечно, я знаю, что время в ранней молодости длится гораздо дольше. Или, вернее, летит с головокружительной быстротой и вместе с тем почти как бы не двигается. Дни тогда были огромные, глубокие, поместительные. Ежедневно происходило невероятное количество внешних и внутренних событий. И ощущение времени было совсем особенное. Как в романах Достоевского – у него тоже события одного дня вряд ли уместились бы в месяц реальной жизни.
Но этим все же трудно объяснить не только количество моих воспоминаний о Мандельштаме, но и их живость и яркость. Они как будто и сейчас еще не хотят укладываться на дно памяти и становиться далеким прошлым. Будто я вчера рассталась с ним. Дело тут, я думаю, не во мне, а в нем, в Мандельштаме. В его необычайности, в его неповторимости. Каждая встреча с ним – а встречались мы почти ежедневно – чем-нибудь поражала и навсегда запоминалась.
Входя в Дом литераторов или в Диск, я всегда чувствовала, что он здесь, прежде чем видела его. И на публичной лекции среди множества слушателей безошибочно находила его, как будто над ним реял
Какой-то особенный свет,
Какое-то легкое пламя,
Которому имени нет.
Но у этого пламени было имя – благодать поэзии. Никогда, ни тогда, ни потом, я не встречала поэта, которого пламя благодати и поэзии так пронизывало бы, который сам как на костре горел, не сгорая в этом пламени. Мне кажется, что это пламя и сейчас освещает воспоминания о нем. И я, снова переживая их, не знаю, которое из них выбрать, все, что касается Мандельштама, мне одинаково дорого.
Вот, взятое почти наугад, наудачу, одно из воспоминаний.
Зимний вечер. Мы, то есть Мандельштам, Георгий Иванов и я, пьем чай у Гумилева. Без всякой торжественности, из помятого жестяного чайника – чай с изюмом из бумажного свертка. Это не прием. Я, возвращаясь с Гумилевым после лекций в Диске, зашла на минутку отогреться у печки. Георгий Иванов и Мандельштам столкнулись с нами на углу Преображенской и присоединились. И вот мы сидим вчетвером перед топящейся печкой.
– Ничего нет приятнее «нежданной радости» случайной встречи, – говорит Гумилев.
Я с ним согласна. Впрочем, для меня все встречи, случайные и неслучайные, «нежданная радость». Я как-то всегда получаю от них больше, чем жду.
– Есть у кого-нибудь папироса? – задает привычный вопрос Мандельштам. И папироса, конечно, находится. Гумилев подносит спичку Мандельштаму.
– Скорей, скорей закуривай. А то вся сера выйдет.
Мандельштам быстро закуривает, затягивается и заливается отчаянным задыхающимся клекотом. Он машет рукой, смеясь и кашляя. Слезы текут из его глаз.
– Удалось! Опять удалось, – торжествует Гумилев. – В который раз. Без промаха.
Спички серные. Продавая их, мальчишки кричат звонко на всю улицу:
Спички шведские,
Головки советские,
Пять минут вонь,
Потом огонь!
Закуривать от них надо не спеша, крайне осторожно, дав сгореть сере. Все это знают. И Мандельштам, конечно, тоже. Но по рассеянности и «природной жадности», по выражению Георгия Иванова, всегда сразу торопливо закуривает. К общему веселью.
– А я вам сейчас прочту свои новые стихи, – говорит Георгий Иванов.
Это меня удивляет. Я уже успела заметить, что он не любит читать свои стихи. И, написав их, не носится с ними, не в пример Гумилеву и Мандельштаму, готовым читать свои новые стихи хоть десять раз подряд.