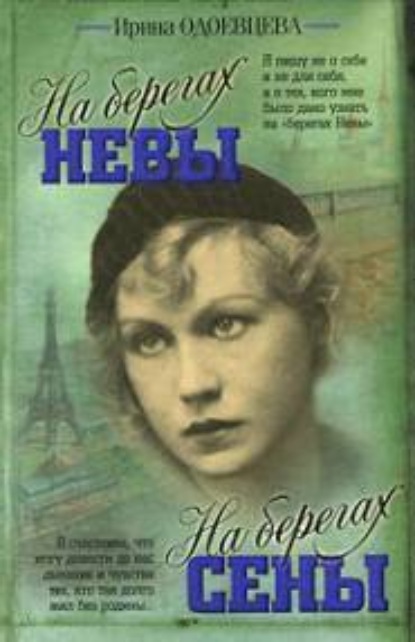По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
На берегах Невы. На берегах Сены
Жанр
Серия
Год написания книги
2012
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я сквозь шум в ушах слышу:
Осенний ветер свистит в дубах,
Дубы шуршат, дубы вздыхают…
Пять очень медленно прочитанных строф. И я их все выслушиваю.
– Что же? Довольно грамотно, – произносит Гумилев будто с сожалением. – Только скучное о скучном. Хотя и шуршащие, но дубовые стихи. – И он начинает зло критиковать их. Снова смеются. Но – или это мне только кажется – не так громко, не так предательски. И в голосе Гумилева нет издевательских, злорадных ноток, когда он говорит устало: – А остальное разберем – если вы еще не убедились, что и разбирать не стоит, – в следующий раз.
Он берет свой портфель и не выходит, а торжественно покидает класс. За ним бежит Тимофеев и сейчас же, давясь от смеха, доносит ему, что «испанские стихи принадлежат той рыженькой с бантом».
Об этом я узнала много позже. Но не от Гумилева. Как это ни странно, за все мои ученические годы Гумилев никогда не вспоминал о том, что он чуть было не зарезал меня. Меня, «свою лучшую ученицу». Гумилев притворялся, что так и не узнал, кому принадлежали высмеянные им испанские стихи. Я же притворялась, что верю этому.
Я давным-давно научилась смотреть на себя, ту, прежнюю, —
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело.
Разве это была я? И все-таки у меня и сейчас сжимается сердце, когда я вспоминаю, как в тот снежный вечер возвращалась домой.
Я не помню, как вышла из класса, спустилась по лестнице, прошла через сад и очутилась на улице.
Я помню только мрачные сумерки, снег и зловещее карканье ворон на углу Бассейной и Греческого.
Обыкновенно я весело кричала каркающим воронам:
– На свои головы! На свои головы каркаете!
Но сейчас я молча слушала их карканье. Конечно, на мою голову. На чью же еще, кроме моей?
Дома меня встретили радостными расспросами. Но я, сбросив шубку прямо на пол – пусть другие вешают ее, если хотят, – махнула рукой.
– Не пришел. Не пришел Гумилев! Напрасно целый час ждали. Не пришел! У меня голова болит. Я пойду лягу. И обедать не буду.
То, что я пожаловалась на головную боль – у меня никогда не болела голова – и главное то, что я пожелала лечь и не обедать, испугало моих домашних – а вдруг я заболела? И они заходили на носках и стали шепотом советоваться, не позвать ли доктора.
У себя в комнате я заперла дверь на ключ и действительно легла. «Легла, как ложатся в гроб», – сказала я себе громко.
На следующий день я проснулась поздно. Лучше всего было бы умереть от горя и позора. Но раз умереть не удалось, надо продолжать жить.
Но как и чем? Ведь я жила только стихами.
И вот оказалось, что я ошиблась.
После вчерашнего возврата к поэзии быть не могло. С поэзией все покончено, раз и навсегда.
Я пролежала сутки в кровати, позволяя домашним ухаживать за собой. За это время я успела все обдумать и решить.
На третий день я записалась на кинокурсы, находившиеся совсем близко, на Суворовском проспекте.
Нет, я не собиралась стать кинематографической звездой, но мне необходимо было найти какое-нибудь занятие.
На кинокурсах меня опять спросили, знаю ли я иностранные языки – вопрос особенно нелепый в годы немого кинематографа, – умею ли я ездить верхом и править автомобилем?
Верхом я ездила с раннего детства, но об управлении автомобилем понятия, конечно, не имела, что, впрочем, не помешало моему условному принятию на кинокурсы.
– Через три недели состоится зафильмованный экзамен, после которого выяснится, кто принят и кто исключен, – нахмурившись, объявил заведующий. И, помолчав с минуту, добавил, улыбаясь дружелюбно: – Впрочем, вам, товарищ, бояться не надо. Вижу, что фотогеничны. И даже очень. Вы-то приняты будете.
Но это обещание не обрадовало меня. Я чувствовала себя здесь совсем не на своем месте. Здесь ничем, кроме кинематографа, не интересовались и часами спорили о Вере Холодной, Мозжухине, Франческе Бертини, Максимове. Но до них всех мне не было решительно никакого дела.
Я чувствовала себя одинокой, несчастной и, чтобы не переживать в сотый раз гибели всех моих надежд, до изнеможения занималась гимнастикой, карабкалась по лестницам, раскачивалась на трапеции. Гимнастике отдавались утренние часы, в остальное время разыгрывали всевозможные театральные сцены, что было довольно забавно и, главное, мешало думать о моем горе.
На кинокурсах жили, как под дамокловым мечом, нервничали, интриговали, заранее стараясь перебежать друг другу дорогу в ожидании страшного экзамена.
Я одна не проявляла нервности, что принималось остальными за самонадеянность.
– Знает, что будет принята, и задирает нос!
Как-то, почти накануне экзамена, выйдя из дома, я не свернула на Суворовский, а пошла вниз по Бассейной, не отдавая себе отчета, куда я иду. И только дойдя до Знаменской, поняла, что иду в «Живое слово». Иду оттого, что не могу не идти.
Первый, кто меня встретил в вестибюле, был Всеволодский. Он обхватил меня за плечи, заглядывая мне в лицо.
– Наконец-то! Вы что, больны были? Ай! Ай! Еще похудели. Но теперь поправились? Ну слава Богу, слава Богу!
Он повел меня с собой в класс и объявил радостно:
– Смотрите, вот она! Вернулась к нам. Ведь как мы все по ней скучали! И вот она с нами опять! Теперь мы уж ее не отпустим!
И я сразу почувствовала себя прежней, окруженной дружбой и любовью. Будто Гумилев не выставлял меня к позорному столбу, будто надо мной никогда не глумились все эти мои друзья и поклонники.
В тот же день я слушала лекцию Луначарского и профессора Энгельгардта, читавшего о китайской литературе, слушала с тем же увлечением, как прежде.
– А завтра будем праздновать юбилей Кони, – сейчас же сообщили мне. – Как хорошо, что вам удастся присутствовать на нем!
Да, это было очень хорошо. Кони мы все глубоко уважали. Я радовалась, что буду на его юбилее.
Кони исполнилось семьдесят пять лет. Возраст, казавшийся нам, слушателям «Живого слова», почти мафусаиловым.
Юбилей, стараниями Всеволодского, удался на славу. Стены ярко освещенного зала были разукрашены звездами и лавровыми венками с красными лентами.
На эстраде восседал сам юбиляр, окруженный группой ораторов, восхвалявших его в юбилейных речах.
Маленький, сухонький, сгорбленный Кони с тоской в глазах выслушивал многословные, пустозвонные приветствия Луначарского, Всеволодского, Юрьева, Студенцова и каких-то незнакомых нам комиссаров и представителей печати.
Но когда на эстраду поднялся один из слушателей «Живого слова» и начал пространно и восхищенно перечислять все события, приведшие Россию к революции, Кони вдруг заерзал на месте и поднял руку.
– Знаю, знаю, верю! Кончайте, голубчик, скорей. Невтерпеж мне!
Оратор поперхнулся на полуфразе.
Осенний ветер свистит в дубах,
Дубы шуршат, дубы вздыхают…
Пять очень медленно прочитанных строф. И я их все выслушиваю.
– Что же? Довольно грамотно, – произносит Гумилев будто с сожалением. – Только скучное о скучном. Хотя и шуршащие, но дубовые стихи. – И он начинает зло критиковать их. Снова смеются. Но – или это мне только кажется – не так громко, не так предательски. И в голосе Гумилева нет издевательских, злорадных ноток, когда он говорит устало: – А остальное разберем – если вы еще не убедились, что и разбирать не стоит, – в следующий раз.
Он берет свой портфель и не выходит, а торжественно покидает класс. За ним бежит Тимофеев и сейчас же, давясь от смеха, доносит ему, что «испанские стихи принадлежат той рыженькой с бантом».
Об этом я узнала много позже. Но не от Гумилева. Как это ни странно, за все мои ученические годы Гумилев никогда не вспоминал о том, что он чуть было не зарезал меня. Меня, «свою лучшую ученицу». Гумилев притворялся, что так и не узнал, кому принадлежали высмеянные им испанские стихи. Я же притворялась, что верю этому.
Я давным-давно научилась смотреть на себя, ту, прежнюю, —
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело.
Разве это была я? И все-таки у меня и сейчас сжимается сердце, когда я вспоминаю, как в тот снежный вечер возвращалась домой.
Я не помню, как вышла из класса, спустилась по лестнице, прошла через сад и очутилась на улице.
Я помню только мрачные сумерки, снег и зловещее карканье ворон на углу Бассейной и Греческого.
Обыкновенно я весело кричала каркающим воронам:
– На свои головы! На свои головы каркаете!
Но сейчас я молча слушала их карканье. Конечно, на мою голову. На чью же еще, кроме моей?
Дома меня встретили радостными расспросами. Но я, сбросив шубку прямо на пол – пусть другие вешают ее, если хотят, – махнула рукой.
– Не пришел. Не пришел Гумилев! Напрасно целый час ждали. Не пришел! У меня голова болит. Я пойду лягу. И обедать не буду.
То, что я пожаловалась на головную боль – у меня никогда не болела голова – и главное то, что я пожелала лечь и не обедать, испугало моих домашних – а вдруг я заболела? И они заходили на носках и стали шепотом советоваться, не позвать ли доктора.
У себя в комнате я заперла дверь на ключ и действительно легла. «Легла, как ложатся в гроб», – сказала я себе громко.
На следующий день я проснулась поздно. Лучше всего было бы умереть от горя и позора. Но раз умереть не удалось, надо продолжать жить.
Но как и чем? Ведь я жила только стихами.
И вот оказалось, что я ошиблась.
После вчерашнего возврата к поэзии быть не могло. С поэзией все покончено, раз и навсегда.
Я пролежала сутки в кровати, позволяя домашним ухаживать за собой. За это время я успела все обдумать и решить.
На третий день я записалась на кинокурсы, находившиеся совсем близко, на Суворовском проспекте.
Нет, я не собиралась стать кинематографической звездой, но мне необходимо было найти какое-нибудь занятие.
На кинокурсах меня опять спросили, знаю ли я иностранные языки – вопрос особенно нелепый в годы немого кинематографа, – умею ли я ездить верхом и править автомобилем?
Верхом я ездила с раннего детства, но об управлении автомобилем понятия, конечно, не имела, что, впрочем, не помешало моему условному принятию на кинокурсы.
– Через три недели состоится зафильмованный экзамен, после которого выяснится, кто принят и кто исключен, – нахмурившись, объявил заведующий. И, помолчав с минуту, добавил, улыбаясь дружелюбно: – Впрочем, вам, товарищ, бояться не надо. Вижу, что фотогеничны. И даже очень. Вы-то приняты будете.
Но это обещание не обрадовало меня. Я чувствовала себя здесь совсем не на своем месте. Здесь ничем, кроме кинематографа, не интересовались и часами спорили о Вере Холодной, Мозжухине, Франческе Бертини, Максимове. Но до них всех мне не было решительно никакого дела.
Я чувствовала себя одинокой, несчастной и, чтобы не переживать в сотый раз гибели всех моих надежд, до изнеможения занималась гимнастикой, карабкалась по лестницам, раскачивалась на трапеции. Гимнастике отдавались утренние часы, в остальное время разыгрывали всевозможные театральные сцены, что было довольно забавно и, главное, мешало думать о моем горе.
На кинокурсах жили, как под дамокловым мечом, нервничали, интриговали, заранее стараясь перебежать друг другу дорогу в ожидании страшного экзамена.
Я одна не проявляла нервности, что принималось остальными за самонадеянность.
– Знает, что будет принята, и задирает нос!
Как-то, почти накануне экзамена, выйдя из дома, я не свернула на Суворовский, а пошла вниз по Бассейной, не отдавая себе отчета, куда я иду. И только дойдя до Знаменской, поняла, что иду в «Живое слово». Иду оттого, что не могу не идти.
Первый, кто меня встретил в вестибюле, был Всеволодский. Он обхватил меня за плечи, заглядывая мне в лицо.
– Наконец-то! Вы что, больны были? Ай! Ай! Еще похудели. Но теперь поправились? Ну слава Богу, слава Богу!
Он повел меня с собой в класс и объявил радостно:
– Смотрите, вот она! Вернулась к нам. Ведь как мы все по ней скучали! И вот она с нами опять! Теперь мы уж ее не отпустим!
И я сразу почувствовала себя прежней, окруженной дружбой и любовью. Будто Гумилев не выставлял меня к позорному столбу, будто надо мной никогда не глумились все эти мои друзья и поклонники.
В тот же день я слушала лекцию Луначарского и профессора Энгельгардта, читавшего о китайской литературе, слушала с тем же увлечением, как прежде.
– А завтра будем праздновать юбилей Кони, – сейчас же сообщили мне. – Как хорошо, что вам удастся присутствовать на нем!
Да, это было очень хорошо. Кони мы все глубоко уважали. Я радовалась, что буду на его юбилее.
Кони исполнилось семьдесят пять лет. Возраст, казавшийся нам, слушателям «Живого слова», почти мафусаиловым.
Юбилей, стараниями Всеволодского, удался на славу. Стены ярко освещенного зала были разукрашены звездами и лавровыми венками с красными лентами.
На эстраде восседал сам юбиляр, окруженный группой ораторов, восхвалявших его в юбилейных речах.
Маленький, сухонький, сгорбленный Кони с тоской в глазах выслушивал многословные, пустозвонные приветствия Луначарского, Всеволодского, Юрьева, Студенцова и каких-то незнакомых нам комиссаров и представителей печати.
Но когда на эстраду поднялся один из слушателей «Живого слова» и начал пространно и восхищенно перечислять все события, приведшие Россию к революции, Кони вдруг заерзал на месте и поднял руку.
– Знаю, знаю, верю! Кончайте, голубчик, скорей. Невтерпеж мне!
Оратор поперхнулся на полуфразе.