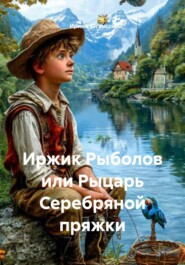По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тайна Мёртвого Озера
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты же знаешь, что нельзя. Никого не должно быть рядом. Хочешь, подержи мне лестницу.
– Хочу.
– Только осторожно, не шуми на чердаке, – Хильду разбудишь.
Гийом выглянул в окошко – Туч-то сколько, небо всё заволокло.
– Ничего, разберёмся. Пора. Дай-ка мне сито.
Гийом протянул Элис небольшое волосяное сито. Оба они забрались по крутой лесенке на чердак, потом Элис уже одна вскарабкалась по узенькой стремянке, и вылезла на крышу из слухового оконца.
На минуту она замерла и стала вслушиваться в тишину. Растопыренной ладонью начертила в воздухе круг. Прошептала что-то непонятное. – Теперь можно и пошуметь, теперь кому не надо ничего не увидит, ничего не услышит. – Пряха подняла сито над головой: – Хороший у меня бубен? – Тонкие пальцы стали выбивать сложный ритм. Сначала ничего не происходило. Только пульсировали и гудели в такт ударам невидимые нити. Но очень скоро в плотной пелене облаков, там, где смутная желтизна обозначила луну, появился разрыв. Ритм всё ускорялся, разрыв становился всё шире, всё больше. Последний гулкий удар – и вот уже плывёт в круглой проталине, сияет средь лёгкой облачной дымки полная луна.
Юная «колдунья», не разжимая губ, завела какую-то странную мелодию. Тягучую. Зовущую. Повернула свой «бубен» так, что лунный свет невесомым потоком полился сквозь него, сплетаясь с пепельными невесомыми волосами.
Минута… другая… пять минут… Постепенно мелодия стала слабеть, слабеть, слабеть… И вот совсем затихла… Пряха опустила онемевшие от напряжения руки, и в тот же миг тёмная туча затянула проталину.
Озябшая и усталая, Элис, распахнув полукруглые створки, пролезла в слуховое окошко и, стараясь не шуметь, спустилась по стремянке.
Гийом был уже наготове, ловким движением он накинул тётке на плечи тёплый клетчатый платок и сразу же протянул ей серебряный стаканчик с тёмно-красной густой жидкостью.
– Что это?
– Смородинная наливка. Пей, а то простудишься, вон, как дрожишь.
– Помощник ты мой! Что бы я без тебя делала?
Они спустились в комнату, Гийом зажёг свечи, и тётка сразу уткнулась в книгу, что-то с ней сверяя, что-то выписывая в заветную тетрадку.
Гийом всё это время сидел рядышком, не проронив ни слова.
Наконец Элис оторвала глаза от книги – Шёл бы ты спать, Ги, ты устал, вон уже носом клюёшь..
– Не-а, я с тобой.
– Ведь всю ночь сидеть придётся.
– Ты-то вон не спишь.
– Я – это я, взрослый человек.
– А я что, маленький?
– Ну, хорошо, тогда расчеши мне волосы ещё разок, только аккуратнее, не спутай.
Она достала совсем другой, частый серебряный гребень, и Гийом, гордый порученным делом принялся бережно расчёсывать уже почему-то не пепельную, а золотистую, словно впитавшую лунный свет, копну волос.
Когда гребень оказывался сплошь опутан лёгкой светящейся куделью, её снимали, откладывали в сторону и всё начинали снова. И так до тех пор, пока на столе не выросла небольшая пушистая горка. Нет, не волос, а чего-то особенного, чему и названия не найдёшь.
– Всё. Спасибо.
Девушка достала узенькое веретенце, наживила кудель на старую прялку, и вот потекла-побежала из-под ловких пальцев тонкая, как паутинка, золотистая нить.
Плохо ли, хорошо ли, но на наших друзей свалилась слава. Шагу они не могли ступить, чтобы кто-то из соседей не подошёл просто пожать руку, поговорить о важном, словно со взрослыми, порасспросить подробнее о Том лесе и Том озере. И, куда бы они не отправились, всюду за ними хвостом ходил теперь Маленький Петер, заглядывал в рот, ловил каждое слово и весь сиял от счастья. Ему нравилось показывать перед остальными, непосвящёнными и неприближёнными, свою особую осведомлённость. Затевать к делу и без дела разговоры о всяких странных и непонятных вещах, наслаждаться, что тебя, тебя, кого затыкали все, кому ни лень, слушают, не прерывая. Ну и конечно, при всяком удобном случае вставлять: "Вот мы с Гийомом…", "Я Гийому так прямо и сказал…", "Гийом об этом никому
не говорил, только мне…"
Единственное, что его задевало, и пребольно задевало, что "гийомовы", хоть и терпели его присутствие, но своим признавать не спешили, встречали без особой радости, если шли куда, с собой не звали. Это он им навязывался, он бежал следом маленькой собачонкой. А порой приходилось глотать совсем обидное: – "Петер, уйди, пожалуйста, дай нам поговорить."
Уж он ли не свой в доску? А раз так, какие могут быть от него секреты?
И потом, с чего вдруг вся гийомова компания сдружилась с Дылдой? Враждовали-враждовали, а тут, прям, чуть не родня! На что он им сдался? Они – герои, а Йен – никто!
Можно подумать, он тут в деревне над всеми главный. Взял себе за моду – людьми помыкать, а что ему не так, раз – кулаком в нос! Знает, что с ним никто силой равняться не может. А сколько на него у Петера обид накопилось! – Счёту нет! Как только эти дылдоны его ни называли! И "сосунком", и "маменькиным сыночком" – это ещё безобидные прозвища, а то, бывало, такое словечко прилепят, какого и повторить язык не повернётся! Сколько раз, ни с того, ни с сего, давали по шее! – "А о вас самих, думаете, этот дуболом мало всяких гадостей наплёл!? Конечно, он не такой дурак, чтобы в глаза, но люди-то слышали. И я слышал. Вот вы перед ним лебезите, шапку ломаете, а хотите знать, что он о вас сказал в тот день, как вы из лесу пришли? Хотите? – Мол, наврали вы всё про Мёртвый лес, а деревенские наши простачки уши-то и развесили." – И, помолчав, не дождавшись ожидаемого возмущения, Петер выкладывал в довесок что-нибудь уж такое гадкое и обидное, от чего вся душа вспыхивала. Пойди, проверь, что было, чего не было? Петер клялся, что ни словом не соврал, как ему не верить?
Но прошло несколько дней, и Петер наш задумался – а что ему за радость в этой новой дружбе? Что за выгода? – А никакой – если Йен с Гийомом снова рассорятся, кому первому худо будет? – ему самому, Петеру. На него и сейчас-то косо глядят, а тогда сразу всё припомнят. В предатели запишут. Нет уж, лучше сейчас самому исправить ошибку! – И Маленький Петер, как ни в чём не бывало, снова переметнулся в дылдину компанию. И хотя с распростёртыми объятиями его здесь не приняли, но не оттолкнули, и то хорошо.
Как-то вечером Йен с приятелями бездельничали и трепались у сухого колодца, и Метте с ними заодно, словно своя. Подошёл Петер, его почти не заметили., так, кивнули молча. Попытался слово вставить – от него отмахнулись. А девчонка сказала какую-то глупость и все уже гогочут-заливаются и эта с ними! Ну ничего, сейчас он её поставит на место!
– Она тут врёт, в вы и рады слушать! А что здесь наша «героиня» потеряла? И вообще, кто она такая? – Нищенка! В наших обносках ходит и перед нами выставляется! – Метте застыла, словно её внезапно ударили по щеке. – Моя мамочка говорит – они разве что подаяния не просят. Её мать в чужих домах полы моет, одну и ту же юбку годами носит. Да будь у меня такая мамаша, я бы со стыда сгорел!
И тут Дылда с размаху, со всей силы, врезал Петеру по губам:
– А ну, заткнись, крысёныш! Закрой свой поганый рот!
Не плачь, Метте! Мало что всякий придурок скажет, никто ж его не слушает! Да пусть эта вонючка попробует ещё хоть слово вякнуть, я его с землёй сровняю.
А в это время Петер верещал, как резаный:
– Кровь! У меня кровь! За что? Я за тебя а ты!.. Из-за этой?.. Из-за какой-то!.. – Докончить фразу ему не удалось, потому что Йен замахнулся снова, и Петер только чудом успел отскочить. – Не тронь меня! Я маленький, меня нельзя обижать! Влюбился! Дылда в Метте-побирушку влюбился! А-а! Всё маме скажу!
– Иди-иди, доноси своей мамочке! Мамочка у него – великая знать из запечья. Вечно у неё губы поджаты, словно уксус во рту держит. Она забыла, как у Метте отец погиб, спасая деревню от пожара? Забыла, где тот пожар начался? А не в вашей ли лавке? – Кто-кто, а я эту историю хорошо знаю, и мой отец в том пожаре чуть не сгорел, его старый Бьёрн еле выходил. Мы с братом вот так же могли осиротеть, и ты нам тогда кричал бы: «нищие!»
Наш лавочник, твой папаша, клялся тогда, божился перед всей деревней, мол не оставит вдову, не бросит одну с малым ребёнком на руках, да, видно, только на обноски его благодарности и хватило.
А ну, вали отсюда, чтобы я рожи твоей рядом с собой не видел, и только попробуй, вернись!
И тут только Петер осознал, что остался один. Совершенно один. Он запаниковал: – Да я же совсем не то хотел сказать!.. Я ж без обиды!.. Я так… Я прощения могу попросить!.. Я маленький, я не виноват!.. – он озирался по сторонам, ища поддержки хоть в чьих-нибудь глазах, но все уже смотрели сквозь него, словно он был пустым местом.
– А ты, Метте, – Йен подошёл к девочке, взял её ладони в свои, и крепко сжал их, словно пытаясь придать больше весу своим словам, – плюнь и разотри! Поняла? Плюнь и разотри! Из-за такого как этот глупо расстраиваться. Забудь, мало ли, что всякая шавка вякнет.
Метте, с трудом сдерживая слёзы, прошептала:
– Извини, мне надо идти, мне в самом деле некогда.
Йен долго глядел ей вслед, а потом тихо, словно ни к кому не обращаясь, произнёс:
– Зарубите себе на носу, если кто хоть одним словом, хоть одним звуком её обидит, будет иметь дело со мной!