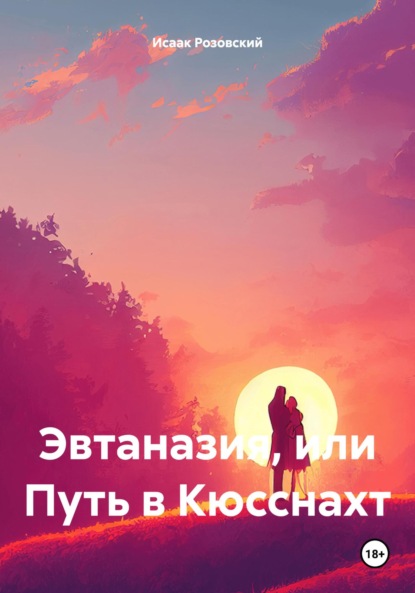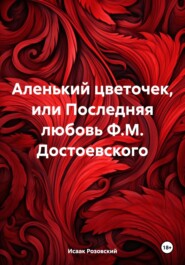По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Эвтаназия, или Путь в Кюсснахт
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Через день сразу с работы она примчалась домой, обозрела все содержимое своего скудного гардероба и пришла в отчаяние. Надеть нечего, чтобы выглядеть хоть как-то терпимо. И ни кулончика, ни брошки, даже духов приличных нет. Назло себе она оделась точно так же, как и позавчера. Он ждал ее у подъезда. Немного побродили по улицам, а потом Анна повела его в парк Павлика Морозова. Парк – большой, красивый, с прудами и беседками – считался местной достопримечательностью. Горожане окрестили его Раем. В самом его центре высился на постаменте гранитный Павлик – юный герой-страстотерпец. А со всех сторон на него наползали мелкие и оттого еще более гадкие «кулаки», вооруженные топорами и вилами.
– Забавно, – сказал Рува, с брезгливым интересом оглядывая обгаженную голубями скульптурную группу. – Павлик Морозов – это же наша версия древнегреческого мифа о царе Эдипе. А фрейдовский Эдипов комплекс воздвигли на пьедестал.
Анна ничего про фрейдизм не знала. Но ее удручало не собственное невежество, а извечная скованность, которую она тщетно пыталась скрыть. Она по обыкновению смущалась, куксилась и спросить гостя о чем-нибудь не решалась. Так они шли какое-то время в полном молчании. Потом уселись на скамейку, и он стал ее расспрашивать. Она поначалу отвечала односложно, но в приливе внезапного доверия рассказала ему про отца, которого едва помнила, про мать, про эвакуацию, про житье в общежитии. Даже про Джомолунгму. Она старалась говорить если не весело, то хотя бы иронично. Но у нее не очень-то получалось. «Вот так развлекла! По-моему, он с трудом сдерживается, чтобы не зевнуть. Как глупо все вышло!..»
Действительно, Рувим молчал, на нее не глядел, а потом вдруг спросил по-польски:
– Moge Cie pocalowac?
Анна оторопела, а он, не дожидаясь ответа, потянулся к ней и коснулся губами ее губ. И она ответила, стесняясь своей неумелости. Он это заметил и, вероятно, удивился, но виду не показал, снял с себя пиджак и накинул ей на плечи. А потом спросил: «Может, зайдем к вам?»
И они пошли, по-прежнему молча и как бы отдельно друг от друга. Только его пиджак на ней. В душе Анны царило полное смятение. Неужели это может произойти? Она вспоминала, не оставила ли, убегая на встречу с ним, какие-то предметы своего туалета. Ведь можно сгореть со стыда. И надо же что-то говорить? Ох, как же все глупо!..
Они почти подошли к ее дому, как вдруг раздался знакомый голос:
– А, вот и вы! Я уже начинаю ревновать…
Это был Миша. «Как же не вовремя!» – мелькнула мысль, но он сделал несколько шагов им навстречу, оказался освещенным фонарем, и она вскрикнула. Миша пошатывался, лицо у него было совсем белым, рубашка на левой руке порвана и окровавлена.
– Что с тобой?! Идти-то можешь?
Его завели в комнату Анны. Она промыла довольно глубокий порез, помазала йодом и перебинтовала ему руку. «Вылитый Щорс!», подумала она, вспомнив вдруг Джомолунгму и песню ее пьяного репертуара.
***
Миша рассказал историю, как две капли воды похожую на его вечные байки. Анна в нее ни за что б ни поверила, когда бы не раненая рука. Миша признался, что «неотложнейшее дельце», ради которого он пожертвовал общением с другом, состояло в следующем: из Ростова приехали тамошние гастролеры – карточные шулера. Местные готовились дать им бой. Конечно, без такого мастера преферанса, как Миша, обойтись не могли. Да он и сам жаждал надрать задницу ростовским. Те должны были заявиться еще неделю назад, но что-то их задержало. И, как назло, приехали в самый неподходящий момент. Но отказаться он уже никак не мог.
– Их было двое. Один – чернявый с золотыми зубами, лет за сорок. Все время улыбался. Он был главный. С ним – молоденький мальчик, миловидный, с интеллигентным лицом. Ну, сели мы еще днем. Начали по маленькой. Расписали первую пулю. Все вроде чисто. Потом начали вторую. Ростовские предложили ставку «рупь». Это для нас было чересчур. Я никогда больше, чем по гривеннику не играл. В конце концов, сговорились по полтиннику. Уже легче, но все равно проиграться можно до трусов. Тут они начали играть по-серьезному. Я сразу понял – мастера. Были у них какие-то хитрые маяки, благодаря которым они словно открытыми картами играли. Мой партнер явно запаниковал. Я тоже было решил, что нам несдобровать. Но тут я поймал кураж. А в таком состоянии я могу творить чудеса, мизер с тремя дырами объявлять. И все мне сходило с рук. Словом, мы оказались в плюсе. Всего-то ничего, обставили их рублей на сто. И собрались расходиться. Но ростовские – ни в какую. Мол, давайте еще пульку распишем. Видно, их профессиональная гордость была задета. Слово за слово, разговор пошел на повышенных тонах. Вот тут вдруг чернявый достал нож и стал им размахивать. Я и не заметил, как он меня задел. А когда кровь появилась, их как ветром сдуло. Но я все-таки успел ему вмазать по роже. Думаю, пары своих золотых он не досчитается. А проигрыш, гады, не заплатили.
Несмотря на все еще не прошедшую бледность, Миша был доволен, чувствовал себя победителем, хотя и морщился при резких движениях. Попили чаю, и гости ушли.
А назавтра Рувим уезжал. На поезде. «Не люблю самолеты». Миша с Анной его провожали. Как всегда при расставании с милым нам человеком, все были скованны, томились в ожидании отправки и судорожно искали, что бы такое сказать, лишь бы не молчать. Наконец, объявили посадку. Все облегченно вздохнули и начали прощаться.
Она неловко, лодочкой, подала ему руку. И тут он, возможно, впервые за время этого перронного стояния обратился непосредственно к ней:
– Вот… не удалось толком познакомиться.
– Видно, не судьба, – пробормотала она.
– Ну, судьба – дело такое… – сказал он, а потом, уже держась за поручень, вдруг спросил вполголоса:
– Moge Cie pocalowac?
И снова, как тогда, не дожидаясь ответа, поцеловал ее. Только не в губы, но совсем близко от губ. Она покраснела, потянулась к нему и суетливо чмокнула в щеку. Он поднялся в вагон, выглянул, улыбаясь, из окна своего купе, помахал рукой, и поезд тронулся…
Миша прошел несколько метров за поездом, перебинтованная рука поднята со сжатым кулаком – «Рот Фронт». А Анна стояла как вкопанная, пока не поняла, что пальцы ее машинально касаются того места, куда он ее поцеловал, и торопливо отдернула руку.
***
Спустя полгода они почти одновременно получили вызовы от своих внезапно обретенных израильских родственников. На вызовах красовалась изящная, похожая на огромную красную снежинку, печать. На дворе стоял 71 год. Они подали заявления на выезд в местный ОВИР.
Вскоре Мишу вызвали туда «для беседы». Сердитый капитан сначала попросил, а потом потребовал от него, обращаясь, впрочем, «на Вы», забрать свое заявление. «Иначе получите семь лет, как миленький, за организацию антисоветской организации в городе». Спасибо, что не бил и не кричал: «В глаза смотреть, падла!» – рассказывал, похохатывая Миша. Забирать заявление «взад» он отказался.
– А ведь вправду могут посадить, – всполошилась Анна.
– Да ну, – отмахивался Миша. – Времена нынче не те.
Но времена были как раз «те». Через месяц назначили два собрания коллектива Угольного института, на которых предателей увольняли со службы. Сначала их должны были осудить коллеги издательского отдела, а уж потом весь институт. На первое собрание Анна шла как на казнь. Их, конечно, осудили, но пригвоздить к позорному столбу как-то не получилось. Во-первых, двое сотрудников в этот день удачно «заболели» и отсутствовали на законных основаниях. Так что коллег было только пятеро. Правда, присутствовали институтский парторг и профорг. Собрание проходило в ленинской комнате, где начальство со скорбно-суровыми лицами уселось за столом, накрытым бордовой скатертью. Собравшихся оповестили об «отщепенцах, наплевавших в душу не только коллективу отдела, но и всей огромной родине, которая дала им все». Зачитаны были и характеристики на двух предателей. Миша оказался злостным нарушителем дисциплины, разлагающим весь коллектив (что было чистой правдой!). А Анна, наоборот, была высокомерной особой, пренебрегающей коллегами. Потом от имени коллектива выступал профорг. Свою речь он читал по бумажке, но как-то неубедительно. Парторг не выдержал и раздраженно вскричал: «Что вы все мямлите! Уши вянут вас слушать. Пусть лучше скажут коллективу, как они дошли до жизни такой». Миша в своей обычной манере произнес речь, от которой члены преданного им коллектива, прыскали, низко наклоняя головы и пряча лица в ладони. Кто-то даже хлопнул в ладоши. «От возмущения», – пояснил он, съежившись под гневным оком начальства. Анна что-то пролепетала едва слышным голосом, но вину свою не признала, и раскаиваться отказалась.
Парторг, почувствовавший, что в «предательском тандеме» Анна является слабым звеном, набросился на нее, все более распаляясь. «Стыдно, товарищ Фарбер! Хотя какая вы нам товарищ? Вы только посмотрите на нее! Ни рожи, ни кожи! Бледная немочь какая-то. А туда же – ИзраИль ей подавай!»
Тут случилось совсем уж неожиданное. Завотделом, которого не любили и побаивались, вдруг хриплым срывающимся голосом перебил разбушевавшегося парторга:
– Что же это такое? Да, мы осуждаем, но оскорблять женщину… это уж ни в какие ворота…
Он осекся и замолчал. От этих слов физиономия парторга стала свекольного цвета, как скатерть на столе. От удивления он даже задохнулся, беззвучно открывая рот. Но потом взял себя в руки и проскрипел:
– Не ожидал. Вот, оказывается, откуда ниточка тянется. Ведь давно же говорили о вашем неполном служебном соответствии. А я-то еще вас защищал.
Тут парторг развел руками, давая возможность всем оценить его доброту, а потом вдруг рявкнул:
– И партбилет положишь на стол!
Профорг, то и дело наливавший себе в стакан воду из графина, сказал:
– Ладно, пора заканчивать это безобразие. Зачитываю текст резолюции, и приступим к голосованию.
Резолюция была принята единогласно при одном воздержавшемся – все том же завотдела, которого из партии не выгнали, но через пару месяцев тихо «ушли напенсию»
После собрания все сотрудники смущенно подходили к Мише и извинялись – мол, сам понимаешь, старик. У меня семья и все такое…
А Анна и Миша кинулись благодарить начальника, который, кажется, раскаивался в своем демарше.
Общее институтское собрание прошло уже гладко, без сучка и задоринки. Обоих сионистов осудили и единогласно уволили по просьбе трудового коллектива. «Было очень скучно», – подытожил Миша.
***
А еще через полгода Мишу арестовали. Нет, не за антисоветскую деятельность, а за банальное хулиганство, с применением оружия. Вытащили на свет злосчастную историю преферанса и драки с «ростовскими». Был суд. Главным свидетелем выступал золотозубый. Он в лицах показал, как обычная перебранка переросла в драку, когда «этот» (кивок в сторону подсудимого) вытащил нож. Все могло кончиться смертоубийством, но, к счастью нож у него удалось выбить. Да, и при этом он порезался, размахивая смертельным оружием, а, может, это я его, защищаясь, в порядке самообороны.
– А зубки-то выбитые так и не вставил, – злорадно выкрикнул Миша, за что немедленно получил устное внушение от судьи. Кажется, эта фраза стала его единственным утешением.
Вторым свидетелем выступал тот самый Мишин «кореш», с которым они вместе отстаивали честь города в баталии с ростовскими шулерами. Он, кажется, ни разу на Мишу не взглянул, краснел, бледнел и заикался, но выдавил из себя главное – Миша первым достал нож и, вообще, вел себя агрессивно.
Поскольку гражданин Байкис был полностью изобличен, вина его со всей очевидностью доказана, а смягчающих обстоятельств у него не нашлось, только отягчающие, то получил он свои законные пять лет в колонии общего режима.
Анна не сомневалась, что прокуратура очень гордилась тем, как ловко удалось избежать политического процесса, а с ним и огласки, переквалифицировав дело гражданина Байкиса в уголовное.
По счастью, колония, в которую угодил Миша, располагалась всего километрах в ста от их города. Когда она, наконец, получила от него первое письмо, тут же засобиралась везти ему продуктовую посылку. Доброхоты отговаривали, утверждая, что поскольку формально «она ему никто», посылку все равно не примут, она все-таки поехала.