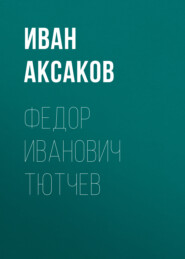По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Все мы равно виноваты
Автор
Год написания книги
1882
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Иван Сергеевич Аксаков
«Не с честью проводили мы роковой 1881 год!.. Отрадно было переступить даже самую грань, условную, внешнюю, отделившую нас хоть бы только летосчислением от этой годины кровавого позора. О, если б и в самом деле осталось навеки за этим рубежом времени все, что было перестрадано и пережито Россией, и невозвратным прошлым стало наше недавнее настоящее с его еще жгучею, неутолившеюся болью!..»
Иван Сергеевич Аксаков
Все мы равно виноваты
Не с честью проводили мы роковой 1881 год!.. Отрадно было переступить даже самую грань, условную, внешнюю, отделившую нас хоть бы только летосчислением от этой годины кровавого позора. О, если бив самом деле осталось навеки за этим рубежом времени все, что было перестрадано и пережито Россией, и невозвратным прошлым стало наше недавнее настоящее с его еще жгучею, неутолившеюся болью! Но не забвению должен быть предан год омерзительного преступления, покрывшего срамом русскую землю; не выветриться должен его след, не легкомыслием должны мы отделаться от тягостных воспоминаний, от грозных внушений минувшего, не к свежему былому вспять, не на прежнее близкое возвращаться, а напротив, вдумавшись в смысл событий, усвоив себе сознанием и сердцем разум испытанной нами Божьей кары, признав и осудив собственные вины – вины тяжкие и обновясь духом, мужественно приняться за предстоящий нам подвиг жизни. Да, пусть Новый 1882 год – первый год, зачинающийся в новое царствование – послужит и началом нашего действительного общего обновления!..
Мы сказали только: началом. Легко молвится слово обновление, но труден и сложен процесс воплощения новой мысли во всем разнообразии внешних явлений; лишь туго и медленно может совершиться перерождение отвердевших от времени форм государственного и общественного бытия, особенно в такой обширной стране как Россия. В наше время, когда историческое сознание не только идет по пятам событий, но чуть ли не опережает их, когда сознаваемое привыкло превозноситься над творимым и в своем нетерпении, не уважая свойств организма, готово торопить его рост всяческими искусственными мерами, такая постепенность обновления должна, разумеется, быть не по нраву всем тем, которые, пренебрегая упорным трудом созидания, ведают только два вида деятельности: в сфере мысли – отвлеченность, абстрактный радикализм доктрин и теорий, в мире практическом – ломку. Насочинить и наделать, особенно с помощью принудительной власти, новых форм для жизни не особенно мудрено, но вдохнуть в них дух жизни, это дело иное и не поддается никакой земной власти в мире. Здесь насилие не остается безнаказанным уже потому, что искаженная жизнь не замедлит воздать за свое искажение самою безобразною действительностью. Наша отечественная почва, можно сказать, загромождена такими пустопорожними формами, числящимися за жизнь, наделенными всеми атрибутами гражданства… Мы, впрочем, не отрицаем естественность, даже законность нетерпения именно у тех, кто живее сознал неправильность и уродство современных явлений, то есть у так называемых образованных общественных классов, но если они действительно созрели (на что уж так давно предъявляют притязание), так эта зрелость должна именно выразиться в признании прав органического процесса жизни, в уравновешении своих стремлений и вожделений с законами исторического развития, с медленным ростом народных масс. Мы уже не говорим о возможном (по нашему же мнению, действительно сущем) различии идеалов так называемой интеллигенции и народа: мы напоминаем первой только о том, что она должна прежде всего считаться с народом и с жизнью. Нам кажется, что такое напоминание не бесполезно в наши дни нетерпеливых ожиданий, легиона возбужденных вопросов и настойчиво навязываемых жизни теоретических разрешений.
Тяжкое наследие досталось нашему молодому царю: никогда задача правления не была сложнее и мудренее. Власть в существе своем так же тверда и крепка, как и прежде, ибо жив русский народ и непреложно его политическое вероисповедание, о нем же стоит и движется Россия. Но орудия власти, но ее снаряд, весь гражданский строй, весь государственный механизм, все, чем пробавлялась наша страна, чем жила и держалась, хоть и с грехом пополам, в течение XVIII и XIX века, – все это проржавело, обветшало, или, вернее сказать, обличилось, наконец, в своей несостоятельности. Никто не сознает этого лучше самого правительства. Чиновник в наши дни – шутка сказать – дрогнул, послабил своей бюрократической спеси, утратил или начинает утрачивать веру в себя! Если бы можно было на время приостановить течение государственной жизни, работа исправления и обновления действующего механизма представляла бы все-таки менее затруднений, – но жизнь не останавливается, и исправлять или сменять части механизма и всю движущую его систему нужно на всем ходу, удовлетворяя всем потребностям государственной ежедневности, разрешая неотложно случайности всяких политических внешних и внутренних осложнений, не упуская притом из виду общих исторических задач будущего. А между тем и исправлять некем, да и как исправлять – еще нерешенный вопрос! Положение поистине трагическое. Все это, конечно, справедливости ради, не мешало бы принимать в соображение при той неустанной критике, которой так привыкли у нас все и всякий подвергать правительственные действия, – критике, положим, и заслуженной, но очень уж легкой и дешевой до пошлости. Кто в наши дни не прохаживается с своими перунами по администрации? Только разве ленивый; у большей части весь ум, вся духовная пища только в этом отрицательном отношении к власти и состоит, так что они стали бы в совершенный тупик и мгновенно бы поблекли и испарились, если б вдруг иссяк повод к такому грошовому либерализму: ничего другого, кроме отрицания и глумления, за душою у них и нет.
У нас также имеют привычку, при нападках на правительство, совершенно выгораживать самое общество, забывая, что контингент государственных мужей и деятелей поставляется тем же обществом, что они вскормлены и воспитаны тою же самою средою, которая потом становится к ним в такое резкое отрицательное отношение! Наша печать любит противополагать «интеллигенцию» правительству. Но разве бюрократия не интеллигенция? Будем же подобросовестнее: оглянем себя самих. Правительство, например, вовсе не кичась старинным самомнением, вполне сознает необходимость обновления личного административного состава, обращается к обществу за содействием и жалуется на «недостаток людей». Общество, с своей стороны, также жалуется на «безлюдье», не подозревая, что этим оно винит отчасти само себя. Мы думаем, что люди все-таки могли бы найтись: их надо искать, но, говоря по правде, едва ли в тех рядах, которые стоят ближе к правительству, величая себя «консервативными», – едва ли даже и в рядах той «либеральной интеллигенции», которая печатно отрицает у русского народа «всякую самобытность в сфере политических, нравственных и религиозных идей» и, презирая его духовную личность, ограничивает свое сочувствие к нему одною лишь стороною его бытия – экономической, с позволения известных иностранных экономических теорий. Как бы то ни было, но людей приходится искать, а не брать готовых: о таковых, на ком бы останавливалось общественное мнение, что-то почти и не слыхать. Точно то же и в вопросах общего политического значения, связанных с общею задачею обновления нашего гражданского строя: может ли правительство, спросим себя по совести, опереться на какое-либо положительное мнение, обществом выдвигаемое? Не только правительство, но само общество, разрешило ли оно себе эти вопросы, согласилось ли на какой-либо одной общей формуле?
Все это мы говорим единственно с тем именно, чтоб упразднить, насколько возможно, обычный, ходячий у нас прием оценки современных явлений, нисколько или очень мало, по нашему мнению, способствующий разъяснению истины. Если прислушаться к общественным толкам, выражающимся и устно, и печатно, так выходит, что во всем «правительство виновато», что от его доброй воли зависит мигом оздоровить и водворить всюду довольство и благосостояние, но что оно, по неразумению или из своекорыстных видов, не прибегает к тому волшебному целебному снадобью, которым будто владеет. Нет, положение наше гораздо печальнее, гораздо сложнее. Общество слишком солидарно с правительством, несравненно (со времен Петра) солидарнее с ним, чем с народом. Если правительство владеет силою, то мысль его вырабатывается все же общественною, тою или другою средою. Городничий Гоголя, обращаясь к публике, в отчаянии воскликнул: «Чему смеетесь?.. Над собой смеетесь!» Эти слова не мешает припомнить и нам, в минуты нашего критического, на правительственные действия обращенного задора. Сваливать поэтому всю вину на правительство, и только на правительство, признавать лишь его единственно ответственным за наше настоящее положение – не только несправедливо, но и вредно в интересах самого нашего оздоровления. Все мы равно виноваты – вот что нам необходимо признать! Без этого признания нет и спасения. Только признав нашу равную долю вины, можем мы помочь и правительству, и себе самим выбраться на путь истины. Не надлежит ли самому обществу, вместо слепого отрицательного отношения к действиям власти, добросовестно допросить себя: все ли исполнено им самим в пределах деятельности ему предоставленных, что могло бы облегчить, упростить государственную задачу нашего времени, что предписывается не столько отвлеченным требованием справедливости, но и простым патриотическим и национальным чувством? Кто решится сказать: «да, все»?
Нет, например, ни малейшего сомнения, что события, подобные событию 1 марта и всем предшествовавшим злодеяниям, не облегчают, а затрудняют и правительственную деятельность, и все наше общественное положение. Возобновление этих событий грозит страшными опасностями всей нашей стране; стало быть и предупреждение этих опасностей представляет интерес не только правительственный, но и общественный, лежит на обязанности как правительства, так и общества, для каждого в сфере его деятельности. Нельзя, без сомнения, не тяготиться всеми принимаемыми правительством стеснительными для честных людей полицейскими мерами охраны: они оскорбительны для нашего чувства. Но не оскорбительнее ли в тысячу раз самый повод к этим мерам охраны, самая необходимость подобных способов предупреждения злодеяний, сделавших Россию притчею во языцех? В эту, а не в другую сторону должно бы быть по преимуществу направлено общественное негодование! Было бы лицемерием утверждать, что в вопросе о так называемой «крамоле» дело идет лишь о какой-то малочисленной шайке извергов и злодеев, которую достаточно переловить, на что-де потребна искусная полиция, каковой у нас нет и т. д. Разве мы не знаем, что контингент этих, по выражению древних грамот, «воров и изменников русской земли», к несчастию, не умаляется, а подновляется новыми лицами; что самая относительная сила этой «шайки» (достаточная, однако, для содержания целой страны в постоянном унизительном страхе опасности) кроется в пассивном сочувствии не малого числа юных по преимуществу голов, начиненных самыми извращенными понятиями? Вот против этого-то извращения понятий, к спасению множества юношей, еще не перешедших от пассивного сочувствия к деятельному участию, и должны бы быть направлены все усилия общества, журнальной печати и литературы. А направлены ли они? Какое детское недомыслие нужно предположить в тех, которые воображают, что, превознося учения Чернышевского, проповедуя материализм, внушая юношам, что нет ни абсолютно нравственной правды, ни обязательного нравственного закона, они тем самым не двигают их на тот путь, который вполне логически приводит к событиям вроде 1 марта! Вина юношей будет лишь в том, что они были последовательнее и в беспощадной своей последовательности мужественнее своих наставников, не задерживались в своем радикальном стремлении никакими предрассудками, никакими личными выгодами, чувствами и вкусами, сдержавшими, в свое время, их робких или неконсеквентных учителей… Таким образом, само общество с своей стороны нисколько не содействует той нравственной реакции в среде нашей молодежи, тому утверждению основных нравственных начал, которое составляет существенную потребность нашего времени и всего сильнее могло бы устранить зло, замедляющее дело нашего всеобщего гражданского обновления…
Но оставим в стороне людей радикальной, нигилистической окраски. В среде ли так называемой «либеральной» партии, которая если не сложилась, то пытается сложиться под именем «либерально-народной» (как величает ее один из откровеннейших ее органов), можно узнать разрешение мучающим нас вопросам, найти искомую правду русской государственной и земской жизни? Именем «либерализма» прикрывается у нас теперь сочетание разных, друг другу по-видимому противоречащих, друг друга исключающих направлений. Но каковы бы ни были личные убеждения отдельных членов этой будто бы партии, важно знать, что такое выражает собою самое знамя, под которым они стоят? Это «либеральное знамя» является до сих пор знаменем отрицания «народной духовной самобытности», отрицания всего, что народу святей и дороже хлеба, – хлеба, о котором, по мнению «либералов», только и жив должен быть русский народ и о котором поэтому они, либералы, считают долгом заботиться очень усиленно. Мы знаем, что в числе их есть люди противоположного образа мыслей, но вольно ж им становиться под это знамя без протеста и оговорки! Это знамя, повторяем, той, чуждой народному духу интеллигенции, которой либеральные стремления весьма тождественны с стремлениями западноевропейской буржуазии: властвовать, при посредстве якобы либеральных внешних порядков, над народом во имя народа. Мы должны признать, что людей этого направления большинство в нашей, по преимуществу городской публике, может быть, даже и в земских собраниях; но публика – не народ, и кроме принадлежащих к той же либеральной публике земцев, есть люди истинно земские, которые народу близки, хотя, может быть, и не претендуют на «народное представительство», чем мнит себя быть наша «либеральная интеллигенция»!
Кого слушать? В какую сторону направиться? Как разобраться в этой путанице понятий, требований и вожделений общественных, когда общество еще само не знает – чего оно хочет, и оторвавшись от народной почвы, никакой иной почвы, кроме иностранной, не обретает пред ногами? Вот вопросы, которые не может не задавать себе правительство. Между тем внутренний верный инстинкт и исторический опыт должны внушать ему, что в России истинный центр тяжести только в народе. Наш устой только в нем; только народность должна и может служить правительству путеводным компасом в бушующей около него теперь, залепляющей очи, метелице идей и понятий.
Верховная власть в России получила первоначально свое уполномочие от народа. Она ответственна, не юридически конечно, а нравственно, по самой природе своей, за его судьбы, ответственна, пред историей. Она не может, не должна иметь в виду только сегодняшний день, но и завтрашний, и дни непосредственно за ним грядущие. Если бы, уступая, например, некоторым требованиям «интеллигенции», она попыталась наделить Россию каким-либо западноевропейским «правовым порядком» на английской консервативно-аристократической основе или на французской мнимо демократической, в сущности буржуазной, или на какой-либо подобной, – она была бы повинна в измене своему народу. Она не может допустить иной основы, кроме русской, народной… Но, к несчастию, самый вопрос о народном, после двухсотлетнего колобродства русской мысли и отчуждения от народной жизни, при затемненном сознании русского общества, подлежит еще точнейшему разъяснению. Из этого видно, что задача нашего общего действительного обновления вовсе не так легка и проста, как это кажется легкомысленным критикам, и что для правильного разрешения ее требуется прежде всего добросовестный, честный труд народного самосознания от самого русского общества.
Но если она не так легка и проста по тому самому, что народные основы – еще искомое для нашего собственного сознания, то, с другой стороны, задача много облегчается уже тем, что наше новое, которого все мы так страстно желаем, не есть что-либо чуждое нашей земле, которое предстояло бы насильственно вводить и акклиматизировать, как приходилось за два века Петру, – а оно – наше старое, вековечное, родное (в смысле принципа, а не формы, разумеется), у нас дома и под рукою. Важно уже то, что мы начали или начинаем это сознавать, уразумели – где его искать… Поищем же и – обрящем!
Важно опознать путь и руководящее начало. В этом смысле нельзя не приветствовать некоторых первых шагов нового царствования, нельзя не пожелать всею душою, чтоб оно продолжало твердо и безбоязненно шествовать в том же направлении. Нельзя не придавать значения уже тому, что в ряду государственных деятелей самое видное место предоставлено теперь нашею Верховною властью человеку, имя которого, столь популярное в России и столь несимпатичное ее врагам, всегда служило знаменем национального русского направления во внешней политике, а потому дает повод надеяться, что такого же национального направления будет держаться новое правительство и в делах внутренних. К сожалению, такие имена у нас редкость. Не на радетелей же Берлинского трактата могла бы, при нашем безлюдье, возложить свои упования Россия!.. Мы с благодарностью относимся и к первым опытам правительственного совещания с нечиновниками, с людьми независимыми, земскими в широком смысле этого слова, желая только, чтобы эти совещания, какое бы дальнейшее развитие они ни получили, остались чужды лживой, нерусской окраски западноевропейского парламентаризма. Было бы, однако, очень полезно, кажется, нам, чтобы правительство яснее, виднее, тверже поставило знамя русской национальности как единственного своего руководящего начала в делах не только внешней политики, но и внутренней, во всех своих начинаниях и действиях, – громче провозгласило принцип народности и выразило как-нибудь знаменательнее действительный союз свой с землею (под которою никак еще пока не следует разуметь существующие «земские учреждения»). Раз национальное начало будет провозглашено, явлено, ознаменовано, – чувство народности пробудится во всех сердцах с новою силою и вытеснит свободно и естественно, даже в среде самой нашей «интеллигенции», весь напускной сумбур чуждых представлений и чувств; народное доверие к правительству придаст ему новую силу, а полный простор, предоставленный полемике мнений, как бы радикальны некоторые из них ни были, послужит не к уловлению шатких умов, а лишь к вящему утверждению истины.
Но опасность, как мы уже вскользь упомянули выше, не в одном либерально-безнародном направлении, а столько же, если не более, в консервативно противонародном, представители которого принадлежат к так называемому высшему обществу (преимущественно в Петербурге) и которому, к несчастию, придает немалую силу опасение, впрочем вполне естественное и законное, замыслов и козней «крамолы». Мы полагаем, что независимо от разных внешних мер охранения, обсуждение которых принадлежит только специальному ведомству, самым лучшим противодействием яду крамолы должно бы служить именно национальное направление самого правительства: благотворные результаты такого направления не замедлили бы сказаться для всей русской жизни. Но в том-то и зло, что есть воззрение, иезуитски коварное, совершенно противоположного духа. Для борьбы с крамолой – слышится подчас – необходимо-де правительству опереться на все устойчивые монархические и вообще консервативные элементы, и не только в высших классах русского общества (которых консерватизм имеет будто своим главным основанием, как и в Англии, крупную собственность), но и в Германии или даже Австрии, и даже чуть ли не в польских графах и остзейских баронах! Понятно, откуда идут такие внушения: они нерусского происхождения. Они идут оттуда, откуда (в особенности после Берлинского трактата) стали умышленно, систематически смущать русское правительство хитрыми инсинуациями, что источник всего зла в России – национальное направление, что нигилизм и так называемый панславизм (читай: русское направление в политике) одно и то же и что для избавления от внутренней крамолы необходимо прежде всего держаться внешней политики князя Бисмарка и графа Кальноки, то есть предать всех славян в жертву Австро-Венгрии и отречься от всех национальных исторических заветов русского Народа!! На этой же струне играют теперь и польские аристократы, В том верном расчете, что ослабление национального чувства в русском правительстве поможет им достигнуть воссоздания Польши в старых пределах, с отторжением от России русского древнего края, или же иного преобразования, но также в ущерб России. Что так поют берлинские сирены во образе дипломатов и привислинские во образе польских ясновельможных аристократов, – это не удивительно, – но что находятся русские по происхождению люди, которые им вторят или подражательно распевают с их голоса – можно поистине диву даться! Это мыслимо разве только в Петербурге, который вообще теперь в ненормальном состоянии духа, чувствуя, что с возобладанием начала национальности его значению и господству настанет непременно конец. Нужно ли объяснять, что такие внушения и советы могут вести правительство только к пагубе и, лишив его народного сочувствия и доверия, не предотвратить, а только усилить опасность и самой крамолы и всевозможных бед?
Единственным руководящим началом русского правительства во всех смыслах и отношениях – может и должно быть начало народное: только оно одно и консервативно и либерально вместе, только оно одно зиждительно: в нем источник и обновления, и оздоровления.