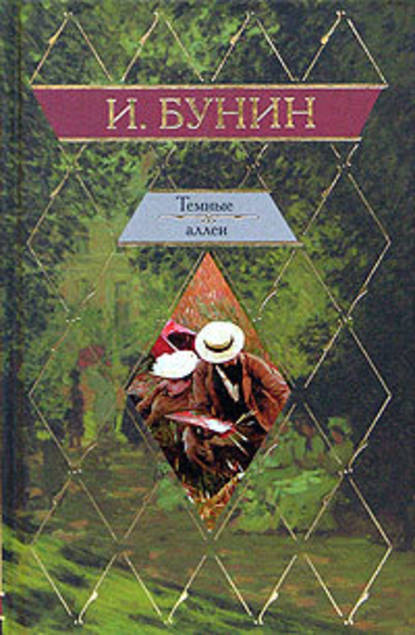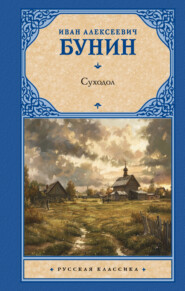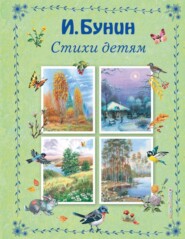По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Темные аллеи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Погодите. Заезжайте ко мне завтра вечером не раньше десяти. Завтра «капустник» Художественного театра.
– Так что? – спросил я. – Вы хотите поехать на этот «капустник»?
– Да.
– Но вы же говорили, что не знаете ничего пошлее этих «капустников»!
– И теперь не знаю. И всё-таки хочу поехать.
Я мысленно покачал головой, – все причуды, мос, невские причуды! – и бодро отозвался:
– Ол райт!
В десять часов вечера на другой день, поднявшись в лифте к её двери, я отворил дверь своим ключиком и не сразу вошёл из тёмной прихожей: за ней было необычно светло, всё было зажжено, – люстры, канделябры по бокам зеркала и высокая лампа под лёгким абажуром за изголовьем дивана, а пианино звучало началом «Лунной сонаты» – все повышаясь, звуча чем дальше, тем все томительнее, призывнее, в сомнамбулически-блаженной грусти. Я захлопнул дверь прихожей, – звуки оборвались, послышался шорох платья. Я вошёл – она прямо и несколько театрально стояла возле пианино в чёрном бархатном платье, делавшем её тоньше, блистая его нарядностью, праздничным убором смольных волос, смуглой янтарностью обнажённых рук, плеч, нежного, полного начала грудей, сверканием алмазных серёжек вдоль чуть припудренных щёк, угольным бархатом глаз и бархатистым пурпуром губ; на висках полуколечками загибались к глазам чёрные лоснящиеся косички, придавая ей вид восточной красавицы с лубочной картинки.
– Вот если бы я была певица и пела на эстраде, – сказала она, глядя на моё растерянное лицо, – я бы отвечала на аплодисменты приветливой улыбкой и лёгкими поклонами вправо и влево, вверх и в партер, а сама бы незаметно, но заботливо отстраняла ногой шлейф, чтобы не наступить на него…
На «капустнике» она много курила и все прихлёбывала шампанское, пристально смотрела на актёров, с бойкими выкриками и припевами изображавших нечто будто бы парижское, на большого Станиславского с белыми волосами и чёрными бровями и плотного Москвина в пенсне на корытообразном лице, – оба с нарочитой серьёзностью и старательностью, падая назад, выделывали под хохот публики отчаянный канкан. К нам подошёл с бокалом в руке, бледный от хмеля, с крупным потом на лбу, на который свисал клок его белорусских волос, Качалов, поднял бокал и, с деланной мрачной жадностью глядя на неё, сказал своим низким актёрским голосом:
– Царь-девица, Шамаханская царица, твоё здоровье!
И она медленно улыбнулась и чокнулась с ним. Он взял её руку, пьяно припал к ней и чуть не свалился с ног. Справился и, сжав зубы, взглянул на меня:
– А это что за красавец? Ненавижу!
Потом захрипела, засвистала и загремела, вприпрыжку затопала полькой шарманка – и к нам, скользя, подлетел маленький, вечно куда-то спешащий и смеющийся Сулержицкий, изогнулся, изображая гостинодворскую галантность, поспешно пробормотал:
– Дозвольте пригласить на полечку Транблан…
И она, улыбаясь, поднялась и, ловко, коротко притопывая, сверкая серёжками, своей чернотой и обнажёнными плечами и руками, пошла с ним среди столиков, провожаемая восхищёнными взглядами и рукоплесканиями, меж тем как он, задрав голову, кричал козлом:
Пойдём, пойдём поскорее
С тобой польку танцевать!
В третьем часу ночи она встала, прикрыв глаза. Когда мы оделись, посмотрела на мою бобровую шапку, погладила бобровый воротник и пошла к выходу, говоря не то шутя, не то серьёзно:
– Конечно, красив. Качалов правду сказал… «Змей в естестве человеческом, зело прекрасном…»
Дорогой молчала, клоня голову от светлой лунной метели, летевшей навстречу. Полный месяц нырял в облаках над Кремлём, – «какой-то светящийся череп», – сказала она. На Спасской башне часы били три, – ещё сказала:
– Какой древний звук, что-то жестяное и чугунное. И вот так же, тем же звуком било три часа ночи и в пятнадцатом веке. И во Флоренции совсем такой же бой, он там напоминал мне Москву…
Когда Федор осадил у подъезда, безжизненно приказала:
– Отпустите его…
Поражённый, – никогда не позволяла она подниматься к ней ночью, – я растерянно сказал:
– Федор, я вернусь пешком…
И мы молча потянулись вверх в лифте, вошли в ночное тепло и тишину квартиры с постукивающими молоточками в калориферах. Я снял с неё скользкую от снега шубку, она сбросила с волос на руки мне мокрую пуховую шаль и быстро прошла, шурша нижней шёлковой юбкой, в спальню. Я разделся, вошёл в первую комнату и с замирающим точно над пропастью сердцем сел на турецкий диван. Слышны были её шаги за открытыми дверями освещённой спальни, то, как она, цепляясь за шпильки, через голову стянула с себя платье… Я встал и подошёл к дверям: она, только в одних лебяжьих туфельках, стояла, обнажённой спиной ко мне, перед трюмо, расчёсывая черепаховым гребнем чёрные нити длинных висевших вдоль лица волос.
– Вот все говорил, что я мало о нём думаю, – сказала она, бросив гребень на подзеркальник и, откидывая волосы на спину, повернулась ко мне. – Нет, я думала…
На рассвете я почувствовал её движение. Открыл глаза – она в упор смотрела на меня. Я приподнялся из тепла постели и её тела, она склонилась ко мне, тихо и ровно говоря:
– Нынче вечером я уезжаю в Тверь. Надолго ли, один Бог знает…
И прижалась своей щекой к моей, – я чувствовал, как моргает её мокрая ресница:
– Я все напишу, как только приеду. Все напишу о будущем. Прости, оставь меня теперь, я очень устала…
И легла на подушку.
Я осторожно оделся, робко поцеловал её в волосы и на цыпочках вышел на лестницу, уже светлеющую бледным светом. Шёл пешком по молодому липкому снегу, – метели уже не было, всё было спокойно и уже далеко видно вдоль улиц, пахло и снегом и из пекарен. Дошёл до Иверской, внутренность которой горячо пылала и сияла целыми кострами свечей, стал в толпе старух и нищих на растоптанный снег на колени, снял шапку… Кто-то потрогал меня за плечо – я посмотрел: какая-то несчастнейшая старушонка глядела на меня, морщась от жалостных слез:
– Ох, не убивайся, не убивайся так! Грех, грех!
Письмо, полученное мною недели через две после того, было кратко – ласковая, но твёрдая просьба не ждать её больше, не пытаться искать, видеть: «В Москву не вернусь, пойду пока на послушание, потом, может быть, решусь на постриг… Пусть Бог даст сил не отвечать мне – бесполезно длить и увеличивать нашу муку…»
Я исполнил её просьбу. И долго пропадал по самым грязным кабакам, спивался, всячески опускаясь всё больше и больше. Потом стал понемногу оправляться – равнодушно, безнадёжно… Прошло почти два года с того Чистого понедельника…
В четырнадцатом году, под Новый год, был такой же тихий, солнечный вечер, как тот, незабвенный. Я вышел из дому, взял извозчика и поехал в Кремль. Там зашёл в пустой Архангельский собор, долго стоял, не молясь, в его сумраке, глядя на слабое мерцанье старого золота иконостаса и надмогильных плит московских царей, – стоял, точно ожидая чего-то, в той особой тишине пустой церкви, когда боишься вздохнуть в ней. Выйдя из собора, велел извозчику ехать на Ордынку, шагом ездил, как тогда, по тёмным переулкам в садах с освещёнными под ними окнами, проехал по Грибоедовскому переулку – и все плакал, плакал…
На Ордынке я остановил извозчика у ворот Марфо-Мариинской обители: там во дворе чернели кареты, видны были раскрытые двери небольшой освещённой церкви, из дверей горестно и умилённо неслось пение девичьего хора. Мне почему-то захотелось непременно войти туда. Дворник у ворот загородил мне дорогу, прося мягко, умоляюще:
– Нельзя, господин, нельзя!
– Как нельзя? В церковь нельзя?
– Можно, господин, конечно, можно, только прошу вас за-ради Бога, не ходите, там сичас великая княгиня Ельзавет Федровна и великий князь Митрий Палыч…
Я сунул ему рубль – он сокрушённо вздохнул и пропустил. Но только я вошёл во двор, как из церкви показались несомые на руках иконы, хоругви, за ними, вся в белом, длинном, тонколикая, в белом обрусе с нашитым на него золотым крестом на лбу, высокая, медленно, истово идущая с опущенными глазами, с большой свечой в руке, великая княгиня; а за нею тянулась такая же белая вереница поющих, с огоньками свечек у лиц, инокинь или сестёр, – уж не знаю, кто были они и куда шли. Я почему-то очень внимательно смотрел на них. И вот одна из идущих посередине вдруг подняла голову, крытую белым платом, загородив свечку рукой, устремила взгляд тёмных глаз в темноту, будто как раз на меня… Что она могла видеть в темноте, как могла она почувствовать моё присутствие? Я повернулся и тихо вышел из ворот.
12 мая 1944
ЧАСОВНЯ
Летний жаркий день, в поле, за садом старой усадьбы, давно заброшенное кладбище, – бугры в высоких цветах и травах и одинокая, вся дико заросшая цветами и травами, крапивой и татарником, разрушающаяся кирпичная часовня. Дети из усадьбы, сидя под часовней на корточках, зоркими глазами заглядывают в узкое и длинное разбитое окно на уровне земли. Там ничего не видно, оттуда только холодно дует. Везде светло и жарко, а там темно и холодно: там, в железных ящиках, лежат какие-то дедушки и бабушки и ещё какой-то дядя, который сам себя застрелил. Все это очень интересно и удивительно: у нас тут солнце, цветы, травы, мухи, шмели, бабочки, мы можем играть, бегать, нам жутко, но и весело сидеть на корточках, а они всегда лежат там в темноте, как ночью, в толстых и холодных железных ящиках; дедушки и бабушки все старые, а дядя ещё молодой…
– А зачем он себя застрелил?
– Он был очень влюблён, а когда очень влюблён, всегда стреляют себя…
В синем море неба островами стоят кое-где белые прекрасные облака, тёплый ветер с поля несёт сладкий запах цветущей ржи. И чем жарче и радостней печёт солнце, тем холоднее дует из тьмы, из окна.
2 июля 1944