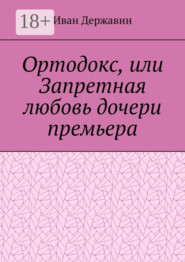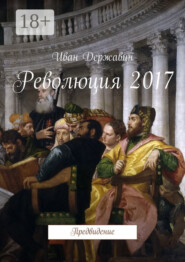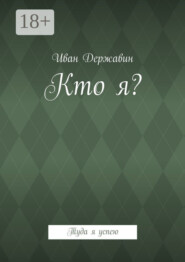По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Звезды, которые мы гасим. Эхо любви
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А это мы вам скажем и покажем, когда к вам приедем, – услышал он.
– Вы – это, простите, кто?
– Вот вы тогда и увидите. У вас улица Чертановская, дом девять, квартира сорок три?
Вероника категорически запретила ему давать кому-либо свой адрес и телефон – не то время. Но позвонившая это уже знала, да и бояться в его годы было поздновато. Он ответил дипломатично:
– Предположим. Но намекните, с кем или с чем будет связан ваш визит? Как мне следует к нему подготовиться?
– Да уж без бутылки не обойтись, – засмеялась трубка. – Сюрприз вас ожидает большой, и я надеюсь, лично для вас приятный. А вот будет ли он приятен для вашей жены, в этом я не уверена.
Это кое-что проясняло. Ларшин предположил, что звонившая знала или слышала о Веронике. Что правда, то правда. Любое посещение именно его, а не ее, она встретила бы, мягко говоря, без восторга, так как чаще всего оно сопровождалось выпивкой. Хоть ничего и не скажет и будет любезна, но будет открыто поглядывать на его рюмку, отчего всякое желание пить и говорить пропадет.
Завтра и послезавтра были выходные дни, да и не то было время, чтобы вести домой незнакомых, и он сказал:
– В таком случае подъезжайте в любой день после воскресенья. Но у меня тоже есть условие. Вначале мы встретимся в метро, раз вы не говорите, кто вы. Сколько человек вас будет?
– Два с чекушкой, – засмеялась трубка, и опять послышался говор. – Нам удобнее встретиться с вами у вашего дома.
– Хорошо, как скажете. Когда вас ожидать?
– В понедельник в двенадцать. А чтобы вам не было скучно в эти дни, вспомните всех своих девушек в то время, у которых от вас могло появиться потомство.
Услышав гудки, ошарашенный Ларшин продолжал держать трубку у уха в надежде услышать хоть что-нибудь дополнительно.
4. Ребенка ему Вероника так и не родила. Сначала он об этом не думал, был занят учебой, языками, работой. А когда спохватился, было уже поздно начинать жизнь с другой. К тому же Вероника и теща держали его мертвой хваткой. Да и Веронику было жалко бросать. Баба она в принципе не плохая, по-собачьи ему преданная. И с этим делом у нее было нормально. Темпераментом она никогда не отличалась, но ребенка хотела больше всего на свете и старалась, как могла. Это уже потом у нее произошел сдвиг по фазе. Может, оттого что перестаралась, и весь свой запас досрочно истратила. Говорят же, что в этом деле каждому отпущен свой лимит. Кому двадцать тысяч мало, а кому и двадцать раз достаточно. Как у него с Броней. Что и с кем у него до и после нее было, все забыл, а с ней помнит каждую минуту.
Стоп! – стукнул он себя по лбу, подходя к рынку. Броня как раз попадала в середину названного женщиной периода. Они познакомились перед новым годом и расстались в январе.
Однако он решил, что женщина могла иметь в виду не только декабрь и январь, а отрезок чуть подлиннее, например, с октября по март. Перед Броней у него была Вилька, и после наверняка кто-нибудь был из числа мимолетных увлечений, улетучившихся, как сигаретный дым. А этих двоих он помнил, особенно Броню. Вернее, ее он никогда не забывал.
Почувствовав перебои в сердце, он приложил к левой руке большой палец, прислушиваясь к пульсу. Остановки были через три удара. Ему сказали, что сердце не выдержит, когда оно будет биться через раз. Значит, ждать ему осталось не долго.
К смерти он относился спокойно, скорее безразлично, считая, что пожил и повидал на этой земле достаточно и ничего нового больше не познает, а главное, больше ничего полезного для своей страны, которой всю жизнь служил верой и правдой, в такой обстановке уже не сделает. Еще он считал, что для человечества его уход не будет большой потерей. Он – не тесть с тещей, известные ученые, убитые грабителями месяц назад. Со всего света телеграммы с соболезнованием шли. А он даже не выполнил условие, согласно которому жизнь считалась не напрасной. Детей не оставит, дом не построил, разве что посадил на каком-нибудь субботнике дерево. Он полагал, что жизнь заканчивал бесславно. В этом смысле звонок обнадежил его. Выходит, что кто-то после него все-таки останется на этом свете. А что, я не против, подумал он. Выходит, не напрасно проживу жизнь. Если под четвертинкой женщина имела в виду ребенка, то мне он будет внуком или внучкой. Сама она, судя по непринужденности ее тона, скорее всего была женой сына, с кем переговаривалась во время разговора. Сам он позвонить не захотел, что было вполне понятно: обижен за свою мать. Вот только бы еще знать, кто она.
Не знакомый с чувством отцовства, Ларшин, тем не менее, наряду с ошарашенностью, был приятно взволнован.
Учитывая, что сегодня был особый повод, он купил бутылку водки с томатным соком и, не удержавшись, тут же у ларька выпил бутылку пива. Хмель немного сняла с него напряжение от звонка, и он даже вспомнил анекдот о небритом мужике, который выпытывал у старухи через дверь, делала ли она сорок лет назад аборт. Когда она созналась, что делала и ребеночка выбросила в ведро, обрадованный мужик заорал: «Мам, открой! Это я, твой сынок!».
Дома, сидя в кресле и попивая коктейль «Кровавую Мэри», он окунулся в воспоминания. Неожиданно он сделал открытие, что названный женщиной период оказался важным, не только в его жизни, но и для страны, если иметь в виду снятие со всех постов в середине ноября шестьдесят четвертого года Хрущева. Его Ларшин не любил за топорное разоблачение культа личности Сталина, ставшее осиновым колом, воткнутым в спину великого государства.
Вместе с тем Ларшину была по душе наступившая в те годы оттепель – время раскрепощенных стихов и костровых песен. Писал стихи и он.
Октябрь – ноябрь 1964 года
1. Из бардов больше всех Андрей признавал Окуджаву, а из молодых поэтов – Евтушенко. Именно признавал, так как любил только Есенина и раннего Маяковского, ну и, конечно, со школы Лермонтова. Этих он любил самозабвенно и будет восхищаться их гениальностью до конца дней своих. А тех двоих, Окуджаву и Евтушенко, выбросил из памяти, как ненужный хлам после того, как они стали ярыми антисоветчиками. Сам же он, чтобы не быть не скромным, свои собственные стихи даже не признавал, а просто писал, считая, что этот процесс помогал ему лучше понять творчество других. Но девушкам он читал исключительно свои стихи, от которых они, как правило, млели.
Кроме одной, писавшей их лучше его.
Девушек у него, по сравнению с другом детства Борисом, было совсем не много, а стихов еще меньше, учитывая, что сочинял он в основном длинные поэмы.
Больше всех его стихи любила Вилька, с которой он познакомился в октябре этого года. Она не только знала их все наизусть, а даже их сама напечатала, сделав подобие сборника. С ней он оказался верен своей романтичной натуре влюбляться с первого взгляда. Увидев ее мимоходом возле танцевального клуба в окружении десятка парней допризывного возраста, не спускавших с нее рабски покорных глаз, он не мог оторвать взгляда от ее тростниковой фигуры, откинутой вверх (потому что все парни были намного выше ее) маленькой головки с темной коротко стриженой прической, от бледного овального лица с глазами, издали похожими на две кляксы туши на ватмане. Когда уже в клубе, куда он пошел из-за нее, он, нагло пройдя сквозь кордон парней, стоял перед ней, и она минуту изучала его с головы до ног, глаза ее больше походили на маслинки в сметане, а схожесть с кляксой придавали им густые черные ресницы. В такие глаза даже не смотрят по-есенински («Мне бы только смотреть на тебя, видеть глаз светло карий омут»), а тонут, не всплывая. Глаза своей жены Андрей представлял именно такими, и у него довольно скоро мелькнула мысль жениться на Вильке. Она, эта мысль, пришла ему впервые за четыре с лишним года пленения Ритой, и он обрадовался ей. Ему уже было двадцать восемь, и его называли холостяком.
Очевидно, Вилька тоже заимела на него виды, если вскоре назначила свидание у себя дома, когда в сборе было все семейство: отец с матерью и две младшие сестренки с такими же глазами, взятыми у матери, похожей на цыганку или турчанку. Андрею не понравилось, что мать была довольно толстая, но он успокоил себя тем, что отец был в два раза худее ее, и Вилька могла остаться фигурой в него. Отец был майор стройбата и настолько некрасивый, что Андрей засомневался в его истинном отцовстве красавиц дочерей. Зато он был оригиналом. Будучи сам Кузьмой Матвеичем, он назвал дочерей Виолеттой, Аидой и Изольдой. Андрея он сразу принял в семью и, выпив, стал выпытывать, где они намерены жить после свадьбы.
Еще месяц назад Андрей, выросший во дворе, усеянном, как цыплятами, девчонками, отцы которых не вернулись с войны, услышав о женитьбе, моментально навострил бы лыжи и отвалил, а здесь продолжал сидеть и даже поддерживал разговор. Тут он вспомнил, что еще ни разу не поцеловал будущую жену, не говоря о другом, а лишь любовался ею, и в этот же вечер начал с поцелуя. Как он и ожидал, она совсем не умела целоваться. Ее острый язычок лишь на мгновенье выглянул скворчонком и тут же исчез, но прикосновение с ним было для него сладостнее многочасового лобзания с другими опытными девушками. Даже не пытаясь представить наслаждение от другого, в следующее свидание он пригласил Вильку к себе домой, подгадав, когда мать работала в ночную смену. Она пошла с большой опаской в отношении его намерений, которые он не особенно скрывал, раз уж дело шло к свадьбе. Стараясь его не обидеть, она нежно отводила его руки, но ведь и она была не из камня и с трудом сдерживала себя. В конце концов, это у них произошло спустя несколько встреч после разговора с отцом о свадьбе, и Андрей не смог скрыть своего разочарования. Узнав причину, Вилька страшно оскорбилась и порывалась уйти. Он не стал ее удерживать, но она осталась и заплакала. Ему стало жаль ее, и он начал ее успокаивать все тем же способом и почти успокоился сам от ее вдруг ставших горячими поцелуев. Но она к следующему свиданию сходила к врачу и передала Андрею дословно его слова о том, что у половины девушек потеря девственности происходит незаметно для мужа, совсем не так, как раньше у купеческих дочек. Он усмехнулся, вспомнив, что говорили ему другие: одна наткнулась на сук, катаясь на санках, другая еще в детсаду нечаянно воткнула не туда пальчик, а знакомая Бориса даже обвинила во всем майского жука, нагло залезшего тоже не по адресу. Увидев его усмешку, Вилька опять намеревалась уйти и опять не ушла. Успокаивая ее и себя, он обратил внимание, что она быстро вошла во вкус и все время хотела. Они опять заговорили о свадьбе, но ее пришлось отодвинуть к новому году, так как в конце ноября Андрею предстояла служебная командировка на Украину. Там он понял, что Вилька затмила собой Риту окончательно. Он отправил ей поэму и получил ответное письмо, начинавшееся словами «Здравствуй, любимый Андрюшенька, солнышко мое ненаглядное, радость моя единственная, любовь моя вечная», которые, как ему казалось, затмили его поэму. Он не мог дождаться конца командировки и уехал на два дня раньше.
Вернувшись домой вечером, он тотчас побежал к Вильке. Но дома ее не оказалось. Мать, показавшаяся ему растерянной от его прихода, сказала, что не знает, к кому из подруг пошла после работы дочь, однако во взгляде двенадцатилетней Аиды Андрей уловил что-то заговорческое с ней. Ситуацию осложнила трехлетняя Изольда, рисовавшая за своим столиком, которая крикнула:
Папа всела скасал, сто она опять пойтет к Хлиске.
Аида, не удержавшись, прыснула, а мать сердито прикрикнула на Изольду:
Не говори глупость. Сиди и молча рисуй.
Догадавшись, что Изольда прошепелявила что-то лишнее, Андрей хотел спросить, кто такая Хлиска, но не посчитал нужным.
2. По дороге домой он заглянул в пивной бар. К нему подошел Васька Плот, все такой же конопатый, и уставился с усмешкой в пьяных глазах. В детстве он был главарем барачной шпаны, и Андрей играл против него в футбол двор на двор. В последней послеигровой драке Васька полоснул Андрея по спине ножом, однако тот скрыл от милиции, кто это сделал.
Васькина усмешка действовала на нервы, и Андрей, плеснув в его стакан пиво, сказал:
Уйди, Васька, не до тебя.
Раздумываешь, надо ли на ней жениться?
От удивления Андрей чуть не проглотил сигарету. Васька увел его, все еще не пришедшего в себя, к себе в барак. У входа в него дымили такие же, как и тогда парни с косыми челками допризывного возраста, почтительно расступившиеся перед Васькой. В длинном коридоре воняло керосином и помоями от ведер у дверей. Но в комнате, где Васька жил один после получения матерью с женатым старшим сыном квартиры, было свободно, не как раньше, кровать на кровати, и обставлена она была по-современному.
К свадьбе с Вилькой обстановку поменял, – сказал Васька и подал Андрею кипу писем.
В одном из конвертов Андрей нащупал фотографии и вынул их. На всех была Вилька, одетая и полуголая, кое-где в обнимку с Васькой, трезвым и счастливым до соплей. Открыв первое попавшееся письмо, Андрей прочитал: «Здравствуй, любимый Васенька, солнышко мое ненаглядное, радость моя единственная, любовь моя вечная». Дальше читать он не стал и поинтересовался, почему расстроилась их свадьба. Васька сбегал к соседям за бутылкой самогона и после того, как они, не закусывая, выпили по стакану, ответил:
– Вот и у меня была такая же морда и даже хуже, когда я узнал, что она путается с Гришкой Керосином. – Васька весело засмеялся. – Ага, вот теперь у тебя точно такая.
Другой она не могла быть, потому что представить Вильку с ее ангельской внешностью рядом и тем более под Гришкой было противоестественно. Керосинщика Гришку знали в городе все, как раньше в деревне знали юродивых. Он был метра под два, неимоверно худой и с вогнутой спиной, над которой свисала голова, как у нормальных людей она свисает над грудью. Она, голова, была окружена полуметрового диаметра ореолом из кучерявых волос, заканчивавшихся лохматыми, как у Пушкина, до подбородка бакенбардами. Лицо его было изрыто крупными оспинными вмятинами, и на нем горели глаза с черно-красными белками. Одежду Гришка носил всех цветов радуги с преобладанием красного. В конце века на него и не взглянули бы, но в шестидесятые годы он был огородным пугалом, и Андрею почему-то казался грязным, скорее всего от того, что за версту от него несло «Шипром», смешанным с керосином.
Но возмутила Андрея больше даже не связь Вильки с Васькой и Гришкой (любовь, как говорится, зла, полюбишь и козла), а то, что она нагло лгала ему, строя из себя девочку. Естественно, такая жена была не для него, особенно после Гришки.
А Васька, разбавляя самогон слезами, стекавшими в рот по небритой щеке, рассказывал свою горькую историю любви с Вилькой, почти копию Андреевой любви к ней: и как без памяти влюбился в нее, шестнадцатилетнюю, даже в сладком сне не помышляя о взаимности, и как, познакомившись с ней с помощью ее отца, год боялся прикоснуться к ней, как к хрустальной вазе, пока накануне свадьбы, вернувшись из командировки, не узнал, что она давно путается с Гришкой.
– Знаешь, что я, Андрюха, сделал? Я ей ничего не сказал и год драил, как последнюю сучку. Поделись, что она тебе набрехала, почему не целка? – Андрей рассказал. – А мне плакалась, что ее в четырнадцать лет изнасиловал взвод стройбатовцев.
– Зачем ты мне все это рассказываешь?
– Другому я бы и под пыткой не рассказал, а ты свой в доску. Не хочу, чтобы она и тебе испортила жизнь, как мне. Не веришь? Пойдем в керосиновую лавку. Она сейчас там у него.
Андрей ему поверил и в лавку не пошел. Он поинтересовался, что это за парни, дежурившие у ее подъезда.
– Ее обожатели. Каждый из них влюблен в нее без памяти и отдаст за нее жизнь, не задумываясь. У нее неземное притяжение к себе.