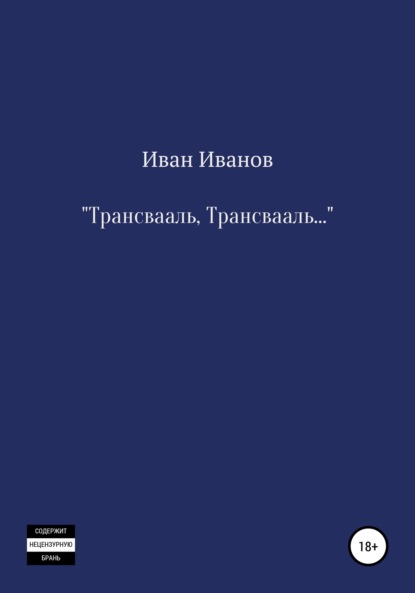По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трансвааль, Трансвааль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Негоже, чтоб разобщенный струмент ржавел под чужими кониками, а мастер, обченаш, умер бы от тоски по делу.
Не все, разумеется, удалось собрать председателю, многое из инструментов селяне уже растеряли или загубили, а затем и выбросили за ненадобностю на задворки.
Столяр, глянув на свой «струмент аглицкий стали», разложенный на лавке председателем, аж простонал от боли:
– Это надо ж было так иззубрить! Как только ни у кого руки не отсохли от такой бесшабашной работы?
– Да, Ионыч, и никто, обченаш, не сдох от стыдобы, – переминаясь с ноги на ногу, повинился председатель и поспешил на улицу, хватая воздух открытым ртом, как задохнувшийся налим в непроточном бочаге.
Столяр, наверное, так и не притронулся бы к своему иззубренному «струменту», не направь его на точиле старший сын Гавря. Да и нечаянная мысль, наехавшая на него груженой телегой при разговоре с председателем на Певчем кряжу, видно. не давала покоя. «Ей-ей, положат в гвоздатую домовину», – стращал он себя.
И вот по мере выздоровления в Ионыче проходило и внутреннее отчуждение к своему ремеслу. И он задумал смастерить себе гроб и крест, чтобы не быть никому обузой при своей кончине. Благо и из «матерьяла» кое-что осталось на дворовых поветях, куда не посмел или не догадался сунуться Арся-Беда. Теперь каждое утро, как только домашние расходились по своим делам (сыновья плотничать – строили конюшню, старшая невестка и жена Груня – на прополку колхозного огорода), столяр взбирался к себе на чердак.
– На потолок слазаю, доча, – предупредил он лишь невестку, жену младшего сына. – Помаленьку матерьял буду готовить, может, потом надумаю поделать что-то, – схитрил он перед молодухой на сносях, чтобы ненароком не напугать ее своим замыслом.
В один из тех дней мимо дома столяра проходила бывшая вековуха, набожная Феня, которую в деревне теперь, после ее неожиданных родов заглазно звали тетушкой Копейкой. И вот, заслышав лившиеся с чердака столяра чистые без задору всплески направленного фуганка, она аж вся просветлела: узнала руку мастера.
– Слате осподи, оклемался-таки наш Ионыч! – Феня перекрестилась и засеменила легкой походкой вечной девы в правление колхоза, чтобы поделиться радостью со своим духовным братом, бывшим церковным старостой Иваном Ларионовичем Анашкиным, ныне – колхозным счетоводом.
А в это время в правлении бил баклуши Арся-Беда: играл в шашки со счетоводом, окуривая его едучим самосадом.
Иван Ларионович, отмахиваясь ладонями от дьявольского фимиама, на правах наставника (это он научил Арсю игре в шашки себе на потеху) смело трунил над ним:
– Эхе-хе-хе, Арся, Арся… Вот вы все, как вас величают, «проклятьем заклейменные», пыжитесь, то да се, а на деле-то только и умеете зорить жизнь. Норовите сразу в дамки, а попадаете в нужник. – И известный новинский книгочей не утерпел, чтобы не козырнуть своей образованностью: – Лесков-то правильно писал: мол, Русь-то хоть и давно окрещена, но она еще не просвещена.
– Контра недобитая твой Лесков! – отмахнулся Арся, нещадно теребя растопыренной пятерней свою огненно-багряную волосню на голове и колючую щетину на широких скулах.
Иван Ларионович отер ладонью жиденькие, изжелтевшие волосенки, густо напомаженные гарным маслом, и той же сальной рукой, подобно коту, намывающему гостей, провел по своему и без того лоснившемуся гладкому лицу. И дальше продолжал в том же елейно-шутливом тоне, явно намереваясь устроить подвох своему сопернику как на шашечной доске, так и в разговоре:
– Эхе-хе-хе… подумать только, почти тысячу лет наша православная церковь ухлопала на то, чтобы ты, Арся, стал человеком. А ведь ты по своим деяниям от этого, ох, далече!
– Дак, кто жи я, по-твоему, кадило ты недобитое? – незлобливо буркнул Арся, обдумывая очередной ход.
– Ты лучше спроси не «кто я такой?», а «откуда я такой взялся?» – поправил счетовод, пырская мелким смешочком.
– А мы, Иван Ларионович, да будет тебе известно, из тех же ворот, откуда вышел весь народ! – шало парировал бездельник. – А то ишь навыдумывали твои попы, наподобие нашего расстриги – батюшки Ксенофонта, кубыть мы все изначала были настроганы из Адамового ребра, а сам Адам слеплен из глины.
– Так, Арся, так, – снисходительно согласился Иван Ларионович. – Все верно, Арся! Только такие, как ты, и пошли живьем от нее… волосатой. – И он резко сделал ход шашкой. – Ешь да садись в «нужник», облезьяна ты нечесаная!
Иван Ларионович, оставляя соперника в глубоком размышлении над клеточной доской, поднялся с табуретки и пошел к распахнутому окну, за которым разгорался летний день. Глянул на деревенскую улицу, и ему вдруг вспомнилось прошлое лето, когда отец Ксенофонт брел по ней, воротясь из дальних странствий.
* * *
…После сокрушения Новино-Выселковского ТОЗа, раскулачивания мельника и столяра, пала в Новинах и церковь Николы-чудотворца на-Иван-пороге, с которой сбросили колокола, а бесценные ее иконы начисто сожгли в подгорье у реки, как хлам.
Доморощенные, еще желторотые «иконоборцы», которыми коноводил уполномоченный Арся-Беда, потом перевернули вверх дном и поповский дом. Искали серебро с золотишком, а удовлетворились медяками и кухонной утварью – чугунами и горшками да чупизником с ложками. И этому были рады, всё не с пустыми руками идти домой. А заодно свели с батюшкиного подворья и его жеребую кобылу Сороку для разжития колхоза.
Матушка всю ночь в слезах простояла на коленях при зажженной лампаде перед иконой Тихвинской богородицы, а под утро, не раздеваясь, легла в кровать и больше не проснулась.
В своей заупокойной молитве во время свершения последнего христианского обряда новинский батюшка сказал о своей жене:
– Тихо отошла любящая душа… Земля тебе пухом, великомученица Анастасия.
Придя с погоста к себе в дом, отец Ксенофонт взял подвернувшиеся под руку овечьи ножни и спокойно отмахнул свою никудышную козлиную бороду.
– Аминь, – сказал новинский расстрига-батюшка и вышел из собственного дома, даже не заперев за собой дверь. А дойдя до калитки, воротился назад, разулся у порога, аккуратно поставил на ступеньки крыльца сапоги – авось, и сгодятся кому-то. И пошел по земле босиком. В руках у него был, будто архиерейский посох с жезлом, перевернутый сковородник.
Где обретался, по каким городам и весям бродил новинский батюшка, в деревне никто не ведал. Прошла весна, а о нем никаких вестей не было слышно. За сенокосной колхозной запаркой новинские и вовсе забыли о своем духовном пастухе. Богомольные старушки уже внесли имя батюшки в свои поминальники и, молясь об упокоении его души, говорили:
– Хороший был у нас батюшка: наставлял крещеных уму-разуму, увещал заблудших в мирских пагубах…
И вдруг накануне престольного Спаса отец Ксенофонт – жив-здоров – объявился в деревне со сковородником в руке. И опять со своей, так знакомой никудышной бороденкой, только, правда, как бы припорошенной мукой. Словно бы новинский батюшка все это время провел в мирских трудах на мельнице.
– Постарел-то как, святой отец, – жалеючи зашлась тетушка Копейка, которая первой встретила его на новинской улице.
– Старость – венец мудрости, раба божья Фекла, – кротко ответствовал батюшка.
И вот, прежде чем поселиться у себя в церковной сторожке, разоренной и загаженной (добротный его дом, построенный мирянами прихода, был уже разобран и поревезен в соседнюю деревню под сельсовет), отец Ксенофонт прямо с дороги – усталым и запыленным – заявился в правление колхоза.
– Здравствуй, сын мой, раб божий Сим Палыч, – низко кланяясь, распевно поздоровался с председателем новинский батюшка, облаченный в мирское отрепье. – Вот вернулся в родные палестины блудный сын… Долго блуждал я в безутешных молитвах своих во кромешней тьме, которая обширно разлилась на всей нашей необъятной земле.
И отец Ксенофонт как мандат своей невиновности перед новой властью выудил из-за пазухи какой-то несусветной кофты затертую газету «Правду» со статьей Сталина «Головокружение от успехов».
– В сей грамоте, сын мой, сам Вождь Вождей признал: на местах в суетности совершена, мол, великая тщета противу своего народа.
Новинский председатель читал эту статью. И не без пристрастия. На многие вопросы утверждения новой жизни искал ответы и не нашел их. А так как о разоренных церквах в ней упоминалось лишь мимоходом, то и священнослужителя принял на первых порах сдержанно. Однако сознавая, что немало наломали дров во время коллективизации, он вскоре помягчел и разговорился:
– Да, отче, вот ушел ты из деревни, и у нас как-то сразу угасла радость при рождении младенцев. Без крестин-то на них теперь смотрим уже не как на своих кормильцев при старости, а как на сегодняшние лишние рты за столом. Как бы уже и не рады стали продолжению рода своего. Вот ведь какая, обченаш, нескладица вышла.
– Согласен, сын мой, мирскими сельсоветскими записями о рождении человека мы лишили дитятей духовных наставников, а их родителей – духовных сестер и братьев. Ведь слово крестных для дитяти бывает дороже родительских нравоучений, – с пониманием отозвался новинский батюшка.
– Да оно, отче, и по жизни-то так, все по уму было! Ведь и родителям без кумы и кума, которых сами выбираем, как говоришь, в духовные сестры и братаны себе, чтобы сообща наставлять на путь истинный своих неслухов, тоже жить тошно. К тому ж и крестным перед своими крестниками надо, обченаш, всегда держать себя в чести.
– В этом-то, Сим Палыч, и есть вся мудрость таинства крещения человека. Это и есть тот вечный венец духовной жизни человека, в котором и не поймешь, кто кого учит по кругу: то ли курица яйцо, то ли яйцо курицу.
– Об этом, отче, я и веду разговор. Вот ведь ничего нового и поучительного не дали людям, а на то, что создано самой жизнью веками, ввели великомножительные запреты да положили заказы. – От негодования председатель так ерзанул на табурете, что тот с надсадом хрястнул под ним. – Одно не заказано: бестолковая работа, которая, обченаш, становится людям в маяту, петухом в горле кричит!
– Сын мой, к сказанному надо присовокупить и кромешное словоблудие. Живем, аки сучьи детеныши, в сплошном лае… А взять нашу вселенскую татьбу. Ведь допущенное раскулачивание тех, кто в поте лица добывал свой хлеб насущный, это не что иное, как узаконенный разбой средь бела дня! За такое распутство, ох, зело спросится на том свете в Судный день! – От волнения у отца Ксенофонта нездорово зарозовели щеки, а на большом с лиловым отливом утином носе выступили кровяные прожилки.
– Насчет «того света», отче, не взыщи строго – не верую я в загробную жизнь… Хотя, – председатель развел руками, – хотя, ежель хорошо задуматься: жил-жил человек и в один прекрасный день – хлоп! – и понесли вперед ногами. Выходит, что на этом и шабаш для него. Нет, тут, думаешь, что-то не так! Этак можно и извериться в себе, ежель заранье знаешь, что в конце концов изойдешь в назем. А раз так, спрашивается, для чего тогда жил-был на свете? Стоило ли, мол, маяться годы? К чему тогда страх, стыд, совесть, жалость к ближнему?
– Сия тайна, сын мой, не за семью печатями, – похвально отозвался отец Ксенофонт, растроганный откровенным разговором. – Плоть человеческая полнится духом, то есть верой в бесконечность нашего бытия… А твое бдение, «есть ли загробная жизнь или нет?» – это и есть познание сей тайны.
Председатель же продолжал гнуть свое:
– Скорее всего, отче, я все-таки Фома-неверующий, ежель говорить о Боге. Хотя напрочь и не отрицаю его. Тем-то и обиднее для меня, что многое не приемлю из того, что делается сейчас в нашей жизни. Вот повсеместно обезглавливаем купола храмов, а крест-то целовать нас все-таки заставят! Только вопрос – какой? А целовать будем, и к этому, обченаш, катимся… А то, что ты вернулся в родные палестины, живи, отче, места под солнцем всем тут хватит. Завтра велю освободить церковь от склада. – И, печалясь содеянным, Сим Палыч, сказал покаянно: – Надо ж было дожить до такого бесчестия: крыши амбаров раскрываем на прокорм скотине, а храмы занимаем под кладовые! Так что обряжай церковь по силе возможности, да и старики подмогут, и приступай к своей службе. Понятное дело, с крестинами и венчаниями пока повременим, может, что еще и прояснится. Да и не в моей власти, обченаш, давать на это разрешение. К тому ж и крестить пока не в чем. Купель-то Арся уже давно продал за «чекушку» проезжему тряпичнику. И где теперь эту утварь сыщешь, ума не приложу. Ведь не станешь же купать младенцев в корыте, как поросят! А обряды править над усопшими – вот как надо, отче! – При этих словах председатель резанул ребром ладони себе по кадыку. – Негоже, чтобы человеку, уходящему из жизни, не полагалась заупокойная молитва. Дожились до неслыханного конфуза: умерших уважаемых однодеревенцев, сродственников своих хороним безо всякого обряда. Закапываем молчком, как околевшую скотину.
– Да, да, воистину глаголишь, сын мой, – тряся головой, сокрушался отец Ксенофонт. – Девять с лишним веков наша пресветлая церковь творила себя во благо крещеных на Руси. И вот вся эта кладезь духа человеческого опрокинута к ногам зачумленной опрични… Но не будем велико сумняшеся! – возвысил он голос. – Наша церковь на своем-то веку и не такие видывала гонения, выстоит и на этот раз. Думаю, это аки испытание, ниспосланное нам свыше, для укрощения гордыни и укрепления духа нашего.