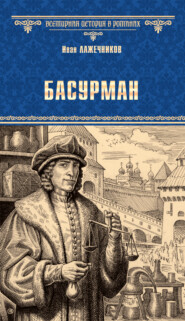По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Басурман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я уж в этом успел. Расскажу после, как все было.
С этим словом плутоватый мальчик выпорхнул из комнаты.
– Ты, может быть, удивляешься, – сказал Аристотель, – что мой Андреа не чужой здесь, в доме. Прибавлю, спальня девушки и божница[28 - образная.] хозяина ему равно доступны. Иностранцу? Латынщику? – заметишь ты, имев уж случай испытать отвращение, которое питают русские ко всем иноверцам. Нет, сын мой, сын итальянца, ревностного католика, не иностранец в Московии, он настоящий русский, он окрещен в русскую веру. И это по собственному моему желанию, без всякого принуждения какой-либо власти.
– Я думал, что книгопечатник Бартоломей…
Молодой человек не договорил; Аристотель прервал его:
– То есть ты думал, что он один способен на такие перемены. Не стыдясь, говорю: я то же сделал с моим сыном. Видел ты его, моего Андреа? Понял ты это дитя, это сокровище, которое дал мне бог, этот завет жены, и какой, если бы ты знал!.. Фиоравенти его отец, Фиоравенти гордится им как одним из лучших своих созданий. Да, одним… потому что есть другое, которым – стыжусь тебе сказать – дорожу выше всего. Я самолюбив, эгоист, готов для своей славы, для своего имени жертвовать бог знает чем; одним словом, ты узнаешь меня короче – я безумец… Но в безумной любви моей к себе я не забыл сына, я подумал и о благе его. Не скрою от тебя, мой друг, Московия должна быть моим гробом: это закон необходимости. Я нужен царю ее. Инженер, литейщик, кирпичник, каменщик, зодчий, я все для него; и нет сил, которые исторгнули бы меня отсюда, нет чародейства, которое помогло бы мне возвратиться в отечество мое, пока не явятся люди, способные меня заменить. А они бог весть когда будут!.. Великий князь осыпает меня своими милостями, жалует своею казною, ласкою, приязнью; знаменитые полководцы его, высшие синьоры, не смеют входить к нему без доклада – я это делаю во всякое время; взор, которого дрожат сильнейшие, еще ни разу не обращался на меня с гневом. Но этот же великий князь, этот милостивец и друг, окружил меня такою железною сетью, сквозь которую я не могу прорваться; каждый шаг мой, каждое действие мое ему известны. Зная свою участь, я решился посвятить ему свою жизнь, свои дарования. Может быть, я сам не против этой необходимости, может быть, я сам искал ее. Пускай Московия будет моим гробом, лишь бы над этим гробом поставил я себе памятник, которому некогда просвещенные народы придут удивляться! В этом создании я всего себя положу, и свое отечество, и свои знания, и жизнь, и вечность свою. Но сын, которого завещала мне жена, сын, которого я сам так много люблю… я и о нем забочусь. Великий князь за мои заслуги поклялся не оставить мое дитя, когда меня не будет. Он ласкает его и теперь, как не ласкает детей своих. Я хочу, чтоб Андрей Аристотелев был полководцем…
– Почему ж не художником по наследству?
– Почему, почему?.. Вот видишь, и тут есть безумное самолюбие!.. Я хочу, чтобы в свете был один Фиоравенти-художник. Да, да, узнаешь меня короче, молодой человек! Не одну юность сожигают огненные мечты! И под этим пеплом (он указал на свои седые волосы) кроется, может быть, волкан неукротимый… Но обратимся к сыну. Зоркие глаза Иоанна прочли в душе моей, и Иоанн называет моего Андреа своим полководцем, беседует с ним о ратном деле, разжигает его молодое сердце славою воинскою, а сыновьям своим строго наказывает, на помин души его, не забывать отцовского воеводу. Хорошо, думал я, умру – так он будет богат, в милости у царей русских; но какими глазами, каким сердцем станут смотреть на иноверца, на басурмана, при дворе будущего великого князя бояре, духовные, народ? Меня охраняет теперь от их ненависти и презрения имя строителя церковного, необходимость во мне; теперь меня и других иноверцев охраняет еще грозная воля Иоанна, перед которою все падает – и люди, и судьба. Но властители с таким согласием всемогущего ума и воли родятся веками. Кто поручится за будущее?.. К тому ж я хочу, чтобы и без насилия власти любили моего Андреа… хочу, чтобы все русское, все состояния, народ окружил его приветом, как родного, как соотечественника. Тогда может он подняться высоко… Не долго думал я. Андреа принял русскую веру; крестным отцом был ему Иоанн младой: он же будет сыну моему отцом, когда меня не станет.
– Прости ж мне за необдуманный упрек. Понимаю, я мог бы сделать то же для блага милого, дорогого сердцу существа. Но… теперь другой вопрос. Не сочти его дерзостью молодого человека, которого все права на твое снисхождение в одном имени воспитанника твоего брата, прими этот вопрос только за знак любви к прекрасному. Скажи мне, каким великим памятником зодчества в Московии хочешь передать свое имя будущим векам?
Покраснел снова художник, пожал с восторгом руку молодому врачу и с трепетом губ, пояснявших его душевное волнение, отвечал:
– Да, ты поймешь меня, молодой человек! Твой приезд в страну дикую, на краю Европы, без видов корысти, из одной любви к человечеству, есть уже свидетельство прекрасной души. Цель моя также выполнение идеи высокой, изящной (по крайней мере я так думаю… в этом я по крайней мере убежден). Тебе могу открыть мою душу, мои помыслы. Расскажу тебе и свои страдания, и свои надежды, расскажу, как я боюсь умереть, не сделав ничего достойного бессмертия, и чем хочу купить себе вечность на земли. Слушай же меня с снисхождением, которого прошу у твоего доброго сердца для моих слабостей.
Ты знаешь, – продолжал Аристотель, – что я сделал себе небольшое имя в Италии.
– Памятники художества, которые ты оставил в ней, не дадут ему умереть, хотя б ты ничего более не произвел.
– Нет, друг мой, эти памятники, более смелые, нежели гениальные, очистят мне небольшое место в летописях художества. Опыты еще не подвиги. На подвиг я только что собрался. Когда я жил в Италии, смутно носился в душе моей идеал, которому должно было осуществиться в возможных земных размерах, позднее, именно здесь, в Москве. Еще тогда не давал он мне покоя. Преследуя его, как призрак, и не имея сил выполнить, я изнемогал под бременем тоски невыносимой. И мудрено ль? я – человек, слабое, ничтожное созданье – хотел создать достойный храм богу, дивному богу, творцу вселенной. Все, что ни принимался выполнить линиями, красками, образами, телесными силами, казалось мне бесконечно малым перед тем идеалом, который создала божественная часть меня. Тоска, муки невыразимые! Я призвал на помощь прошедшее и настоящее, спрашивал каждый век, требовал к себе на лицо отжившие и живущие народы, сотни поколений, чтобы каждый из них принес достойную лепту на построение храма богу. И на зов мой распались Парфенон, Колизей, Алгамра, София, полки окаменелых мифов сошли с своих подножий, пошатнулись пирамиды Египта с своих оснований и стали вокруг меня, как столетние дубы над муравьем, едва заметным для глаза. «Какой храм создашь ты богу, когда мы только гробы для человека? А над этими гробами трудились веки и миллионы людей!» – казалось мне, спросили меня великаны древнего мира, и воображение мое замерло при этом вопросе. И вот, когда на зов мой явились города и народы, когда каждый из них принес мне по одной букве для божественной поэмы, я не мог даже сложить этих разнородных букв в одно гармоническое слово. Мудрено ль? Каждая буква была вдохновение; все они отозвались в душе моей, как дивный хор, составленный из мириады ангелов, сопутствуемый бурею со всех концов света. Голова моя закружилась, сердце замерло; я изнемог… Меня хотели даже запереть в дом сумасшедших: может быть, я этого и стоил. Долго был я в болезненном состоянии. Наконец, спасенный помощью врача, любовью к сыну, я опомнился и на первый голос рассудка решился бежать из Италии, где, думал я, самый воздух распаляет воображение до безумия. Турецкий султан звал меня, чрез дожа Марчелли, в Константинополь. Что высокого, изящного, говорил я сам себе, создам для народа, врага Христова, для того, кому и в будущем свете обещан утонченный разврат? Разве фонтаны и бани! разве сераль!.. Сераль, бани, когда основание храма живому богу положено было в сердце моем?.. Я отвергнул золото султана. Затем новый вызов. Этот был от здешнего государя и с предложением построить храм Пречистой божьей матери. С удовольствием… что я говорю? с восторгом принял я новое предложение. И вот я здесь. Здесь, друг мой, думаю осуществить идеал, который столько лет смутно носился в душе моей: теперь я согласил его с возможностью, с силами одного поколения, с волею и средствами одного царя. Я перевожу его уж на бумагу. Когда кончу чертежи, ты увидишь и скажешь мне, достоин ли он своего назначения. Тогда представлю его суду Иоанна, Софии и митрополита. Но каких трудов, какой борьбы стоило мне, чего еще будет стоить, чтобы привесть мою идею в исполнение! Чего должен я еще бояться от решения светской и духовной властей, расположенных к моему делу, но худо знакомых с прекрасным в искусстве! Ах! если бы ты знал, как дорого куплен мною каждый шаг, подвигающий меня к цели, сквозь какие груды мелочей, щепетильной вещественности должен я очищать себе путь к этой цели! Не хвастаясь, скажу, надо было иметь мою железную волю, мою пламенную любовь к искусству, чтобы не изнемочь под бременем обстоятельств. Представлю тебе только несколько образчиков тех нужд, тех препятствий, с которыми я должен был бороться. Вызванный сюда для построения храма Пречистой, я нашел не только искусство зодчества, самую исполнительную часть ее, самые материалы – в грубом, младенческом состоянии. Прежде чем созидать, надо было мне разрушать научить. Старая церковь Успения, которая отчасти упала при русских строителях, другими частями еще крепко держалась, несмотря на усилия тысячи рук повалить ее. За показанную мною механику барана почли меня чародеем. Не умели делать кирпичей: сколько времени употребил я на обучение этому делу! Своими руками мял глину, делал формы, показывал способы обжигания. Не умели делать известки, и эту я сам учил растворять.
– Кирпич, известку?.. Когда сам бог гляделся в душе твоей?.. Тяжкая борьба духа с веществом! я изнемог бы под ней.
– Тяжело было, это правда; но я не изнемог. О! у меня достало силы и на другие тяжкие испытания. Наступила война с Новгородом. Иоанн из зодчих переименовал меня в розмыслы, то есть в инженеры. Он требовал, чтобы я строил мосты для перехода войск через реки – я строил мосты. Он захотел, чтобы я лил пушки, колокола – я вылил их. Он изъявил желание, чтобы я управлял огнестрельными орудиями – я выполнил его желание. Нужно было чеканить монету – я чеканил для него монету. Одним словом, я сделался всем, чем хотел Иоанн, чтобы я для него был. Не подумай, чтобы все это делал я из любви, из преданности к царю: люблю его, предан ему как человек, благодарный за милости его ко мне; но другие чувства, другие побуждения управляют моими действиями. Я сделался рабом его железной воли, поденщиком ее, чтобы выиграть его милости и доверие, а милости и доверие его нужны мне для исполнения моей идеи. Храм, который хочу создать, исполинского размера: для него нужна мне едва ли не половина кремлевской высоты, сотни тысяч рук, груды золота. Ценою тяжких, едва ли не кровавых трудов, шаг за шаг покупаю у моего властителя каждый аршин земли, сотню рук, горсть серебра. И покуда – признаться ли тебе, мой друг? – одна борьба, одни труды, а победы и в помине нет! Я все еще далек от цели моей; я только выкупил надежду некогда достигнуть ее. Кто знает? может быть, горькая существенность, крайность, невежество убьют мой подвиг в его зародыше; может быть, смерть застигнет меня прежде, нежели я совершу его…
Здесь художник глубоко вздохнул, и слезы выступили на глазах его. Антон пожал ему руку, по сочувствию одной и той же любви к прекрасному, хотя и в разных видах, и спешил облегчить сердце его горячими утешениями, в которых художник так нуждался.
Глава II
РУССКОЕ МОЛОДЕЧЕСТВО
На третий день Аристотель пришел к молодому врачу, чтобы вместе с ним отправиться к великому князю.
– Государь в восхищении от твоего приезда и горит нетерпением тебя увидеть, – сказал художник. – А чтобы лучше понравиться властителю, который любит окружать себя блеском созданного им двора, ты, придворный врач его, явись к нему в лучшей своей одежде. Коня твоего приказал я снарядить; надо сказать тебе, что здесь стыдно знатным людям ходить пешком. Поспешай. Наши кони помогут нам урвать часок у времени, чтобы взглянуть мимоходом на преходящий город. Так называю его, потому что будущая Москва готова встать на пепелище нынешней.
В несколько минут Эренштейн кончил щегольской убор свой, и он уж на лихом коне, в сопутствии Аристотеля и пристава, также верхами. Как хорош был он в своем германском наряде! как приятно отделялся черный бархат епанечки, опушенной мехом, от белизны его лица и выпадали струи его белокурых волос из-под фиолетового бархата берета, осененного пуком волнующихся перьев! Скромность его звания и врожденный характер не позволяли расточать на одежде золото, которым воспитатель щедро одарил его; и потому проблескивало оно скупо, но со вкусом, только в пряжке берета, в аграфе епанчи и в поясе, державшем у бока его кинжал. Чтобы испытать свою лошадь, он сделал на ней несколько кругов по двору. Как ловко сидел Антон на коне, как мастерски управлял им! И немудрено: в воспитании его не было презрено ни искусство верховой езды, ни искусство владеть мечом, потому что, – говорил его воспитатель, – все это необходимо врачу. Тебя зовут к больному, за тобою прислали лошадь, какая попалась: скачи на помощь ближнему в бурю, в грозу, ночью, по худым дорогам. Жизнь твоя в опасности; оскорбили твою честь, твое человеческое достоинство: умей защитить и то и другое, умей омыть унижение в крови оскорбителя. Изо всего этого можно видеть, что любая принцесса переименовала бы нашего лекаря в свои пажи или паладины.
Пусто было на дворе боярском, когда они выезжали. На этот раз никто из челядинцев не смел смотреть на басурмана даже сквозь щели забора, потому что он всю ночь провозился с нечистыми. Так изъясняли его заботы до петухов об устройстве походной его аптеки: он не дал себе покоя до тех пор, пока не приготовился выполнить свои обязанности тотчас же по первому призыву страждущего. И вот как невежество перетолковало его полуночные заботы! Пустоте его жилища, отчуждению от него хозяев дома, которые решительно отказывались его видеть, несмотря на приветливые его засылы к ним, он грустно изумился.
– Ты приехал в страну народа-младенца, – говорил ему в утешение Аристотель, – не удивляйся, если он дичится всего нового для него. Подожди, все переделают терпение, время, снисхождение, игрушки и лоза наставника-царя, если нужно будет, когда слишком разблажится младенец. Впрочем, узнавши этих дикарей покороче, ты найдешь в них много прекрасных качеств, полюбишь их и приобретешь их любовь. Увидишь, многое еще осталось в них прекрасного от смеси коренных нравов с тевтонскими, хотя татарщина заморила в них также много хороших качеств.
– Буду еще мечтать о любви их, – сказал Эренштейн, – пока не совсем разочаруюсь.
В это мгновение Аристотель бросил быстрый, зоркий взгляд на терем Анастасии.
– Каково ж? – прервал он, усмехаясь. – Недаром молва, что ты чародей, обогнала тебя на пути сюда.
– Я не понимаю, что хочешь сказать.
– А вот что. Мой стариковский глаз поймал сейчас опыт твоего чародейства. Ты не видал, а я видел очень хорошо, как одна из наших московских красавиц, и, конечно, первая из них, осмелилась взглянуть на тебя с жадным любопытством из окна своего терема. Даром что ей представили тебя уродом с рогами и копытами!
– Где ж, где ж она? – спросил молодой человек, краснея.
– Где она?.. Спроси-ка лучше, где молния, когда она уж блеснула. Я видел только огненный взгляд ее черных, итальянских очей, и… боюсь… не было б грозы. Так скоро забыть страшную заповедь отца!.. Долго ль до беды?.. Одиночество… прекрасный молодой человек, в таком близком соседстве… девическое сердце… Ох, ох, синьора Анастасия, боюсь за тебя! Нет, боялся бы, хотел я сказать, если бы не уверен был в моем молодом друге.
Антон пожал ему руку, как бы в благодарность за хорошее мнение о нем, и, когда они выехали из ворот, новость предметов, окруживших со всех сторон приезжего и чужеземца, отвлекла его мысли от синьорины Анастасии. Нечего таить, она делалась для него интересною, как таинственная героиня рыцарской повести, скрываемая в очарованном замке.
Выехав из Флоровских ворот и переехав один из трех деревянных мостов, перекинутых через ров, сопутствующий каменной стене от Неглинного пруда по Москву-реку, они очутились на Красной площади. Навес для пушек под именем пушечного двора, ряды балаганов под именем лавок, которые можно было снять и опять поставить в несколько часов, как лагерь, каменный дом московского головы (Ховрина), множество деревянных церквей, достойных названия часовней, – вот вам и площадь, называемая Красною. Далее все то же, что и прежде видел путешественник в посадах. Но все эти бедные храмы пылают, освещенные религиозным усердием. В окнах домов не проглянет человеческое лицо, разве изредка таинственно зашевелится тонкая занавесь и из-за нее мелькнет атласная ручка или вспыхнет чародейный глаз. По улицам встречается то рабское унижение, то грубое нахальство; прохожий или кланяется едва не до земли, или под грубую народную поговорку свищет вам вслед, так что мороз по коже подирает. Чувство одного привито владычеством татар, другого воспитано грубостью нравов и дикостью природы. Между ними родное молодечество, кровь с молоком, шапка набекрень, кушаком туго подпоясанное, готово поднять вас на зубок или на кулак. Оно ж готово отдать душу за крестового брата, за красную девицу-полюбовницу, за все родимое – мать, землю, царя и веру. Эти оттенки русской народности или чужеземного влияния старался Аристотель объяснить своему товарищу. Иностранцы – татаре, жиды, итальянцы – попадались им нередко навстречу – цемент, которым Иоанн сплачивал без разбора свое здание!
– Ты видишь до сих пор домишки и часовни, – сказал Аристотель, стыдясь за смиренную наружность русской столицы, как бы за свой родной город, – ты увидишь и скромный дворец великого князя и спросишь меня: «Где ж, наконец, Москва?» На это отвечу тебе: «Москва, блестящая столица Иоанна, вся в сердце, в думе его; а что он только задумает, то должно исполниться, как мысль судьбы». Еще прибавлю: «Москва в художниках, которых ты привез с собою и приехавших до тебя». Не пройдет десяти лет, как она осуществится, и ты изумишься ее превращению. Видишь, сколько иностранцев встречается нам: это все материалы для будущего величия и красоты Москвы. Посмотри, сколько разрушено домов и церквей за оградой кремлевской, и помысли, какую сильную, непобедимую волю должен иметь правитель народа, который осмелился наложить молот разрушения на эту давность и святыню! Зато сколько ропоту произвело это обновление!.. Невежественная чернь не смотрит на будущую пользу; обеспокой только ее настоящее для собственного ее блага, и она негодует. Расскажу тебе, что предположено сделать по моему очерку. Вот, подле твоей квартиры, воздвигнут ворота Флора и Лавра, и над ними будет возвышаться прекрасная стрельница. От них потянется красивая стена: она опояшет всю середину города и украсится множеством красивых башен. Каменный дом твоего хозяина и вот этот, головы московского, только первенцы большого семейства, которое не замедлит появиться в свет. Зодчим, приехавшим с тобой, поручено воздвигнуть великолепный палласт для приема послов и дворец для великого князя. Прибавь к этому множество каменных великолепных церквей, которые предположено построить, и соборный храм Успения богоматери, мне порученный. Видишь огромные материалы, которые стеснили Кремль и налегли на сердце его, и расчисли, что можно из них сотворить: это половина только того, что готовлю для храма. Из этих груд гений Италии должен поставить вечный памятник себе или торжеству над собой вещественности. Горе мне, если победа будет за ней!
– Отдали от себя печальную мысль. Пусть надежда не гаснет в душе твоей и освещает для тебя в будущем твое создание.
– Так прочь, печальная мысль!.. Видишь, вот эти сотни домишек, эти десятки церквей сломаются по одному слову Иоанна… Ах, друг мой, это будет храм, настоящий храм богоматери! Вступая в него, потомки произнесут с уважением имя Фиоравенти Аристотеля… Да, Антонио, я не умру в нем.
– Кто так пламенно говорит о будущности, презирая мирские почести и корысть, конечно, произведет достойное бессмертия, – отвечал Антон с восторгом.
Долго еще говорили они о построении храма, о прекрасном месте, с которого он будет господствовать над всем городом, и в такой беседе подъехали на высоту у Спаса на бору, откуда можно было видеть всю Занеглинную. Здесь взор молодого человека приковался к двум точкам, которые двигались с двух противных берегов Неглинного пруда. Едва успел он различить, что это были два мальчика. Они столкнулись на средине замерзшего пруда и завязали рукопашный бой. В несколько мгновений на обоих берегах протянулись две линии.
– А? будет потеха! – воскликнул Аристотель. – Кстати увидишь образчик русского молодечества.
– Что это такое? – спросил Эренштейн.
– Борьба партий, – отвечал художник, улыбаясь, – наши Гвельфы и Гибелины. Видишь, два мальчика завязали бой. Но эти искры брошены могучею рукою, и, как скоро сшиблись, ждать большого пожара. Подъедем ближе к месту действия.
И они поспешили на берег пруда, к стороне кремлевской.
Обе линии, составленные из детей, сошлись стена на стену с ужасным криком и смешались в рукопашном бою. Пароль одних был: занеглинные, других городские. Вслед за ними росли и росли новые линии, одна выше, сильнее другой, и наконец явились избранные бойцы. Все схватилось. Бились толпами, рядами, в одиночку. Схватка была горячая, «какой давно не запомнят», говорили старики. Зрители, большею частью люди зрелых и преклонных лет, составили черное кольцо по берегам пруда. Из среды их раздавались похвалы победителям или нарекания побежденным: одни стоили венка лаврового, другие бича. Слышалось беспрестанно: «наша взяла! молодцы!» или «трусы! вороны! блинники!». Только тяжко ушибенные, выбившиеся из сил, или младшие, уступая место старшим и сильнейшим, выбывали из числа сражающихся. Видели изувеченных, но не слыхали ни одного стона. Даже родные, принимая их из побоища, не жаловались, не показывали сильной горести. Бранили только трусов или хвалили удальцов. Оправившиеся от ушиба становились в ряды зрителей и вместе с ними спешили принять живое участие в партии своей возгласами хвалы или пристыжения.
Молодой врач предложил, через Аристотеля, услуги свои увеченным. Вместо ответа отцы со страхом заслоняли от него детей своих и начисто отказывались от этой помощи. Легче было видеть их уродами! Уж конечно, пришедши домой, пускали четверговую соль и уголья на воду и спрыскивали ею свое детище, на которого поглядел недобрый глаз басурмана.
Наконец толпы бойцов стали редеть, голоса утомляться. Но еще трудно было решить, чья сторона взяла. Вдруг с берегов пруда поднялись единодушные крики: «Мамон! Симской-Хабар!» И толпы, как бы обвороженные, опустили руки и раздвинулись. Воцарилось глубокое, мертвое молчание.
– Какие молодцы! – сказал Антон. – Если не ошибаюсь, лицо одного мне знакомо.
– Немудрено: это сын твоего хозяина. Он прозван от народа Хабаром, что значит выигрыш, прибыль. Едва ли был случай, чтобы сторона его проиграла на кулачном побоище, почему он и заслужил это прозвание. Ныне сыскали ему нового противника, и, по-видимому, опасного. Посмотри, какой могучий, ловкий атлет! Отцы их враждуют, сыновья теперь соперники; но здесь, на черте, где они сходятся для единоборства, должны они сбросить всякую вражду, всякое неприязненное чувство друг к другу. Еще объясню тебе: целью ударов их должны быть части тела от шеи до пояса. Горе тому, чья рука посягнет на лицо противника! Это своего рода рыцарское игрище; благородство и здесь девизом сражающихся.
В самом деле, лишь только выборные люди отмерили заповеданный круг, за который бойцы не смели переступить, соперники скинули шапки и низенько поклонились на четыре стороны. Мамон увидел среди тысячей пылающий взор отца и ничего более, услышал с неглинной стороны громкие хвастливые возгласы друзей. Симской-Хабар увидел спокойный, одобрительный взгляд отца; городская сторона молчала, как стена каменная. Сын Образца взглянул на гору кремлевскую, к Спасу на бору… там, в высоком тереме, было открыто окно и в нем развевалось пунцовое покрывало. Он знал, чья рука выставила этот стяг, и радостно подошел к своему сопернику.
Сошлись оба молодца и поцеловались. Роковая тишина!.. Тысячи боятся дохнуть, боятся хоть на миг отвесть глаза от зрелища. Вот соперники померялись взглядами… изготовились. Улыбка самонадеянности блеснула на губах Хабара, легкое содрогание пробежало по губам Мамона.
– Бедный Мамон! прозакладую сто против одного, что сын Образца победит, – сказал Эренштейн, разгораясь более и более. – Каждое движение его есть уж твердый щит и ловкий меч. О, когда бы мне можно было перекрестить острую сталь с этим искусным бойцом!
С этим словом плутоватый мальчик выпорхнул из комнаты.
– Ты, может быть, удивляешься, – сказал Аристотель, – что мой Андреа не чужой здесь, в доме. Прибавлю, спальня девушки и божница[28 - образная.] хозяина ему равно доступны. Иностранцу? Латынщику? – заметишь ты, имев уж случай испытать отвращение, которое питают русские ко всем иноверцам. Нет, сын мой, сын итальянца, ревностного католика, не иностранец в Московии, он настоящий русский, он окрещен в русскую веру. И это по собственному моему желанию, без всякого принуждения какой-либо власти.
– Я думал, что книгопечатник Бартоломей…
Молодой человек не договорил; Аристотель прервал его:
– То есть ты думал, что он один способен на такие перемены. Не стыдясь, говорю: я то же сделал с моим сыном. Видел ты его, моего Андреа? Понял ты это дитя, это сокровище, которое дал мне бог, этот завет жены, и какой, если бы ты знал!.. Фиоравенти его отец, Фиоравенти гордится им как одним из лучших своих созданий. Да, одним… потому что есть другое, которым – стыжусь тебе сказать – дорожу выше всего. Я самолюбив, эгоист, готов для своей славы, для своего имени жертвовать бог знает чем; одним словом, ты узнаешь меня короче – я безумец… Но в безумной любви моей к себе я не забыл сына, я подумал и о благе его. Не скрою от тебя, мой друг, Московия должна быть моим гробом: это закон необходимости. Я нужен царю ее. Инженер, литейщик, кирпичник, каменщик, зодчий, я все для него; и нет сил, которые исторгнули бы меня отсюда, нет чародейства, которое помогло бы мне возвратиться в отечество мое, пока не явятся люди, способные меня заменить. А они бог весть когда будут!.. Великий князь осыпает меня своими милостями, жалует своею казною, ласкою, приязнью; знаменитые полководцы его, высшие синьоры, не смеют входить к нему без доклада – я это делаю во всякое время; взор, которого дрожат сильнейшие, еще ни разу не обращался на меня с гневом. Но этот же великий князь, этот милостивец и друг, окружил меня такою железною сетью, сквозь которую я не могу прорваться; каждый шаг мой, каждое действие мое ему известны. Зная свою участь, я решился посвятить ему свою жизнь, свои дарования. Может быть, я сам не против этой необходимости, может быть, я сам искал ее. Пускай Московия будет моим гробом, лишь бы над этим гробом поставил я себе памятник, которому некогда просвещенные народы придут удивляться! В этом создании я всего себя положу, и свое отечество, и свои знания, и жизнь, и вечность свою. Но сын, которого завещала мне жена, сын, которого я сам так много люблю… я и о нем забочусь. Великий князь за мои заслуги поклялся не оставить мое дитя, когда меня не будет. Он ласкает его и теперь, как не ласкает детей своих. Я хочу, чтоб Андрей Аристотелев был полководцем…
– Почему ж не художником по наследству?
– Почему, почему?.. Вот видишь, и тут есть безумное самолюбие!.. Я хочу, чтобы в свете был один Фиоравенти-художник. Да, да, узнаешь меня короче, молодой человек! Не одну юность сожигают огненные мечты! И под этим пеплом (он указал на свои седые волосы) кроется, может быть, волкан неукротимый… Но обратимся к сыну. Зоркие глаза Иоанна прочли в душе моей, и Иоанн называет моего Андреа своим полководцем, беседует с ним о ратном деле, разжигает его молодое сердце славою воинскою, а сыновьям своим строго наказывает, на помин души его, не забывать отцовского воеводу. Хорошо, думал я, умру – так он будет богат, в милости у царей русских; но какими глазами, каким сердцем станут смотреть на иноверца, на басурмана, при дворе будущего великого князя бояре, духовные, народ? Меня охраняет теперь от их ненависти и презрения имя строителя церковного, необходимость во мне; теперь меня и других иноверцев охраняет еще грозная воля Иоанна, перед которою все падает – и люди, и судьба. Но властители с таким согласием всемогущего ума и воли родятся веками. Кто поручится за будущее?.. К тому ж я хочу, чтобы и без насилия власти любили моего Андреа… хочу, чтобы все русское, все состояния, народ окружил его приветом, как родного, как соотечественника. Тогда может он подняться высоко… Не долго думал я. Андреа принял русскую веру; крестным отцом был ему Иоанн младой: он же будет сыну моему отцом, когда меня не станет.
– Прости ж мне за необдуманный упрек. Понимаю, я мог бы сделать то же для блага милого, дорогого сердцу существа. Но… теперь другой вопрос. Не сочти его дерзостью молодого человека, которого все права на твое снисхождение в одном имени воспитанника твоего брата, прими этот вопрос только за знак любви к прекрасному. Скажи мне, каким великим памятником зодчества в Московии хочешь передать свое имя будущим векам?
Покраснел снова художник, пожал с восторгом руку молодому врачу и с трепетом губ, пояснявших его душевное волнение, отвечал:
– Да, ты поймешь меня, молодой человек! Твой приезд в страну дикую, на краю Европы, без видов корысти, из одной любви к человечеству, есть уже свидетельство прекрасной души. Цель моя также выполнение идеи высокой, изящной (по крайней мере я так думаю… в этом я по крайней мере убежден). Тебе могу открыть мою душу, мои помыслы. Расскажу тебе и свои страдания, и свои надежды, расскажу, как я боюсь умереть, не сделав ничего достойного бессмертия, и чем хочу купить себе вечность на земли. Слушай же меня с снисхождением, которого прошу у твоего доброго сердца для моих слабостей.
Ты знаешь, – продолжал Аристотель, – что я сделал себе небольшое имя в Италии.
– Памятники художества, которые ты оставил в ней, не дадут ему умереть, хотя б ты ничего более не произвел.
– Нет, друг мой, эти памятники, более смелые, нежели гениальные, очистят мне небольшое место в летописях художества. Опыты еще не подвиги. На подвиг я только что собрался. Когда я жил в Италии, смутно носился в душе моей идеал, которому должно было осуществиться в возможных земных размерах, позднее, именно здесь, в Москве. Еще тогда не давал он мне покоя. Преследуя его, как призрак, и не имея сил выполнить, я изнемогал под бременем тоски невыносимой. И мудрено ль? я – человек, слабое, ничтожное созданье – хотел создать достойный храм богу, дивному богу, творцу вселенной. Все, что ни принимался выполнить линиями, красками, образами, телесными силами, казалось мне бесконечно малым перед тем идеалом, который создала божественная часть меня. Тоска, муки невыразимые! Я призвал на помощь прошедшее и настоящее, спрашивал каждый век, требовал к себе на лицо отжившие и живущие народы, сотни поколений, чтобы каждый из них принес достойную лепту на построение храма богу. И на зов мой распались Парфенон, Колизей, Алгамра, София, полки окаменелых мифов сошли с своих подножий, пошатнулись пирамиды Египта с своих оснований и стали вокруг меня, как столетние дубы над муравьем, едва заметным для глаза. «Какой храм создашь ты богу, когда мы только гробы для человека? А над этими гробами трудились веки и миллионы людей!» – казалось мне, спросили меня великаны древнего мира, и воображение мое замерло при этом вопросе. И вот, когда на зов мой явились города и народы, когда каждый из них принес мне по одной букве для божественной поэмы, я не мог даже сложить этих разнородных букв в одно гармоническое слово. Мудрено ль? Каждая буква была вдохновение; все они отозвались в душе моей, как дивный хор, составленный из мириады ангелов, сопутствуемый бурею со всех концов света. Голова моя закружилась, сердце замерло; я изнемог… Меня хотели даже запереть в дом сумасшедших: может быть, я этого и стоил. Долго был я в болезненном состоянии. Наконец, спасенный помощью врача, любовью к сыну, я опомнился и на первый голос рассудка решился бежать из Италии, где, думал я, самый воздух распаляет воображение до безумия. Турецкий султан звал меня, чрез дожа Марчелли, в Константинополь. Что высокого, изящного, говорил я сам себе, создам для народа, врага Христова, для того, кому и в будущем свете обещан утонченный разврат? Разве фонтаны и бани! разве сераль!.. Сераль, бани, когда основание храма живому богу положено было в сердце моем?.. Я отвергнул золото султана. Затем новый вызов. Этот был от здешнего государя и с предложением построить храм Пречистой божьей матери. С удовольствием… что я говорю? с восторгом принял я новое предложение. И вот я здесь. Здесь, друг мой, думаю осуществить идеал, который столько лет смутно носился в душе моей: теперь я согласил его с возможностью, с силами одного поколения, с волею и средствами одного царя. Я перевожу его уж на бумагу. Когда кончу чертежи, ты увидишь и скажешь мне, достоин ли он своего назначения. Тогда представлю его суду Иоанна, Софии и митрополита. Но каких трудов, какой борьбы стоило мне, чего еще будет стоить, чтобы привесть мою идею в исполнение! Чего должен я еще бояться от решения светской и духовной властей, расположенных к моему делу, но худо знакомых с прекрасным в искусстве! Ах! если бы ты знал, как дорого куплен мною каждый шаг, подвигающий меня к цели, сквозь какие груды мелочей, щепетильной вещественности должен я очищать себе путь к этой цели! Не хвастаясь, скажу, надо было иметь мою железную волю, мою пламенную любовь к искусству, чтобы не изнемочь под бременем обстоятельств. Представлю тебе только несколько образчиков тех нужд, тех препятствий, с которыми я должен был бороться. Вызванный сюда для построения храма Пречистой, я нашел не только искусство зодчества, самую исполнительную часть ее, самые материалы – в грубом, младенческом состоянии. Прежде чем созидать, надо было мне разрушать научить. Старая церковь Успения, которая отчасти упала при русских строителях, другими частями еще крепко держалась, несмотря на усилия тысячи рук повалить ее. За показанную мною механику барана почли меня чародеем. Не умели делать кирпичей: сколько времени употребил я на обучение этому делу! Своими руками мял глину, делал формы, показывал способы обжигания. Не умели делать известки, и эту я сам учил растворять.
– Кирпич, известку?.. Когда сам бог гляделся в душе твоей?.. Тяжкая борьба духа с веществом! я изнемог бы под ней.
– Тяжело было, это правда; но я не изнемог. О! у меня достало силы и на другие тяжкие испытания. Наступила война с Новгородом. Иоанн из зодчих переименовал меня в розмыслы, то есть в инженеры. Он требовал, чтобы я строил мосты для перехода войск через реки – я строил мосты. Он захотел, чтобы я лил пушки, колокола – я вылил их. Он изъявил желание, чтобы я управлял огнестрельными орудиями – я выполнил его желание. Нужно было чеканить монету – я чеканил для него монету. Одним словом, я сделался всем, чем хотел Иоанн, чтобы я для него был. Не подумай, чтобы все это делал я из любви, из преданности к царю: люблю его, предан ему как человек, благодарный за милости его ко мне; но другие чувства, другие побуждения управляют моими действиями. Я сделался рабом его железной воли, поденщиком ее, чтобы выиграть его милости и доверие, а милости и доверие его нужны мне для исполнения моей идеи. Храм, который хочу создать, исполинского размера: для него нужна мне едва ли не половина кремлевской высоты, сотни тысяч рук, груды золота. Ценою тяжких, едва ли не кровавых трудов, шаг за шаг покупаю у моего властителя каждый аршин земли, сотню рук, горсть серебра. И покуда – признаться ли тебе, мой друг? – одна борьба, одни труды, а победы и в помине нет! Я все еще далек от цели моей; я только выкупил надежду некогда достигнуть ее. Кто знает? может быть, горькая существенность, крайность, невежество убьют мой подвиг в его зародыше; может быть, смерть застигнет меня прежде, нежели я совершу его…
Здесь художник глубоко вздохнул, и слезы выступили на глазах его. Антон пожал ему руку, по сочувствию одной и той же любви к прекрасному, хотя и в разных видах, и спешил облегчить сердце его горячими утешениями, в которых художник так нуждался.
Глава II
РУССКОЕ МОЛОДЕЧЕСТВО
На третий день Аристотель пришел к молодому врачу, чтобы вместе с ним отправиться к великому князю.
– Государь в восхищении от твоего приезда и горит нетерпением тебя увидеть, – сказал художник. – А чтобы лучше понравиться властителю, который любит окружать себя блеском созданного им двора, ты, придворный врач его, явись к нему в лучшей своей одежде. Коня твоего приказал я снарядить; надо сказать тебе, что здесь стыдно знатным людям ходить пешком. Поспешай. Наши кони помогут нам урвать часок у времени, чтобы взглянуть мимоходом на преходящий город. Так называю его, потому что будущая Москва готова встать на пепелище нынешней.
В несколько минут Эренштейн кончил щегольской убор свой, и он уж на лихом коне, в сопутствии Аристотеля и пристава, также верхами. Как хорош был он в своем германском наряде! как приятно отделялся черный бархат епанечки, опушенной мехом, от белизны его лица и выпадали струи его белокурых волос из-под фиолетового бархата берета, осененного пуком волнующихся перьев! Скромность его звания и врожденный характер не позволяли расточать на одежде золото, которым воспитатель щедро одарил его; и потому проблескивало оно скупо, но со вкусом, только в пряжке берета, в аграфе епанчи и в поясе, державшем у бока его кинжал. Чтобы испытать свою лошадь, он сделал на ней несколько кругов по двору. Как ловко сидел Антон на коне, как мастерски управлял им! И немудрено: в воспитании его не было презрено ни искусство верховой езды, ни искусство владеть мечом, потому что, – говорил его воспитатель, – все это необходимо врачу. Тебя зовут к больному, за тобою прислали лошадь, какая попалась: скачи на помощь ближнему в бурю, в грозу, ночью, по худым дорогам. Жизнь твоя в опасности; оскорбили твою честь, твое человеческое достоинство: умей защитить и то и другое, умей омыть унижение в крови оскорбителя. Изо всего этого можно видеть, что любая принцесса переименовала бы нашего лекаря в свои пажи или паладины.
Пусто было на дворе боярском, когда они выезжали. На этот раз никто из челядинцев не смел смотреть на басурмана даже сквозь щели забора, потому что он всю ночь провозился с нечистыми. Так изъясняли его заботы до петухов об устройстве походной его аптеки: он не дал себе покоя до тех пор, пока не приготовился выполнить свои обязанности тотчас же по первому призыву страждущего. И вот как невежество перетолковало его полуночные заботы! Пустоте его жилища, отчуждению от него хозяев дома, которые решительно отказывались его видеть, несмотря на приветливые его засылы к ним, он грустно изумился.
– Ты приехал в страну народа-младенца, – говорил ему в утешение Аристотель, – не удивляйся, если он дичится всего нового для него. Подожди, все переделают терпение, время, снисхождение, игрушки и лоза наставника-царя, если нужно будет, когда слишком разблажится младенец. Впрочем, узнавши этих дикарей покороче, ты найдешь в них много прекрасных качеств, полюбишь их и приобретешь их любовь. Увидишь, многое еще осталось в них прекрасного от смеси коренных нравов с тевтонскими, хотя татарщина заморила в них также много хороших качеств.
– Буду еще мечтать о любви их, – сказал Эренштейн, – пока не совсем разочаруюсь.
В это мгновение Аристотель бросил быстрый, зоркий взгляд на терем Анастасии.
– Каково ж? – прервал он, усмехаясь. – Недаром молва, что ты чародей, обогнала тебя на пути сюда.
– Я не понимаю, что хочешь сказать.
– А вот что. Мой стариковский глаз поймал сейчас опыт твоего чародейства. Ты не видал, а я видел очень хорошо, как одна из наших московских красавиц, и, конечно, первая из них, осмелилась взглянуть на тебя с жадным любопытством из окна своего терема. Даром что ей представили тебя уродом с рогами и копытами!
– Где ж, где ж она? – спросил молодой человек, краснея.
– Где она?.. Спроси-ка лучше, где молния, когда она уж блеснула. Я видел только огненный взгляд ее черных, итальянских очей, и… боюсь… не было б грозы. Так скоро забыть страшную заповедь отца!.. Долго ль до беды?.. Одиночество… прекрасный молодой человек, в таком близком соседстве… девическое сердце… Ох, ох, синьора Анастасия, боюсь за тебя! Нет, боялся бы, хотел я сказать, если бы не уверен был в моем молодом друге.
Антон пожал ему руку, как бы в благодарность за хорошее мнение о нем, и, когда они выехали из ворот, новость предметов, окруживших со всех сторон приезжего и чужеземца, отвлекла его мысли от синьорины Анастасии. Нечего таить, она делалась для него интересною, как таинственная героиня рыцарской повести, скрываемая в очарованном замке.
Выехав из Флоровских ворот и переехав один из трех деревянных мостов, перекинутых через ров, сопутствующий каменной стене от Неглинного пруда по Москву-реку, они очутились на Красной площади. Навес для пушек под именем пушечного двора, ряды балаганов под именем лавок, которые можно было снять и опять поставить в несколько часов, как лагерь, каменный дом московского головы (Ховрина), множество деревянных церквей, достойных названия часовней, – вот вам и площадь, называемая Красною. Далее все то же, что и прежде видел путешественник в посадах. Но все эти бедные храмы пылают, освещенные религиозным усердием. В окнах домов не проглянет человеческое лицо, разве изредка таинственно зашевелится тонкая занавесь и из-за нее мелькнет атласная ручка или вспыхнет чародейный глаз. По улицам встречается то рабское унижение, то грубое нахальство; прохожий или кланяется едва не до земли, или под грубую народную поговорку свищет вам вслед, так что мороз по коже подирает. Чувство одного привито владычеством татар, другого воспитано грубостью нравов и дикостью природы. Между ними родное молодечество, кровь с молоком, шапка набекрень, кушаком туго подпоясанное, готово поднять вас на зубок или на кулак. Оно ж готово отдать душу за крестового брата, за красную девицу-полюбовницу, за все родимое – мать, землю, царя и веру. Эти оттенки русской народности или чужеземного влияния старался Аристотель объяснить своему товарищу. Иностранцы – татаре, жиды, итальянцы – попадались им нередко навстречу – цемент, которым Иоанн сплачивал без разбора свое здание!
– Ты видишь до сих пор домишки и часовни, – сказал Аристотель, стыдясь за смиренную наружность русской столицы, как бы за свой родной город, – ты увидишь и скромный дворец великого князя и спросишь меня: «Где ж, наконец, Москва?» На это отвечу тебе: «Москва, блестящая столица Иоанна, вся в сердце, в думе его; а что он только задумает, то должно исполниться, как мысль судьбы». Еще прибавлю: «Москва в художниках, которых ты привез с собою и приехавших до тебя». Не пройдет десяти лет, как она осуществится, и ты изумишься ее превращению. Видишь, сколько иностранцев встречается нам: это все материалы для будущего величия и красоты Москвы. Посмотри, сколько разрушено домов и церквей за оградой кремлевской, и помысли, какую сильную, непобедимую волю должен иметь правитель народа, который осмелился наложить молот разрушения на эту давность и святыню! Зато сколько ропоту произвело это обновление!.. Невежественная чернь не смотрит на будущую пользу; обеспокой только ее настоящее для собственного ее блага, и она негодует. Расскажу тебе, что предположено сделать по моему очерку. Вот, подле твоей квартиры, воздвигнут ворота Флора и Лавра, и над ними будет возвышаться прекрасная стрельница. От них потянется красивая стена: она опояшет всю середину города и украсится множеством красивых башен. Каменный дом твоего хозяина и вот этот, головы московского, только первенцы большого семейства, которое не замедлит появиться в свет. Зодчим, приехавшим с тобой, поручено воздвигнуть великолепный палласт для приема послов и дворец для великого князя. Прибавь к этому множество каменных великолепных церквей, которые предположено построить, и соборный храм Успения богоматери, мне порученный. Видишь огромные материалы, которые стеснили Кремль и налегли на сердце его, и расчисли, что можно из них сотворить: это половина только того, что готовлю для храма. Из этих груд гений Италии должен поставить вечный памятник себе или торжеству над собой вещественности. Горе мне, если победа будет за ней!
– Отдали от себя печальную мысль. Пусть надежда не гаснет в душе твоей и освещает для тебя в будущем твое создание.
– Так прочь, печальная мысль!.. Видишь, вот эти сотни домишек, эти десятки церквей сломаются по одному слову Иоанна… Ах, друг мой, это будет храм, настоящий храм богоматери! Вступая в него, потомки произнесут с уважением имя Фиоравенти Аристотеля… Да, Антонио, я не умру в нем.
– Кто так пламенно говорит о будущности, презирая мирские почести и корысть, конечно, произведет достойное бессмертия, – отвечал Антон с восторгом.
Долго еще говорили они о построении храма, о прекрасном месте, с которого он будет господствовать над всем городом, и в такой беседе подъехали на высоту у Спаса на бору, откуда можно было видеть всю Занеглинную. Здесь взор молодого человека приковался к двум точкам, которые двигались с двух противных берегов Неглинного пруда. Едва успел он различить, что это были два мальчика. Они столкнулись на средине замерзшего пруда и завязали рукопашный бой. В несколько мгновений на обоих берегах протянулись две линии.
– А? будет потеха! – воскликнул Аристотель. – Кстати увидишь образчик русского молодечества.
– Что это такое? – спросил Эренштейн.
– Борьба партий, – отвечал художник, улыбаясь, – наши Гвельфы и Гибелины. Видишь, два мальчика завязали бой. Но эти искры брошены могучею рукою, и, как скоро сшиблись, ждать большого пожара. Подъедем ближе к месту действия.
И они поспешили на берег пруда, к стороне кремлевской.
Обе линии, составленные из детей, сошлись стена на стену с ужасным криком и смешались в рукопашном бою. Пароль одних был: занеглинные, других городские. Вслед за ними росли и росли новые линии, одна выше, сильнее другой, и наконец явились избранные бойцы. Все схватилось. Бились толпами, рядами, в одиночку. Схватка была горячая, «какой давно не запомнят», говорили старики. Зрители, большею частью люди зрелых и преклонных лет, составили черное кольцо по берегам пруда. Из среды их раздавались похвалы победителям или нарекания побежденным: одни стоили венка лаврового, другие бича. Слышалось беспрестанно: «наша взяла! молодцы!» или «трусы! вороны! блинники!». Только тяжко ушибенные, выбившиеся из сил, или младшие, уступая место старшим и сильнейшим, выбывали из числа сражающихся. Видели изувеченных, но не слыхали ни одного стона. Даже родные, принимая их из побоища, не жаловались, не показывали сильной горести. Бранили только трусов или хвалили удальцов. Оправившиеся от ушиба становились в ряды зрителей и вместе с ними спешили принять живое участие в партии своей возгласами хвалы или пристыжения.
Молодой врач предложил, через Аристотеля, услуги свои увеченным. Вместо ответа отцы со страхом заслоняли от него детей своих и начисто отказывались от этой помощи. Легче было видеть их уродами! Уж конечно, пришедши домой, пускали четверговую соль и уголья на воду и спрыскивали ею свое детище, на которого поглядел недобрый глаз басурмана.
Наконец толпы бойцов стали редеть, голоса утомляться. Но еще трудно было решить, чья сторона взяла. Вдруг с берегов пруда поднялись единодушные крики: «Мамон! Симской-Хабар!» И толпы, как бы обвороженные, опустили руки и раздвинулись. Воцарилось глубокое, мертвое молчание.
– Какие молодцы! – сказал Антон. – Если не ошибаюсь, лицо одного мне знакомо.
– Немудрено: это сын твоего хозяина. Он прозван от народа Хабаром, что значит выигрыш, прибыль. Едва ли был случай, чтобы сторона его проиграла на кулачном побоище, почему он и заслужил это прозвание. Ныне сыскали ему нового противника, и, по-видимому, опасного. Посмотри, какой могучий, ловкий атлет! Отцы их враждуют, сыновья теперь соперники; но здесь, на черте, где они сходятся для единоборства, должны они сбросить всякую вражду, всякое неприязненное чувство друг к другу. Еще объясню тебе: целью ударов их должны быть части тела от шеи до пояса. Горе тому, чья рука посягнет на лицо противника! Это своего рода рыцарское игрище; благородство и здесь девизом сражающихся.
В самом деле, лишь только выборные люди отмерили заповеданный круг, за который бойцы не смели переступить, соперники скинули шапки и низенько поклонились на четыре стороны. Мамон увидел среди тысячей пылающий взор отца и ничего более, услышал с неглинной стороны громкие хвастливые возгласы друзей. Симской-Хабар увидел спокойный, одобрительный взгляд отца; городская сторона молчала, как стена каменная. Сын Образца взглянул на гору кремлевскую, к Спасу на бору… там, в высоком тереме, было открыто окно и в нем развевалось пунцовое покрывало. Он знал, чья рука выставила этот стяг, и радостно подошел к своему сопернику.
Сошлись оба молодца и поцеловались. Роковая тишина!.. Тысячи боятся дохнуть, боятся хоть на миг отвесть глаза от зрелища. Вот соперники померялись взглядами… изготовились. Улыбка самонадеянности блеснула на губах Хабара, легкое содрогание пробежало по губам Мамона.
– Бедный Мамон! прозакладую сто против одного, что сын Образца победит, – сказал Эренштейн, разгораясь более и более. – Каждое движение его есть уж твердый щит и ловкий меч. О, когда бы мне можно было перекрестить острую сталь с этим искусным бойцом!
Другие электронные книги автора Иван Иванович Лажечников
Басурман




 0
0
Окопировался




 4.67
4.67