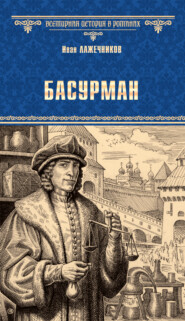По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Басурман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Антонио! Антонио! ты ли это говоришь?.. Только два дня здесь, еще не у дела, а уж молодая кровь твоя бунтует против разума, малейшие неприятности кидают тебя далеко от прекрасной цели. Так ли идут в битву для получения венца победного? Что сказал бы ты, бывши на моем месте?.. Неужели я ошибся в тебе?.. Как бы то ни было, не узнаю твердой души, которая, по словам твоим, готова идти в схватку с самою жестокою судьбой!..
– Винюсь, мой почтеннейший друг, винюсь: рассудок мой требует еще опоры, воспитание мое не кончено. О, будь же моим руководителем, моим наставником! Прости мне безрассудные слова мои и припиши их новым впечатлениям этих двух дней. Казнь литвян, ненависть ко мне без причины моего хозяина, отчуждение от меня почти всех московитов, между тем как я заранее так горячо любил их, попугай, придворные, раболепство… все это вскружило мне голову.
– Я предупреждал тебя, что ты попал среди народа-младенца, что ты находишься при вожде этого народа, великом по многим отношениям, но все-таки принадлежащем своей стране и эпохе. Вот и теперь, – наперед скажу тебе, – мы подъезжаем к тюрьме. Уверен, что он хочет показать тебе своих знаменитых пленников. На этот раз извини в нем слабость владыки, который хочет похвалиться, как он умел силою своего духа и ума оковать ужасных врагов, державших так долго Русь в неволе и страхе. Это Геркулес, но Геркулес-младенец. Он радуется, что в своей колыбели задушил змей, и любит показывать их, мертвых или умирающих! Еще прибавлю: помни время, в которое мы живем, страну, где мы находимся… помни главу нашей церкви Павла Второго, который сам присутствовал на пытках, самого Сикста Четвертого, Стефана молдавского, названого сына его, который делает чучелы из своих пленников, Галлеаца Сфорца… не скажу более. Довольно и этих примеров, чтобы смирить твое негодование при зрелище, ожидающем тебя.
Едва Аристотель успел сказать это, каптан въехал на казенный двор. Ощетинившись своими иглами, рогатки в разных местах обеспечивали охранение этого места. Боярские дети лётом с коней, и крепость мигом разорвана. У крыльца черной избы подняли великого князя из каптана. Стража засуетилась. Она состояла из боярских детей, целовавших крест на верное исполнение своих обязанностей. Увидев великого князя, они схватились за свои секиры, стали по местам и, скинув шапки, низко поклонились. В сенях все разом окинул зоркий взгляд его. Далее, когда он вступил в узенькие переходы, глаза его заблистали дикою радостью: так хозяин знаменитого зверинца собирается показать достойным посетителям державных зверей, которых он поймал и держит в клетках. В самом деле, чуланы, где содержались пленники, походили на нечистые клетки.
– Аристотель, – сказал великий князь, – растолкуй нашему дворскому лекарю, кто сидит в этих клевушах, да вели попытать их, долго ли проживут. Татар, смекаешь ты, надо мне на всякий случай поберечь для переду: придется, может быть, и пугнуть ими. А бабу-то, ведаешь, хоть бы ныне черту баран!..
Это откровенное объяснение, искусно переданное врачу, дало его сердцу случай начать подвиги добра, на которые он собирался, ехав в Москву. В первом отделении нашли они целое семейство татар. Мужчины и женщины – мать и сын, муж и жены, братья и сестры – все валялись кое-как, кто на лавках, кто на полу. Нечистота и духота были нестерпимые. Бледные, истомленные лица, униженный вид говорили живее слов о несчастном их положении.
– Поверишь ли, – сказал Аристотель, – что этот худой, с шафранными глазами, вот что привстал перед великим князем, царь казанский, Алегам? Царство его еще недавно было страшно для русских. Несколько месяцев тому назад полководец московский взял его в плен и посадил на его место другого царя. Полюбуйся здесь превратностями судьбы человеческой. Недавно повелевал с своего престола сильному народу, теперь едва имеет место, где приклонить голову. К предкам этих татар князья русские ходили на поклонение, у них испрашивали позволения царствовать, у них держали стремя, им платили дань; а ныне… О, конечно, сюда должны бы цари приходить учиться смирению! Но таково ослепление человека, ты видишь, с каким торжеством смотрит великий князь на своего пленника. О свободе его нельзя и не должно думать. Просьбы шибайских и ногайских князей, его родственников, не имели никакого успеха. Были об этом частые переговоры с Иоанном, при которых посылали друг другу тяжелые поклоны с легкими дарами; но и от сношений этих остался в выигрыше один Иоанн. Он выведал бессилие татарских князей и, может быть, нашел между ними ж врага против них же. Не знаю властителя, который бы лучше умел пользоваться обстоятельствами. Я сказал, что о свободе Алегама не должно и думать; но после намека самого Иоанна можно постараться улучшить его положение.
Сообразуясь с этим намеком, молодой врач сказал:
– Если великий князь желает, чтобы его венценосный пленник жил, он должен переместить его с семейством в лучшее, более просторное жилье и дать ему чаще дышать свежим воздухом. Без того не ручаюсь даже за несколько недель жизни его.
Иван Васильевич задумался.
– Да, этот нужен мне еще, – произнес он вполголоса и приказал Мамону, знавшему татарский язык, как и многие русские того времени, объявить Алегаму, что его отправят тотчас же с двумя женами в Вологду, а мать, братьев и сестер в Каргополь, что на Белоозере.
– Там, – прибавил он, – гуляй вволю; отпущу ему и на корм по два алтына в день.
Когда объявили это Алегаму, царь казанский бросился великому князю в ноги; его примеру последовало все семейство, кроме одной из его жен. Она ухватилась было за одежду его, чтобы удержать от рабского поклонения, и с негодованием вскричала:
– Что ты делаешь, царь казанский?
Но Алегам был уж у ног Иоанна, и царица бросила на своего мужа взгляд глубокого презрения.
Эта женщина была впоследствии женою казанского царя Магмет-Аминя. Она припомнила унижение своего первого мужа и успела-таки возбудить второго против Иоанна.
Новое отделение, новые знаменитые пленники. И опять татаре, опять живое свидетельство Иоаннова ума и воли, смиривших Восток. Заключенные были два брата, один седой старик, другой в летах, подвигающих к старости. Сидя рядом и перекинув друг другу руки около шеи, они молча, грустно смотрели друг другу в глаза. В них видели они свое отечество, свое небо, своих родичей и друзей, все бесценное и утраченное для них. В таком положении застал их великий князь. Смущенные, они расплелись и остались сидя.
– Ты угадал бы, что это два брата, если б я и не объяснил тебе, – сказал Аристотель, – отрывки того ж могущества, которое едва не задавило Руси и потому не задавило Европы! Именно это братья крымского хана Менгли-Гирея, лучшего друга и союзника Иоаннова, Нордоулат и Айдар.
– Друга, союзника? – сказал Антон с изумлением. – Как же согласить с этим их заключение?
– Скажу еще более: Нордоулат, вот этот седовласый, что так горько смотрит на великого князя, служил ему в войне против царя Большой, или Золотой, орды, Ахмата, в войне, которою решено: быть или не быть Руси рабою Востока, нахлынуть ли через нее новому потоку варваров на Европу. Но…
Здесь послышался убедительный голос Андрюши, сына Аристотелева. Незаметно как очутился он подле великого князя, который ласкал его, гладя по голове.
– Подари мне, Иван Васильевич, этих бедных старичков, – говорил Андрюша жалобным голосом, ласкаясь к грозному владыке.
Великий князь засмеялся и спросил малютку, что сделает он тогда с пленниками.
– Дам им свободу, чтобы они благословляли твое имя, – отвечал Андрюша.
– Изволь. Дать свободу и этим, – сказал Иван Васильевич, обратясь к Мамону, – и отправить их на покой в Вологду. Назначить им там хорошие кормы. Это делаю для сыновнина крестника.
Умное дитя ничего более не просило.
Художник и лекарь думали, что великий князь решился на этот великодушный поступок, поняв беседу их и убежденный красноречивою горестью Нордоулата, некогда его усердного слуги. Не изумился, однако ж, Аристотель, когда Иван Васильевич, отведя его в сторону, прибавил, так что он только мог слышать:
– Под стать замолвил о них Андрюша. Хан Золотой орды просит меня, через посла своего, отпусти-де я к нему Нордоулата. Ты, может статься, встретил давеча поганого еврея в хороминах моих. Вот этот еврей украл у посла ханского лист к Нордоулату и успел опять подкинуть его. Да я и без писаного листа смекнул тотчас лукавые замыслы. А приятель мой Менгли-Гирей лез было к волку в пасть. Трус! испугался угроз Золотой орды и от себя прислал просить меня, отпусти-де я к нему брата, с которым хочет заодно царствовать. Докажу ему, что он врет; самому после слюбится! Айдара зовет к себе король польский. Нордоулат умен, Айдар не таков, да все-таки опасен. Вороги мои хитро вздумали: среди белого дня в глазах лисеньки ставят для нее капкан. Покажу им хвост. Что мы за дураки! пять пальцев на руках счесть умеем… В Менгли-Гирее имею верного друга и, куда хочу, его посылаю. Посади, видишь, на его место позубастее да поумней. Вернее посажу их в Вологду, где они и грамотки от своих не получат и куда не заглянет лукавое око татарина. А все-таки слово Андрюше сдержу: в Вологде дадут им льготу.
Слова эти, переданные Антону, всего лучше объяснили, по какой причине содержатся братья Менгли-Гирея, союзника и друга Иоаннова, и нашли в сердце молодого человека извинение жестокой политике.
Новое отделение.
Тут великий князь стукнул посохом в решетку. На этот стук оглянулась старая женщина, усердно молившаяся на коленах. Она была в поношенной кике и в убрусе, бедном, но чистом, как свежий снег, в бедной ферязи – седые волосы выпадали в беспорядке, и между тем можно было тотчас угадать, что это не простая женщина. Черты ее были очень правильны; в мутных глазах отражались ум и какое-то суровое величие. Она гордо взглянула на великого князя.
– О ком молилась ты, Марфуша? – спросил великий князь.
– Вестимо, об умерших, – угрюмо отвечала она.
– О ком же именно, если дозволишь спросить?
– Спроси об этом, собачий сын, у моего детища, а твоего названого боярина, что ты зарезал у Новгорода, что ты залил кровью и засыпал попелом.
– О-го-го!.. Не забыла свою дурь, матушка, господыня великого Новгорода.
– Была-таки, голубчик.
При этом слове она встала.
– Не вздумаешь ли опять?
– Над чем?.. Я сказала, что молюсь об умерших. Твою Москву с ее лачугами можно два раза в год спалить дотла и два раза построить; татаре два века держали ее в неволе… чахла, чахла и все-таки осталась цела: променяла только одну неволю на другую. А господина Новгорода великого раз не стало, и не будет более великого Новгорода.
– Почем знать!..
– Подними-ка белокаменную в сотню лет.
– Подниму и в десяток.
– Ведь это не в сказке, где так же скоро делается, как и сказывается. Созови ганзейских купцов, которых ты распугал.
– А, торговка, купцов-то жаль тебе более самого Новгорода.
– От моего торга не беднел, а богател он.
– Брякну денежкой, так со всех концов света налетят торгаши на мои гроши.
– Собери именитых граждан, которых ты заточил по разным городам своим.
– Обманщики, плуты, бунтовщики, не стоят этого!
– Когда ж сила виновата!.. Найди живую воду для убитых тобой. Хоть бы ты и это все смог, воли, воли в Новгороде не будет, Иван Васильевич, и Новгороду никогда не подняться. Будет он жить, как зажженный пень, что ни горит-то, ни гаснет. Ведь и я еще живу в тюрьме.
– Винюсь, мой почтеннейший друг, винюсь: рассудок мой требует еще опоры, воспитание мое не кончено. О, будь же моим руководителем, моим наставником! Прости мне безрассудные слова мои и припиши их новым впечатлениям этих двух дней. Казнь литвян, ненависть ко мне без причины моего хозяина, отчуждение от меня почти всех московитов, между тем как я заранее так горячо любил их, попугай, придворные, раболепство… все это вскружило мне голову.
– Я предупреждал тебя, что ты попал среди народа-младенца, что ты находишься при вожде этого народа, великом по многим отношениям, но все-таки принадлежащем своей стране и эпохе. Вот и теперь, – наперед скажу тебе, – мы подъезжаем к тюрьме. Уверен, что он хочет показать тебе своих знаменитых пленников. На этот раз извини в нем слабость владыки, который хочет похвалиться, как он умел силою своего духа и ума оковать ужасных врагов, державших так долго Русь в неволе и страхе. Это Геркулес, но Геркулес-младенец. Он радуется, что в своей колыбели задушил змей, и любит показывать их, мертвых или умирающих! Еще прибавлю: помни время, в которое мы живем, страну, где мы находимся… помни главу нашей церкви Павла Второго, который сам присутствовал на пытках, самого Сикста Четвертого, Стефана молдавского, названого сына его, который делает чучелы из своих пленников, Галлеаца Сфорца… не скажу более. Довольно и этих примеров, чтобы смирить твое негодование при зрелище, ожидающем тебя.
Едва Аристотель успел сказать это, каптан въехал на казенный двор. Ощетинившись своими иглами, рогатки в разных местах обеспечивали охранение этого места. Боярские дети лётом с коней, и крепость мигом разорвана. У крыльца черной избы подняли великого князя из каптана. Стража засуетилась. Она состояла из боярских детей, целовавших крест на верное исполнение своих обязанностей. Увидев великого князя, они схватились за свои секиры, стали по местам и, скинув шапки, низко поклонились. В сенях все разом окинул зоркий взгляд его. Далее, когда он вступил в узенькие переходы, глаза его заблистали дикою радостью: так хозяин знаменитого зверинца собирается показать достойным посетителям державных зверей, которых он поймал и держит в клетках. В самом деле, чуланы, где содержались пленники, походили на нечистые клетки.
– Аристотель, – сказал великий князь, – растолкуй нашему дворскому лекарю, кто сидит в этих клевушах, да вели попытать их, долго ли проживут. Татар, смекаешь ты, надо мне на всякий случай поберечь для переду: придется, может быть, и пугнуть ими. А бабу-то, ведаешь, хоть бы ныне черту баран!..
Это откровенное объяснение, искусно переданное врачу, дало его сердцу случай начать подвиги добра, на которые он собирался, ехав в Москву. В первом отделении нашли они целое семейство татар. Мужчины и женщины – мать и сын, муж и жены, братья и сестры – все валялись кое-как, кто на лавках, кто на полу. Нечистота и духота были нестерпимые. Бледные, истомленные лица, униженный вид говорили живее слов о несчастном их положении.
– Поверишь ли, – сказал Аристотель, – что этот худой, с шафранными глазами, вот что привстал перед великим князем, царь казанский, Алегам? Царство его еще недавно было страшно для русских. Несколько месяцев тому назад полководец московский взял его в плен и посадил на его место другого царя. Полюбуйся здесь превратностями судьбы человеческой. Недавно повелевал с своего престола сильному народу, теперь едва имеет место, где приклонить голову. К предкам этих татар князья русские ходили на поклонение, у них испрашивали позволения царствовать, у них держали стремя, им платили дань; а ныне… О, конечно, сюда должны бы цари приходить учиться смирению! Но таково ослепление человека, ты видишь, с каким торжеством смотрит великий князь на своего пленника. О свободе его нельзя и не должно думать. Просьбы шибайских и ногайских князей, его родственников, не имели никакого успеха. Были об этом частые переговоры с Иоанном, при которых посылали друг другу тяжелые поклоны с легкими дарами; но и от сношений этих остался в выигрыше один Иоанн. Он выведал бессилие татарских князей и, может быть, нашел между ними ж врага против них же. Не знаю властителя, который бы лучше умел пользоваться обстоятельствами. Я сказал, что о свободе Алегама не должно и думать; но после намека самого Иоанна можно постараться улучшить его положение.
Сообразуясь с этим намеком, молодой врач сказал:
– Если великий князь желает, чтобы его венценосный пленник жил, он должен переместить его с семейством в лучшее, более просторное жилье и дать ему чаще дышать свежим воздухом. Без того не ручаюсь даже за несколько недель жизни его.
Иван Васильевич задумался.
– Да, этот нужен мне еще, – произнес он вполголоса и приказал Мамону, знавшему татарский язык, как и многие русские того времени, объявить Алегаму, что его отправят тотчас же с двумя женами в Вологду, а мать, братьев и сестер в Каргополь, что на Белоозере.
– Там, – прибавил он, – гуляй вволю; отпущу ему и на корм по два алтына в день.
Когда объявили это Алегаму, царь казанский бросился великому князю в ноги; его примеру последовало все семейство, кроме одной из его жен. Она ухватилась было за одежду его, чтобы удержать от рабского поклонения, и с негодованием вскричала:
– Что ты делаешь, царь казанский?
Но Алегам был уж у ног Иоанна, и царица бросила на своего мужа взгляд глубокого презрения.
Эта женщина была впоследствии женою казанского царя Магмет-Аминя. Она припомнила унижение своего первого мужа и успела-таки возбудить второго против Иоанна.
Новое отделение, новые знаменитые пленники. И опять татаре, опять живое свидетельство Иоаннова ума и воли, смиривших Восток. Заключенные были два брата, один седой старик, другой в летах, подвигающих к старости. Сидя рядом и перекинув друг другу руки около шеи, они молча, грустно смотрели друг другу в глаза. В них видели они свое отечество, свое небо, своих родичей и друзей, все бесценное и утраченное для них. В таком положении застал их великий князь. Смущенные, они расплелись и остались сидя.
– Ты угадал бы, что это два брата, если б я и не объяснил тебе, – сказал Аристотель, – отрывки того ж могущества, которое едва не задавило Руси и потому не задавило Европы! Именно это братья крымского хана Менгли-Гирея, лучшего друга и союзника Иоаннова, Нордоулат и Айдар.
– Друга, союзника? – сказал Антон с изумлением. – Как же согласить с этим их заключение?
– Скажу еще более: Нордоулат, вот этот седовласый, что так горько смотрит на великого князя, служил ему в войне против царя Большой, или Золотой, орды, Ахмата, в войне, которою решено: быть или не быть Руси рабою Востока, нахлынуть ли через нее новому потоку варваров на Европу. Но…
Здесь послышался убедительный голос Андрюши, сына Аристотелева. Незаметно как очутился он подле великого князя, который ласкал его, гладя по голове.
– Подари мне, Иван Васильевич, этих бедных старичков, – говорил Андрюша жалобным голосом, ласкаясь к грозному владыке.
Великий князь засмеялся и спросил малютку, что сделает он тогда с пленниками.
– Дам им свободу, чтобы они благословляли твое имя, – отвечал Андрюша.
– Изволь. Дать свободу и этим, – сказал Иван Васильевич, обратясь к Мамону, – и отправить их на покой в Вологду. Назначить им там хорошие кормы. Это делаю для сыновнина крестника.
Умное дитя ничего более не просило.
Художник и лекарь думали, что великий князь решился на этот великодушный поступок, поняв беседу их и убежденный красноречивою горестью Нордоулата, некогда его усердного слуги. Не изумился, однако ж, Аристотель, когда Иван Васильевич, отведя его в сторону, прибавил, так что он только мог слышать:
– Под стать замолвил о них Андрюша. Хан Золотой орды просит меня, через посла своего, отпусти-де я к нему Нордоулата. Ты, может статься, встретил давеча поганого еврея в хороминах моих. Вот этот еврей украл у посла ханского лист к Нордоулату и успел опять подкинуть его. Да я и без писаного листа смекнул тотчас лукавые замыслы. А приятель мой Менгли-Гирей лез было к волку в пасть. Трус! испугался угроз Золотой орды и от себя прислал просить меня, отпусти-де я к нему брата, с которым хочет заодно царствовать. Докажу ему, что он врет; самому после слюбится! Айдара зовет к себе король польский. Нордоулат умен, Айдар не таков, да все-таки опасен. Вороги мои хитро вздумали: среди белого дня в глазах лисеньки ставят для нее капкан. Покажу им хвост. Что мы за дураки! пять пальцев на руках счесть умеем… В Менгли-Гирее имею верного друга и, куда хочу, его посылаю. Посади, видишь, на его место позубастее да поумней. Вернее посажу их в Вологду, где они и грамотки от своих не получат и куда не заглянет лукавое око татарина. А все-таки слово Андрюше сдержу: в Вологде дадут им льготу.
Слова эти, переданные Антону, всего лучше объяснили, по какой причине содержатся братья Менгли-Гирея, союзника и друга Иоаннова, и нашли в сердце молодого человека извинение жестокой политике.
Новое отделение.
Тут великий князь стукнул посохом в решетку. На этот стук оглянулась старая женщина, усердно молившаяся на коленах. Она была в поношенной кике и в убрусе, бедном, но чистом, как свежий снег, в бедной ферязи – седые волосы выпадали в беспорядке, и между тем можно было тотчас угадать, что это не простая женщина. Черты ее были очень правильны; в мутных глазах отражались ум и какое-то суровое величие. Она гордо взглянула на великого князя.
– О ком молилась ты, Марфуша? – спросил великий князь.
– Вестимо, об умерших, – угрюмо отвечала она.
– О ком же именно, если дозволишь спросить?
– Спроси об этом, собачий сын, у моего детища, а твоего названого боярина, что ты зарезал у Новгорода, что ты залил кровью и засыпал попелом.
– О-го-го!.. Не забыла свою дурь, матушка, господыня великого Новгорода.
– Была-таки, голубчик.
При этом слове она встала.
– Не вздумаешь ли опять?
– Над чем?.. Я сказала, что молюсь об умерших. Твою Москву с ее лачугами можно два раза в год спалить дотла и два раза построить; татаре два века держали ее в неволе… чахла, чахла и все-таки осталась цела: променяла только одну неволю на другую. А господина Новгорода великого раз не стало, и не будет более великого Новгорода.
– Почем знать!..
– Подними-ка белокаменную в сотню лет.
– Подниму и в десяток.
– Ведь это не в сказке, где так же скоро делается, как и сказывается. Созови ганзейских купцов, которых ты распугал.
– А, торговка, купцов-то жаль тебе более самого Новгорода.
– От моего торга не беднел, а богател он.
– Брякну денежкой, так со всех концов света налетят торгаши на мои гроши.
– Собери именитых граждан, которых ты заточил по разным городам своим.
– Обманщики, плуты, бунтовщики, не стоят этого!
– Когда ж сила виновата!.. Найди живую воду для убитых тобой. Хоть бы ты и это все смог, воли, воли в Новгороде не будет, Иван Васильевич, и Новгороду никогда не подняться. Будет он жить, как зажженный пень, что ни горит-то, ни гаснет. Ведь и я еще живу в тюрьме.
Другие электронные книги автора Иван Иванович Лажечников
Басурман




 0
0
Окопировался




 4.67
4.67