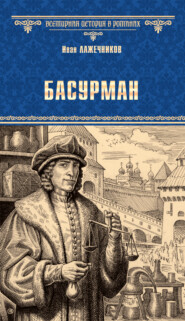По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Басурман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Мы еще не были в клетях лекаря, – сказал он, собираясь вниз.
– Туда, и к черту или к своей матери колдунье, а если замешкаешься, берегись оставить здесь поганые кости свои! – закричал Хабар-Симской вслед ему.
Мамон остановился и, покачав презрительно головой, послал ему в сердце адскую усмешку.
– Батюшка, позволь! – вскричал Хабар вне себя.
Образец опять остановил его и сказал с твердостью:
– Постой, сын; везде, где хочешь, лишь бы не здесь, у светлицы твоей сестры.
– Слышишь?.. – был вопрос Симского, полный жажды мести.
– Слышим-ста! – был глухой ответ Мамона.
Стук, беготня в доме, крик, шаги вверху, у светлицы Анастасьиной, все это отдается в ушах и сердце Эренштейна, трепещущем от неизвестности, что делается в семье боярина. Дорого заплатил бы он, чтобы там быть. Но вверху все замолкло, шум оборачивается в его сторону, приближается к нему. Стучатся в сенях. Он высекает огня.
Какая досада, какая мука! следы огромных ступней, ходивших по грязи, означились на полу и провели дорожку прямо к шкапу.
Что делать?.. Платье, утиральники, что ни попадается в руки, – на пол, и предательские следы уничтожены. Слава богу!
Он только что к двери, слышит: что-то рухнулось в шкапе так, что дверки затрещали; потом смертное хрипение, потом глубокий вздох и – гробовая тишина.
У Антона сердце оторвалось, волосы встали дыбом.
Что, если Холмский, пораженный гневом великого князя, мыслью о заточении и казни, истерзанный страхом, измученный скоростью побега, усилиями взлезть на стену, всем, что его так ужасно и так незапно разом обхватило, если он испустил дух?.. Может быть, задохся в шкапе… может быть, удар! Ужасно!
Князя Холмского найдут мертвым у лекаря… Что скажет молва?.. И так слывет он чернокнижником; назовут его убийцей. Потребуют его головы. Властитель, разгневанный укрывательством беглеца, выдаст ее народу. Антон знает, что такое озлобленный народ; лютость зверя ничего перед его жестокостью. Он имеет довольно духу идти в битву со смертью на одре болезни, даже на плахе, которой он не заслужил; он готов идти в битву, когда потребует долг; но смерть в когтях разъяренного народа – ужасна. И что еще ужаснее, он будет невольной причиною смерти ближнего…
Посмотреть в шкап, испытать врачебные средства нет возможности. Стучатся еще сильнее. Замешкаешься отворить, навлечешь на себя подозрение и усилишь розыски. Кто знает? могут выколотить дверь, и тогда застанут его очи на очи с беглецом.
А Холмский, может статься, жив!
Ни разум, ни сила духа и мышц, ничто человеческое не спасет. Разве бог, один бог! Все упование на него.
Ад в груди; между тем Антон старается составить свое лицо прилично обстоятельствам. Стилет под мышку, лампаду в руки, и дверь в сени отворена.
Перед ним Мамон и его дружина.
– Что вам от меня в ночное время? – грозно спрашивает Антон.
– Не взыщи, господине лекарь, – отвечает Мамон, почтительно кланяясь, – по приказу великого князя ищем важного беглеца. Он бежал сюда к палатам боярина, здесь и скрылся. Одному из наших вздумалось только теперь сказать, будто слышал, как Холмский лез по стене, будто твое окно отворилось…
– Неправда! – перебил Эренштейн. – Ложь!.. Ему померещилось… я не укрыватель беглецов… За что такое оскорбление?.. Кто это сказал?.. Я буду жаловаться великому князю.
– Не я, не я! – воскликнуло несколько голосов. Между ними был голос и доказчика. Думали, не подшутил ли над ним нечистый; знали, в какой милости властитель содержит лекаря, и опасались гнева Ивана Васильевича за то, что потревожили напрасно его любимца; опасались мщения самого басурмана-колдуна, который потому уж чародей, что выучился так скоро изъясняться по-русски – и не было более свидетельства, что беглеца видели у окна его. Мамон, по своим причинам, не настаивал.
– Однако ж, – сказал Антон, – чтобы не оставить вас в подозрении, я прошу, я требую осмотра.
И Мамон, за ним два недельщика, боязливо озираясь и творя шепотом молитву, вошли в спальню лекаря.
Все осмотрено, и на постели и под постелей, во всех углах. Мамон подходит к запертому шкапу и прислушивается у него жадным слухом.
Эренштейн собрал все присутствие ума и духа, чтобы не обнаружить своего смущения, в прибавку еще усмехнулся, между тем как в сердце и в уши било молотами.
Ну, если боярин потребует, чтобы отворили дверцы?.. Если Холмский только в обмороке и, очнувшись именно в эту минуту, когда Мамон прислушивается, застонет, хоть вздохнет?..
Не в состоянии дать себе отчета в своих движениях, Антон запускает руку поближе к стилету.
Все замолкло; никто не шевельнется.
– Никого, – сказал наконец Мамон.
– Никого, – повторили недельщики дрожащим голосом.
– Куда же он девался?
– Поищем его около дома.
И ватага стремглав высыпала из комнаты лекаря с запасом разных страшных замечаний. Иной видел кости человеческие, измолотые в иготи, другой кровь в скляницах, третий голову младенца (бог ведает, что в этом виде представил ему страх), четвертый слышал, как на голоса их отвечал нечистый из какого-то ящичка, висевшего на стене (вероятно, из лютни). Бедные, как еще остались живы и целы!
Слава богу, сыщики скрылись! Антон прислушивается: брякнули кольцом… ворота на запор… посыпались проклятия на Образца, на Холмского. Еще минуты две-три, и все замолкло глухою тишиной.
Двери на запор, простыню на окно, и… дрожащая рука, блуждая по замку, едва могла отворить шкап.
Глазам Антона представился старик необыкновенного роста, втрое согнувшийся. Он стоял на коленах, опустив низко голову, которою упирался в боковую доску шкапа. Лица его не было видно, но лекарь догадался, что это голова старика, потому что чернь ее волос пробрана была нитями серебра. В нем не обнаруживалось малейшего движения. С трудом освободил Антон этого человека или этот труп от его насильственного положения и еще с большим трудом снес его на свою постель.
К пульсу… Милость божия, пульс едва-едва бьется, как слабый отзыв жизни из далекого мира. Этот признак возвращает лекарю разум, искусство, силы, все, что было оставило его. Сделаны тотчас врачебные пособия, и Холмский открывает глаза. Долго не в состоянии он образумиться, где он, что с ним; наконец, с помощью возрастающих сил своих и объяснений лекаря, может дать отчет в своем положении. Тронутый великодушною помощию Антона до того, что забывает его басурманство, он благодарит его со слезами на глазах.
– Господь заплатит тебе сторицею, – говорит он. – Ах! если бы ты окрестился по-нашему, – прибавляет воевода, – отдал бы за тебя любую дочь свою.
Только теперь может Антон рассмотреть его наружность, мощно изваянную, черты его лица, резкие, грубые, но и вместе выражающие величие и благородство души. Едва не на смертном одре, под секирою грозного владыки, которая, того и гляди, готова упасть на его голову, он и тут, образумившись от первого, нежданного удара, кажется так спокоен, как будто после трудного дня пришел отдохнуть под гостеприимный кров. Жизнь воеводы спасена, свобода обеспечена – надолго ли? Кто может поручиться? Надо искать средств избавить его совершенно от гонений великого князя или укрыть на время от них, пока не прошел гнев владыки. Эренштейн дает себе слово стараться умилостивить Ивана Васильевича, собственным своим влиянием и влиянием сильного Аристотеля. В этом случае нужна величайшая осторожность. Укрыть же на время знаменитого беглеца может только Образец. Но как довести к нему Холмского теперь, в ночные часы? Слабый от пущенной крови, воевода не в состоянии идти без чужой помощи, да и с этою помощью нет возможности переправить его через тын, отделяющий двор боярский от басурманской половины. Провести же его через улицу и двое ворот нельзя и думать. Стучать в ворота, чтобы иметь вход через них, опасно. Можно ли ручаться, что Мамон не оставил около них караула? Время, однако ж, летит; вторые петухи обвестили город, что наступила полночь. Нет возможности откладывать перемещения воеводы до утра, потому что к лекарю из подклета явится его слуга и могут явиться посетители. Не опять же прятать воеводу в шкап и опять начинать ту же страшную процессию, которой повторение могло бы стоить жизни одному или другому.
Надо же решиться на что-нибудь, и Антон решается пробраться на половину боярскую, какими путями вздумает. Экспедиция хотя не дальняя, но затруднительная и опасная по отношениям одной стороны к другой. И потому запасся он своим надежным стилетом, который прицепил к поясу, и шестопером, вроде дубинки, вооруженной несколькими металлическими когтями; это был подарок от Аристотеля, добытый в войне против новгородцев. Сверх того Холмский дал ему жуковину – перстень с родовым гербом, служивший печатью при засвидетельствовании важных актов. Он носит ее всегда на пальце. Ныне эта жуковина могла уверить Образца, что лекарь действительно посол от его ратного товарища и друга. С такими орудиями брани и мира отправился Антон в свою экспедицию, не забыв исправно запереть знаменитого беглеца.
Первую осаду сделал он на тын, отделявший, как мы сказали, половину боярского двора от басурманского. Молодость и отвага творят чудеса, и он с пособием их уничтожил эту преграду, то есть перелез через нее не без того, чтобы не запечатлеть этот подвиг несколькими легкими ранами и потерей нескольких клочков платья. Как билось его сердце, когда он подумал, что находится в первый раз и в полночь, как тать, на половине боярина, который питает к нему незаслуженное отвращение и, может быть, ненависть! Свет от лампады трепетал в верхней светлице. Тут живет Анастасия. Как близко это сокровище и вместе как глубоко заперто от него за тридевятью замками! Об этом мог он думать очень недолго, потому что сейчас налетела на него огромная собака. Лай ее загорел на всю окрестность. Борьба была неровная; ей не дали много горячиться: стилет в бок, шестопер по голове, и верный сторож замолк навеки. Антону жаль было бедного пса, но миновать этой жертвы не было возможности. Не так ли и в обществе? Не встречают ли и там благородных несчастливцев, которые, служа другим для достижения цели, падают жертвами их?
Антон далее, и на красное крыльцо. Осторожно брякнул он кольцом в железную дверь, ведущую в сени. Никого. Он попытал тронуть дверь, и она отворилась. Антон в сенях. Поиграв несколько в гулючки, он попал на новую дверь. И в эту запрос легким стуком. Кто-то отвечал кашлем, дверь отворилась, и – перед ним старик, белый как лунь. Светоч, который он держал в руке, освещал на лице его грустную заботливость. Но как скоро он, сделав рукою щит над глазами, разглядел того, кто перед ним стоял, лицо его подернулось ужасом. Это был сам Образец.
Беспокоясь о своем друге и ратном сподвижнике, он не мог заснуть. С мыслью, не придет ли еще беглец искать у него убежища, он приказал дворчанам своим лечь спать (второпях забыл сказать, чтобы привязали собаку), а сам отворил калитку с улицы и оставил незапертыми двери в сенях. Потом он то молился божией матери, известной под названием «взыскание погибших», то, отворив окно, ловил малейший звук, струивший ночную тишь, то сходил вниз, к сеням. Он слышал лай собаки, он слышал шорох шагов по каменному крыльцу, стук в железные двери и спешил выйти навстречу своему другу.
И что же? перед ним его ужасный постоялец. Он ли еще или оборотень в его виде? Чего ему надо у боярина в полночь, когда он и днем не бывал на боярской половине?.. Бледный, весь дрожа, Образец с трудом поднимает отяжелевшую руку и творит крестные знамения, читая вслух:
– Да воскреснет бог и расточатся врази его!
– Да воскреснет бог и расточатся врази его! – говорит за ним Антон.
Повторим, что Эренштейн хотя еще не совсем хорошо изъяснялся по-русски, однако ж понятно.
– Туда, и к черту или к своей матери колдунье, а если замешкаешься, берегись оставить здесь поганые кости свои! – закричал Хабар-Симской вслед ему.
Мамон остановился и, покачав презрительно головой, послал ему в сердце адскую усмешку.
– Батюшка, позволь! – вскричал Хабар вне себя.
Образец опять остановил его и сказал с твердостью:
– Постой, сын; везде, где хочешь, лишь бы не здесь, у светлицы твоей сестры.
– Слышишь?.. – был вопрос Симского, полный жажды мести.
– Слышим-ста! – был глухой ответ Мамона.
Стук, беготня в доме, крик, шаги вверху, у светлицы Анастасьиной, все это отдается в ушах и сердце Эренштейна, трепещущем от неизвестности, что делается в семье боярина. Дорого заплатил бы он, чтобы там быть. Но вверху все замолкло, шум оборачивается в его сторону, приближается к нему. Стучатся в сенях. Он высекает огня.
Какая досада, какая мука! следы огромных ступней, ходивших по грязи, означились на полу и провели дорожку прямо к шкапу.
Что делать?.. Платье, утиральники, что ни попадается в руки, – на пол, и предательские следы уничтожены. Слава богу!
Он только что к двери, слышит: что-то рухнулось в шкапе так, что дверки затрещали; потом смертное хрипение, потом глубокий вздох и – гробовая тишина.
У Антона сердце оторвалось, волосы встали дыбом.
Что, если Холмский, пораженный гневом великого князя, мыслью о заточении и казни, истерзанный страхом, измученный скоростью побега, усилиями взлезть на стену, всем, что его так ужасно и так незапно разом обхватило, если он испустил дух?.. Может быть, задохся в шкапе… может быть, удар! Ужасно!
Князя Холмского найдут мертвым у лекаря… Что скажет молва?.. И так слывет он чернокнижником; назовут его убийцей. Потребуют его головы. Властитель, разгневанный укрывательством беглеца, выдаст ее народу. Антон знает, что такое озлобленный народ; лютость зверя ничего перед его жестокостью. Он имеет довольно духу идти в битву со смертью на одре болезни, даже на плахе, которой он не заслужил; он готов идти в битву, когда потребует долг; но смерть в когтях разъяренного народа – ужасна. И что еще ужаснее, он будет невольной причиною смерти ближнего…
Посмотреть в шкап, испытать врачебные средства нет возможности. Стучатся еще сильнее. Замешкаешься отворить, навлечешь на себя подозрение и усилишь розыски. Кто знает? могут выколотить дверь, и тогда застанут его очи на очи с беглецом.
А Холмский, может статься, жив!
Ни разум, ни сила духа и мышц, ничто человеческое не спасет. Разве бог, один бог! Все упование на него.
Ад в груди; между тем Антон старается составить свое лицо прилично обстоятельствам. Стилет под мышку, лампаду в руки, и дверь в сени отворена.
Перед ним Мамон и его дружина.
– Что вам от меня в ночное время? – грозно спрашивает Антон.
– Не взыщи, господине лекарь, – отвечает Мамон, почтительно кланяясь, – по приказу великого князя ищем важного беглеца. Он бежал сюда к палатам боярина, здесь и скрылся. Одному из наших вздумалось только теперь сказать, будто слышал, как Холмский лез по стене, будто твое окно отворилось…
– Неправда! – перебил Эренштейн. – Ложь!.. Ему померещилось… я не укрыватель беглецов… За что такое оскорбление?.. Кто это сказал?.. Я буду жаловаться великому князю.
– Не я, не я! – воскликнуло несколько голосов. Между ними был голос и доказчика. Думали, не подшутил ли над ним нечистый; знали, в какой милости властитель содержит лекаря, и опасались гнева Ивана Васильевича за то, что потревожили напрасно его любимца; опасались мщения самого басурмана-колдуна, который потому уж чародей, что выучился так скоро изъясняться по-русски – и не было более свидетельства, что беглеца видели у окна его. Мамон, по своим причинам, не настаивал.
– Однако ж, – сказал Антон, – чтобы не оставить вас в подозрении, я прошу, я требую осмотра.
И Мамон, за ним два недельщика, боязливо озираясь и творя шепотом молитву, вошли в спальню лекаря.
Все осмотрено, и на постели и под постелей, во всех углах. Мамон подходит к запертому шкапу и прислушивается у него жадным слухом.
Эренштейн собрал все присутствие ума и духа, чтобы не обнаружить своего смущения, в прибавку еще усмехнулся, между тем как в сердце и в уши било молотами.
Ну, если боярин потребует, чтобы отворили дверцы?.. Если Холмский только в обмороке и, очнувшись именно в эту минуту, когда Мамон прислушивается, застонет, хоть вздохнет?..
Не в состоянии дать себе отчета в своих движениях, Антон запускает руку поближе к стилету.
Все замолкло; никто не шевельнется.
– Никого, – сказал наконец Мамон.
– Никого, – повторили недельщики дрожащим голосом.
– Куда же он девался?
– Поищем его около дома.
И ватага стремглав высыпала из комнаты лекаря с запасом разных страшных замечаний. Иной видел кости человеческие, измолотые в иготи, другой кровь в скляницах, третий голову младенца (бог ведает, что в этом виде представил ему страх), четвертый слышал, как на голоса их отвечал нечистый из какого-то ящичка, висевшего на стене (вероятно, из лютни). Бедные, как еще остались живы и целы!
Слава богу, сыщики скрылись! Антон прислушивается: брякнули кольцом… ворота на запор… посыпались проклятия на Образца, на Холмского. Еще минуты две-три, и все замолкло глухою тишиной.
Двери на запор, простыню на окно, и… дрожащая рука, блуждая по замку, едва могла отворить шкап.
Глазам Антона представился старик необыкновенного роста, втрое согнувшийся. Он стоял на коленах, опустив низко голову, которою упирался в боковую доску шкапа. Лица его не было видно, но лекарь догадался, что это голова старика, потому что чернь ее волос пробрана была нитями серебра. В нем не обнаруживалось малейшего движения. С трудом освободил Антон этого человека или этот труп от его насильственного положения и еще с большим трудом снес его на свою постель.
К пульсу… Милость божия, пульс едва-едва бьется, как слабый отзыв жизни из далекого мира. Этот признак возвращает лекарю разум, искусство, силы, все, что было оставило его. Сделаны тотчас врачебные пособия, и Холмский открывает глаза. Долго не в состоянии он образумиться, где он, что с ним; наконец, с помощью возрастающих сил своих и объяснений лекаря, может дать отчет в своем положении. Тронутый великодушною помощию Антона до того, что забывает его басурманство, он благодарит его со слезами на глазах.
– Господь заплатит тебе сторицею, – говорит он. – Ах! если бы ты окрестился по-нашему, – прибавляет воевода, – отдал бы за тебя любую дочь свою.
Только теперь может Антон рассмотреть его наружность, мощно изваянную, черты его лица, резкие, грубые, но и вместе выражающие величие и благородство души. Едва не на смертном одре, под секирою грозного владыки, которая, того и гляди, готова упасть на его голову, он и тут, образумившись от первого, нежданного удара, кажется так спокоен, как будто после трудного дня пришел отдохнуть под гостеприимный кров. Жизнь воеводы спасена, свобода обеспечена – надолго ли? Кто может поручиться? Надо искать средств избавить его совершенно от гонений великого князя или укрыть на время от них, пока не прошел гнев владыки. Эренштейн дает себе слово стараться умилостивить Ивана Васильевича, собственным своим влиянием и влиянием сильного Аристотеля. В этом случае нужна величайшая осторожность. Укрыть же на время знаменитого беглеца может только Образец. Но как довести к нему Холмского теперь, в ночные часы? Слабый от пущенной крови, воевода не в состоянии идти без чужой помощи, да и с этою помощью нет возможности переправить его через тын, отделяющий двор боярский от басурманской половины. Провести же его через улицу и двое ворот нельзя и думать. Стучать в ворота, чтобы иметь вход через них, опасно. Можно ли ручаться, что Мамон не оставил около них караула? Время, однако ж, летит; вторые петухи обвестили город, что наступила полночь. Нет возможности откладывать перемещения воеводы до утра, потому что к лекарю из подклета явится его слуга и могут явиться посетители. Не опять же прятать воеводу в шкап и опять начинать ту же страшную процессию, которой повторение могло бы стоить жизни одному или другому.
Надо же решиться на что-нибудь, и Антон решается пробраться на половину боярскую, какими путями вздумает. Экспедиция хотя не дальняя, но затруднительная и опасная по отношениям одной стороны к другой. И потому запасся он своим надежным стилетом, который прицепил к поясу, и шестопером, вроде дубинки, вооруженной несколькими металлическими когтями; это был подарок от Аристотеля, добытый в войне против новгородцев. Сверх того Холмский дал ему жуковину – перстень с родовым гербом, служивший печатью при засвидетельствовании важных актов. Он носит ее всегда на пальце. Ныне эта жуковина могла уверить Образца, что лекарь действительно посол от его ратного товарища и друга. С такими орудиями брани и мира отправился Антон в свою экспедицию, не забыв исправно запереть знаменитого беглеца.
Первую осаду сделал он на тын, отделявший, как мы сказали, половину боярского двора от басурманского. Молодость и отвага творят чудеса, и он с пособием их уничтожил эту преграду, то есть перелез через нее не без того, чтобы не запечатлеть этот подвиг несколькими легкими ранами и потерей нескольких клочков платья. Как билось его сердце, когда он подумал, что находится в первый раз и в полночь, как тать, на половине боярина, который питает к нему незаслуженное отвращение и, может быть, ненависть! Свет от лампады трепетал в верхней светлице. Тут живет Анастасия. Как близко это сокровище и вместе как глубоко заперто от него за тридевятью замками! Об этом мог он думать очень недолго, потому что сейчас налетела на него огромная собака. Лай ее загорел на всю окрестность. Борьба была неровная; ей не дали много горячиться: стилет в бок, шестопер по голове, и верный сторож замолк навеки. Антону жаль было бедного пса, но миновать этой жертвы не было возможности. Не так ли и в обществе? Не встречают ли и там благородных несчастливцев, которые, служа другим для достижения цели, падают жертвами их?
Антон далее, и на красное крыльцо. Осторожно брякнул он кольцом в железную дверь, ведущую в сени. Никого. Он попытал тронуть дверь, и она отворилась. Антон в сенях. Поиграв несколько в гулючки, он попал на новую дверь. И в эту запрос легким стуком. Кто-то отвечал кашлем, дверь отворилась, и – перед ним старик, белый как лунь. Светоч, который он держал в руке, освещал на лице его грустную заботливость. Но как скоро он, сделав рукою щит над глазами, разглядел того, кто перед ним стоял, лицо его подернулось ужасом. Это был сам Образец.
Беспокоясь о своем друге и ратном сподвижнике, он не мог заснуть. С мыслью, не придет ли еще беглец искать у него убежища, он приказал дворчанам своим лечь спать (второпях забыл сказать, чтобы привязали собаку), а сам отворил калитку с улицы и оставил незапертыми двери в сенях. Потом он то молился божией матери, известной под названием «взыскание погибших», то, отворив окно, ловил малейший звук, струивший ночную тишь, то сходил вниз, к сеням. Он слышал лай собаки, он слышал шорох шагов по каменному крыльцу, стук в железные двери и спешил выйти навстречу своему другу.
И что же? перед ним его ужасный постоялец. Он ли еще или оборотень в его виде? Чего ему надо у боярина в полночь, когда он и днем не бывал на боярской половине?.. Бледный, весь дрожа, Образец с трудом поднимает отяжелевшую руку и творит крестные знамения, читая вслух:
– Да воскреснет бог и расточатся врази его!
– Да воскреснет бог и расточатся врази его! – говорит за ним Антон.
Повторим, что Эренштейн хотя еще не совсем хорошо изъяснялся по-русски, однако ж понятно.
Другие электронные книги автора Иван Иванович Лажечников
Басурман




 0
0
Окопировался




 4.67
4.67