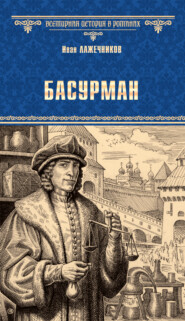По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Последний Новик
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Таинственный нищий был – Последний Новик. Он не выдержал; он пришел на родину.
Глава осьмая
Письмо издалека
Какая б ни была вина,
Ужасно было наказанье.
Пушкин
Дерпт и Нарва – последние твердые связи, которыми сердце Лифляндии держалось еще к шведскому правительству, – были взяты, и вслед за тем русские торжествовали над своими неприятелями ежегодно по нескольку побед на суше и водах. Сбывались предсказания Паткуля: мщение его делами отвечало на угрозы двух королей; почти вся Лифляндия принадлежала уже России. Вот все, что мы находим нужным сказать о происшествиях в четырех годах, последовавших за смертью Софии. Теперь попросим читателя на ковре-самолете воображения перенестись в 1707 год.
Шведские пленные были рассыпаны по многим городам России. Густав Траутфеттер проводил время своего скучного заточения в Коломне (за сто верст от Москвы). Квартира ему была назначена у одного богатого купца, смотревшего на постояльца своего, как обыкновенно невежественный класс русских смотрит на иностранца – существо, которое в глазах их есть нечто между человеком и животным. С ним вместе никогда не ели, не пили; для него была даже собственная посуда, оскверненная устами басурманскими. Впрочем, хозяин ласкал его, исправно натапливал печь в его комнате и потчевал его пирогами, говядиной и медом хоть до упаду. Надо прибавить, что щедрые денежные присылки от неизвестной особы давали ему способы жить прилично своему званию и даже помогать товарищам плена, большею частию содержавшим себя трудами рук своих. Нередко дочери хозяина, две пригожие девушки, из затворнических своих светлиц то бросали цветы в милого незнакомца, то нежили слух его заунывными песнями. Но Густав был равнодушен к этим знакам сердечного внимания.
– Как! – скажут некоторые светские люди. – Как, быть верну пять лет? C'est presque le siege de Troie! [Это почти осада Трои! – фр.].
Да, милостивые государи, он любил Луизу, как никогда еще: в разлуке, в плену, в обществе людей непросвещенных, образ ее, не покидая его, всегда стоял у него на страже от всех искушений. Сердце Густава помнило только один дар любви, привет одних глаз, понимало только одно уверение, которое, казалось ему, произносила Луиза своим волшебным голосом: «Густав! сказать ли мне, что я тебя люблю? Ты это давно знаешь!» Взамен попечений о нем Паткуля, находившегося уже несколько лет посланником от российского двора при короле польском, не оставляли его благодеяния скрытного гения, присылавшего уже несколько раз известия о Луизе: «Луиза здорова. При взятии русскими Дерпта с нею ничего худого не случилось. Есть верные известия, что она вас по-прежнему помнит и любит. Надейтесь!» Вот что писали к нему в разные времена, услаждая таким образом грустное его изгнанничество. Рука была незнакомая. Сначала довольно поломал он себе голову, чтобы открыть, кто давал ему эти известия; но впоследствии оставил эту заботу, довольный, что есть человек в России, который желает ему добра. В 1707 году прекратились вдруг сведения о фамилии Зегевольд. Истомившись в надеждах на лучшую будущность и не видя им исполнения, он предался отчаянию. Все помрачилось в его глазах: и природа и люди. В первой, казалось ему, времена года изменили свой порядок, земля лишалась уже теплоты солнечной, отброшенная гневом провидения в низшую сферу миров. Человек представлялся ему существом несчастнейшим, пущенным на эту земную глыбу для страданий. Неожиданное письмо, им полученное, сколько обрадовало его сначала почерком руки, написавшей адрес, столько же содержанием своим переполнило чашу горести, поднесенную ему судьбою. Письмо было от двоюродного брата его.
"Немалого труда стоило мне сыскать случай доставить тебе это послание, милый брат и друг! – писал Адольф. – Оно сделает большие извилины, пока дойдет до тебя. Но, завоевав этот случай золотым орудием, не знаю, с чего начать письмо. Голова моя идет кругом, сердце так преисполнено горести, досады, негодования, что я не приберу для них выражений. Суета сует и всяческая суета! – вот слова, которые я, ветреник, каковым ты знавал меня, редко заглядывавший в Священное писание, ныне твержу беспрестанно; вот слова, вырывающиеся у меня теперь из груди и служащие мне якорем для утверждения на них моего послания.
Ты счастлив! да, повторяю тебе, ты счастливее меня во сто раз. В скучном изгнании своем, в разлуке с милыми сердцу, ты вознагражден любовью Луизы, о которой – прости мне! – не могу говорить и до сих пор без того, чтобы средь бела дня у меня в глазах не мутилось и сердце не поворачивалось, как в смоляном кипятке. Ты знаешь, что прелестнейшая из женщин тебя любит; ты обладаешь еще благом, ни с чем не сравненным – надеждою! А я?.. растеряв свое сердце по всем дневкам наших походов, убегая отечества, разоренного и едва ли не завоеванного русскими, убегая мест, где каждый шаг напоминал мне стыд нашего оружия, еду в главную армию, чтобы отдохнуть хотя среди побед моего короля и славы шведов, – и что ж? Как будто нарочно, приезжаю к цели своих желаний для того только… Ты знаешь, что я не трусливого десятка, видал довольно хладнокровно смерть в разных ее карикатурных образах на полях битв; но, собираясь начертать тебе роковые слова, дрожу, как в лихорадке, и не могу совладеть с пером. Дай мне настроить свои силы, чтобы приступить к ужасному описанию; собери и ты все присутствие своего духа, чтобы читать его. Начну издалека и опять обопрусь на якоре священных слов: суета сует и всяческая суета!
После письма, которое я старался доставить тебе надежными путями и в котором описывал подробно все, со мною или, лучше сказать, с нами случившееся с того времени, как мы расстались [письмо это не было доставлено Густаву по причинам, не известным автору], заключен я был в Дерпте до взятия его русскими. Лифляндцы отстаивали крепость, как любовник милую ему особу от нападения соперников; однако же не устояли против множества осаждавших, личного мужества и искусства венчанного героя. Да, милый друг, и я теперь скажу: Петр – герой истинный! Гарнизон, по условию, должен был выйти из крепости без знамен и оружия; но великодушный победитель, уважив в неприятелях необыкновенное мужество, с которым они противились ему, возвратил офицерам шпаги и третьей части солдат их ружья. Признаюсь, такой поступок от повелителя диких народов тронул, восхитил меня. Я смотрю теперь на Петра другими глазами, без предубеждения, которое мы привыкли питать к нему.
Приехав в главную армию, я застал короля на торжественной колеснице, отнимающего венцы и раздающего их. Все трепетало имени шведского. Что ж из этого для нашего отечества? – думали лифляндцы и по-прежнему шли проливать свою благородную кровь за упрямство короля.
Август, скитаясь изгнанником по Польше, старался малодушными жертвами умилостивить победителя: преклонив колена, он молил о пощаде. Карл требовал, чтобы противник его навсегда отказался от польской короны в пользу Станислава Лещинского, и – кто б помыслил, чтобы завоеватель царств, даривший их, как игрушки, жадничал более всего приобретения одного человека? – он потребовал выдачи Паткуля. Министры Августовы не любили нашего дяди за его резкий, благородный до излишней смелости характер и особенно за то, что он, быв предан выгодам своего нового государя, Петра I, всегда предупреждал козни поляков против него. Это был гром, заставлявший грешников перекреститься. Сам Август видел в Паткуле зоркого, неподкупного соглядатая всех своих действий, слабых, двусмысленных и не всегда благородных. Его польско-саксонское величество имело крепко на сердце, что посланник при дворе его потребовал от него некогда отчета в субсидных деньгах, присланных верным союзником и употребленных королем на подарки разным женщинам; он знал также, что Паткуль следил все намерения его сблизиться с Карлом и своею политикою мешал этому сближению. Одним словом, Паткуль был пожертвован малодушию Августа, зависти и недоброжелательству его министров и мщению Карла.
Все, что будешь читать теперь, почерпнуто из следственного дела, находившегося у меня в руках, и из сведений, изустно мне переданных лицами, разыгрывавшими ужасное происшествие, какому не было еще примера. Многое, что описываю, видел я собственными глазами.
Оставив неудачное командование над русскими войсками в Польше, Паткуль находился то в Дрездене, то ездил в Берлин. Возвратясь из Пруссии к саксонскому двору, в занятиях литературных находил он сладостный отдых от трудов политических. Как бы предчувствуя скорый конец своего бурного поприща, он написал несколько сочинений, служащих к оправданию его действий с того самого времени, как избран был ходатаем за права своих соотечественников у престола шведского. Хиромантия, которую, как известно тебе, любил этот необыкновенный человек, похищала также не мало времени из жизни столько деятельной, которая бы могла быть столько полезною для его отечества, если бы своекорыстные расчеты одного короля и мщение другого не отняли его у нашей бедной Лифляндии. Наконец на сорок втором его году, Гименей готовился поднести ему самый роскошнейший цветок, какой родился в садах мира: прелестная саксонка Ейнзидель уже с кольцом обручальным отдала ему свое сердце. Между тем коварная судьба, усмехаясь, точила свои орудия на жертву, которую за несколько часов сама окружила всем очарованием земного счастия. Девятнадцатого декабря [новый стиль] 1705 года, в одиннадцать часов вечера, только что успел он лечь в постель и уснуть, вероятно с приятными грезами, исполнители власти, слишком малодушной и несправедливой, чтобы действовать днем, вторгаются в квартиру нашего дяди, будят его без всякой жалости и снисхождения, обыкновенно в этом случае оказываемых даже преступникам, не дают ему времени одеться и за строгим караулом увозят его в крепость Зонненштейн. Там бросают его за железную решетку и оставляют несколько дней без пищи. Бумаги его запечатаны; секретари, кроме Никласзона, умевшего и на этот раз выпутаться из беды, и служители заключены также по разным отделениям крепости. Один Фриц, обреченный еще раз служить его избавлению, находился в то время, по делам своего господина, в Берлине. Слух о необыкновенном заточении посланника бежал скоро по всем дорогам и встретил верного служителя на возвратном пути его. Он прибыл-таки в Дрезден, но, укрываясь у друзей своего господина, посвятил всего себя его спасению. Взялась содействовать ему в этом деле – кто? как бы ты думал? – дочь пастуха! Да, любезнейший друг, теперь только узнал я, что может женщина, которая любит!.. Это дивное создание, перед которым все возвышенное, все благородное должно пасть на колена, швейцарка Роза. Дочь бедного пастыря, вызванная вместе с отцом своим из Альпийских гор, где Паткуль укрывал некогда свою изгнанническую голову, она имела несчастье предаться всею душою этому обольстительному сыну рока. Отца, родину, долг променяла она на любовь; весь свой мир вместила в нем в одном. Когда Роза, вместе с отцом, возвращалась с мызы Блументростовой в Швейцарию и когда узнала, что он ни за что не решается идти в Дрезден, где любовником ее назначено ей было свидание, она бросила старика и понесла свои великие жертвы к ногам своего идола. Один взгляд любви заставил бы Розу все забыть, кроме этой любви. Каков же был для нее удар, когда она с трепетом сердечным, с мечтами о сладостной награде, прибыв в Дрезден, узнала на пороге Паткулевого жилища, что он сговорен на Ейнзидель! Эта весть была для нее ударом громовым. Несколько дней ходила она как полоумная, без сна, без пищи; мальчишки начали бросать в нее грязью, приветствуя ее именем дурочки; сострадательные сердца готовились пристроить ее в дом умалишенных. Весть о несчастии Паткуля оживила ее; все к ней возвратилось: рассудок, силы телесные и душевные, воля, все побеждающая, – воля любви. Прекрасная Ейнзидель долго плакала по женихе своем (говорят, что она и теперь не замужем!), Роза действовала. Давши руку Фрицу на жизнь и смерть для спасения человека, им столь драгоценного, она не словами, а делом начала доказывать свои чувства. Никласзон взялся также им помогать, как он говорил, в изъявление признательности за великие благодеяния, оказанные ему Паткулем.
Труды их не остались тщетными. Роза умела, под видом торговки сыром, пробраться в крепость, найти доступ к коменданту и, наконец, к затворнику. При свидании с Паткулем она забыла его вины; благодарность, казалось, возвратила ей любовь друга, но это была только благодарность. На груди Розы несчастный вздыхал об Ейнзидель. Комендант, из сожаления ли к своему пленнику или задаренный деньгами, начал обходиться с ним милостивее и даже позволил вести переписку с доверенными ему особами. Следствием ее были жаркие представления посланников разных дворов саксонскому курфирсту, в том числе князя Голицына, об оскорблении, нанесенном государям их в лице представителя русского монарха. Август боялся Петра, боялся мнения света и потому колебался было освободить своего пленника; но, испуганный новыми победами Карла, оставил по-прежнему Паткуля в заключении. Переписка открыта; пленник переведен в Кенигштейн под строжайший присмотр, а человеколюбивый комендант зонненштейнский казнен. Мщение не извиняет жалости.
Ты слыхал, что такое Кенигштейн: твердыня на скале неприступной, куда нога неприятельская никогда не клала своего следа и, вероятно, никогда не положит. И туда умели пробраться любовь Розы и верность Фрица. Рассказывают, что комендант кенигштейнский, несмотря на ужасный пример, в его глазах совершенный, склонился было за тельца золотого освободить нашего дядю, но что Паткуль слишком понадеялся на заступление Петра, на важность своего сана и великодушие Августа – и отказался купить себе свободу ценою денег.
Однажды, в час свидания, дорого купленный, Роза приносит пленнику письмо – от кого, думал бы ты? – от Ейнзидель. Роза поймала в глазах своего друга желание и спешила исполнить его; сходила в Дрезден, объявила невесте Паткуля, что несколько строк ее руки утешат затворника, получила от нее письмо, несла несколько миль свинцовое бремя у сердца своего и эту новую жертву положила к ногам своего кумира, чтобы в глазах его прочесть себе награду. Я не прибавляю ничего; слова недостаточны для изъяснения этого подвига: твое сердце оценит его!..
Быв в свите нашего короля, я узнал о заточении дяди только в Гутсдорфе, где Карл и Август имели свидание на квартире нашего министра Пипера. Не думай, чтобы два соперника, столь различные, однако ж, своим положением, сошлись так близко для беседы о важных делах государственных. Карл, после обыкновенных приветствий с обеих сторон, начал разговор своими сапогами, продолжал сапогами и кончил ими же. Несмотря, что речь шла только о ногах, Август должен был снять с головы корону и, скрепя сердце, поздравить с нею нового польского короля, указанного мечом победителя. Этим свиданием решена и передача нашего дяди в полное распоряжение Карла. Я попытался просить его величество о помиловании; но он был неумолим. Северный лев не мог удержать своего восторга, что поймал жертву, столь долго издевавшуюся над его силою; он решился продлить еще на несколько времени жизнь ее, чтобы насладиться долее своим мщением. Поверишь ли, как был низок великий Карл XII в эти минуты!.. Если попадутся его величеству эти строки, пускай насытит он вновь жажду крови над благородным лифляндцем, не раз проливавшим ее за него.
(Здесь рукою Карла XII написано было: «Читал и велел доставить письмо по адресу. Траутфеттер – не Паткуль».)
Отряд шведский под начальством двух лифляндцев (барона Ротгаузена и капитана Стакельберга) принял в свое заведование Паткуля и отвел его в Рейхардсгримм, где находилась шведская главная квартира. Королевское мщение, поручив надзор за пленником лифляндцам, казалось, хотело посмеяться над отечеством нашим. Бедная Лифляндия! Мало тебе, что за твою верность предали тебя огню и мечу неприятельскому; над тобою еще бесстыдно ругаются. Но – бог милостив: час твоего избавления наступает.
Друг мой! я видел его – сердце замирает от одного воспоминания этого зрелища, – я видел благороднейшего из лифляндцев, прикованного к позорному столбу. Капитан дежурный не мог отказать мне в свидании; но легче б мне было не испрашивать его. Страдания истомили тело несчастного; он походил на мертвеца; ржавчина желез въелась в его руки, но какой сильный дух еще в нем обитал! Рыдая, пал я в его объятия. «Друг мой! – сказал он. – Ты плачешь, увидя меня в таком положении. Знаешь ли, что эти цепи – мое торжество? Это обрывок тех цепей, которыми я опутал вашего Карла и под которыми он скоро изнеможет. Звук их, – прибавил он, гремя железами, – есть отголосок мира, приговор потомства несправедливой власти. Свет был ослеплен насчет Карла XII: я доказал, что можно его победить; мой плен открыл глаза свету. Слава его пала навсегда – навсегда! не воскресят ее тысячи побед. Напротив, моя возвышается этим унижением, этими цепями; они говорят сильнее за меня, нежели само предстательство Петра Великого и дворов европейских. Впрочем, я не потерял еще надежды… Да! голос Великого не ходатайствует нигде вотще! Но если погибну жертвою мщения, то завещаю будущим векам позор Карла XII и величие моих несчастий. Лифляндия! о мое отечество! я желал тебе добра: бескорыстный защитник твоих прав это доказал; я желаю, тебе добра! – будут последние слова, которые произнесу, умирая за тебя».
Несчастный говорил много, с необыкновенною силой и жаром, глаза его горели, грудь сильно поднималась. Звуки цепей, по временам потрясаемых, казались мне громовыми текстами, которыми он придавал своей проповеди особенную силу. Вдруг, посреди его движений, сустав на одной руке его от худобы хрустнул, кисть сдвинулась с места. «Друг мой! – сказал он довольно твердо. – Справь мне руку, по-солдатски. Это не первый раз!» Скрепя сердце, я взял на себя должность костоправа и помог несчастному, сколько умел. «Как тело немощно! – прибавил он. – Одно легкое движение изменяет его; но дух – о! его перенесу я с земли к ногам творца моего в целости, в том виде, в каком получил его от творца!..» Потом расспрашивал он меня долго о тебе, о Луизе, присовокупил, что он не будет спокоен и на том свете, если твоя судьба не устроится по обещанию его и твоему желанию. «Густав любит так много и равно любим, – сказал он, тяжело вздохнув. – Мне писали, что одна особа, близкая царю, продолжает устраивать его счастие. Ах! и я думал наслаждаться подобным счастием!.. Друг мой! если будешь в Дрездене, скажи моей Ейнзидель, что я, умирая, думал о ней, что у позорного столба… нет, нет, не говори последнего! Робкая любовь ее вообразит себе все ужасы моего положения, и Паткуль предстанет ей в виде презренном, ужасном… Презрение!.. Мысль об этом чувстве поворачивает вверх дном все мое существо. Страсть, дружба не боятся такого зрелища; но его испугается чувство, воспитанное в неге, в роскоши придворной, окруженное лучами славы и удовольствий. Скажи только моей невесте, что ее воспоминание обо мне усладит последние минуты моей жизни». Из глаз несчастного закапали слезы на иссохшую грудь его и оттуда пали на железо. Я плакал с ним вместе.
Голос дежурного офицера прекратил нашу беседу. Нас разлучили. При выходе из сарая (нельзя иначе назвать место, где содержался Паткуль) я встретил доброго Фрица и подле него увидел Розу – можно было угадать сейчас это дивное творение. Она сидела на голой земле, сложив голову на грудь и потупив томные взоры туда, где душа оставляет навсегда свои телесные оковы. Поверишь ли, милый друг, что она с Фрицем откупала себе место подле тюрьмы или большими деньгами, или трудами, не свойственными ее полу? Присовокупи к этим жертвам грубые ласки и насмешки солдатчины… Как скоро имя дяди нашего коснулось ее слуха, она встрепенулась, начала ловить в глазах моих чувство, которое я нес из заточения несчастного, и с жадным вниманием прислушивалась к нашему разговору. Видно, что сильная любовь особенно изощряет чувства; ибо некоторые слова, сказанные мною так тихо, что старик, подле меня стоявший, едва мог их слышать, отпечатывались верно на лице ее. Прелестное душой и телом творение! ты достойна была б лучшей участи.
Фриц намекнул мне о надежде… Высшая власть уже приговорила Паткуля к казни; между тем, для обряда, желая казаться справедливою, приказала военному суду заняться процессом несчастного. Можно было заранее угадать, какое зрелище последует за этой комедией!..
Из Саксонии вывезли Паткуля в закрытой повозке, в которой проверчено было несколько скважин для воздуха. Тридцать солдат генерала Мейерфельда, полка, состоявшего из одних лифляндцев, прикрывали его путешествие в Польшу. Двадцать седьмого сентября должен был печальный поезд прибыть в Казимир, где тридцатого числа назначено колесовать несчастного.
На другой день по прибытии Паткуля в Казимир, где он был заключен в городовую тюрьму, полковой священник, магистр Гаген, получив тайное повеление приготовить его к смерти, пришел к нему в три часа пополудни. Явление духовной особы разъяснило несчастному его судьбу. «Я пришел утешить вас дарами Священного писания», – сказал Гаген. «Благодарю вас, отец мой! – отвечал Паткуль дрожащим голосом, взяв его за руку. – С этим вместе несете вы мне, конечно, другие важные вести». Гаген поклонился офицеру, тут же находившемуся, шепнул ему что-то на ухо и, когда он вышел, обратился с чувством и твердостию к дяде нашему: «Выслушайте от меня, благороднейший господин, то, что произнес некогда пророк Исайя царю Езекию: устрой свой дом, ибо ты должен умереть и до вечера завтрашнего ж дня оставить мир сей». Эта весть, казалось, поразила узника, не терявшего до сего времени надежды; он бросился на постель и плакал. Но это малодушие было только мгновенною данью природе. Вскоре успокоился он, присел на скамейку к пастору и с красноречием, ему свойственным, излил перед ним оправдание своей политической жизни. «Несправедливая редукция и личная ненависть временщика, Гастфера, – вот мое преступление! – говорил он. – Швеция упрекает меня, что я пошел служить ее неприятелям. Но оставил ли я ее, счастливый, в честях, с насмешками и угрозами? Я бежал из нее, как изгнанник, спасая свою голову. Куда было деваться мне? Не в землю же укрыться! По вере своей, и в монастыре не мог я найти убежища. Я все употребил, чтоб умилостивить двух королей; но мою преданность, мою покорность презрели. Не этого хотела самолюбивая власть: она хотела примерно наказать меня за то, что я осмелился возвысить пред нею голос на защиту прав моего отечества, что я вздумал изобличить несправедливость ее избранных и ее самой. В позоре и смерти моей видела она свое личное торжество и унижение смелой истины…» Здесь духовник прервал Паткуля, напомнив ему, что не время заниматься делами земли. Осужденный с жаром взял руку Гагена и сказал: «Дайте мне малый срок заплатить дань земному; после того не услышите от меня ни слова о презренных вещах здешнего мира». Паткуль говорил еще о своих услугах прусскому королю и римскому императору; говорил, сколько тысяч талеров роздал он шведским пленным в Москве, разразился негодованием на малодушие Августа и наконец, почитая себя оправданным в своей политической жизни, отпустил духовника до ближайшего свидания.
В семь часов вечера Гаген посетил опять узника. На этот раз застал он его совершенно успокоенным. «Добро пожаловать! – сказал Паткуль с веселым видом. – Вы, как ангел божий, приходите к затворнику. С сердца моего спало тяжелое бремя; я чувствую в себе большую перемену. Радуюсь, что должен умереть: неволя мучительнее смерти! Лишь бы смерть была скорая!.. Не знаете ли, к чему я приговорен?» Гаген отвечал, что приговор остается для него тайною и только известен высшему начальнику. «Ах! и это почитаю милостью! – воскликнул несчастный. – По крайней мере, сделают ли мне судебным порядком допросы?» – «Думаю, – возразил магистр, – что вам все объявят на лобном месте». После этих нерешенных вопросов осужденный занялся с ним духовной беседой. «Путем терновым должны мы идти в царство небесное, – говорил он. – Я уверен, что страдания мира сего ничтожны в сравнении с блаженством, ожидающим нас за пределами гроба».
На предложение духовника сделать перед смертью какое-либо письменное распоряжение дядюшка попросил бумаги и прибор для письма и, когда подали ему то и другое, продиктовал Гагену духовное завещание, которым отказывал третью часть своего движимого имущества [Почти все имущество его находилось в долгу за Августом, который никогда не думал уплатить его. Немудрено, что этот долг служил одним из низких побуждений выдать Паткуля] верному и преданному секретарю Никласзону; другую часть назначал на выкуп родового имения в Лифляндии с тем, чтобы оно перешло к ближайшим наследникам завещателя, а остальную часть – ты отгадаешь, любезный друг, что он не забыл нас в этом случае. Подписав завещание и передав его духовнику, он задумался; потом, глубоко вздохнув и качая головой, произнес: «Да, да! в отечестве своем и на чужбине Паткуль имеет друзей, которые будут жалеть о нем. Что скажет о моей смерти старая курфирстина и… (со слезами на глазах договорил он) моя бедная невеста?.. Ради бога, отец мой, передайте Амалии Ейнзидель мой предсмертный поклон… Обещаете ли?» Магистр дал слово выполнить его желание. (О Розе не было слова; но в тайной исповеди его грехов эта несчастная жертва, конечно, заняла первое место.) Тут узник не без труда убедил своего духовника, в знак благодарности за усердное напутствование из этой жизни в другую, принять от него сто червонных и сверх того подарил ему редкое издание Ветхого завета, которое, как он изъяснился, было лучшим его утешением в черные дни его жизни. Побеседовав еще о разных благочестивых предметах, дядюшка изъявил желание успокоиться. «Мне нужно сном подкрепить тело свое, – сказал он, – завтра должен я бодрствовать». Духовник оставил его одного".
Продолжение письма было написано не рукою Адольфа; вот его содержание:
"Милостивый государь!
Нет нужды сказывать вам мое имя; оно покуда останется для вас тайною. Довольно вам знать, что я приятель вашего брата, что он, быв неожиданно потребован королем, с которым и отправился в Польшу, не успел, по этому случаю, кончить письмо свое к вам и просил меня сделать это вместо него. Исполняю волю вашего брата; продолжаю его повествование и сказанными путями отправляю письмо к вам.
Вслед за тем, когда духовник вышел от Паткуля, Никласзон тихими стопами вошел к нему и открыл, что преданные ему все приготовили к его спасению. Эта неожиданная весть сначала перепугала Паткуля: совсем приготовясь к смерти, стоя уже одной ногой на пороге гроба, он, казалось, неохотно возвращался назад. Но друзья его сделали такие большие пожертвования, жизнь взглянула ему в лицо очаровательными глазами Ейнзидель, ведя за собою столько радостей; насмешка над властолюбием Карла еще льстила ему так много, что он согласился с волею своих друзей. «Буду готов!» – сказал Паткуль, отпуская своего бывшего секретаря, и жизнь с мечтами любви и честолюбия разыгралась снова в этой пламенной душе.
Выше объяснено, что Мейерфельдский полк состоял весь из лифляндцев. Негодование и сожаление одушевили ряды их; многие из них громко вопияли против жестокости короля; во всю дорогу из Саксонии до Казимира оказываемо было пленнику снисхождение разного рода; друзьям его позволено с ним видеться и беседовать; из скважин в его повозке поделаны окна; пища давалась ему самая вкусная: дорогой он видимо оправился. Наконец составлен заговор спасти осужденного; но как все еще ожидали милости королевской, о которой доходили слухи во время путешествия, то и отложили привесть этот заговор в исполнение уже по прибытии в Казимир.
Все слажено к вечеру двадцать девятого. В этот роковой вечер должна решиться судьба Паткуля.
Вот план заговора: Роза каждое утро и вечер посещает заключенного; ее пропустят, по обыкновению. За корсетом у ней две пилы: одною рушатся железы на пленнике, другою – слабая решетка из двух связей у окна тюремного. Бечевку, которую она прикрепит под свое платье, спустят в окно. Внизу, у стен тюремных, Фриц привяжет к концу бечевки веревочную лестницу. Бойкие лошади расставлены, где нужно; дежурный офицер, неподкупный ни с какой стороны, употчеван вином. Стража, которая, по расчислению времени, должна стоять у дверей Паткулевой комнаты и под окном ее, у стен тюремных, предалась всею душою заговорщикам. Побег обеспечен: Никласзон устлал дорогу червонцами.
Главное дело должна совершить Роза. Приступая к нему, она падает на колена и, подняв к небу полные слез глаза, молит бога об успехе. «Дай мне спасти его! – восклицает она. – И потом я умру спокойно! Мне, мне будет мой Фишерлинг обязан своим спасением; он вспомнит обо мне хоть тогда, когда меня не станет; он скажет, что никто на свете не любил его, как я!»
Было к девяти часам вечера. Роза подходит к тюрьме; сердце у ней бьется необыкновенно. Она сказывает пароль страже у входа; ее пропускают. Но в караульне навстречу ей дежурный капитан, исполин, плечистый, рыжеволосый, отекший от вина. Огонь, горевший в сальной плошке, бросал полусвет кругом себя и только изредка, забрав вдруг пищи в светильню, ярко вспыхивал. Тогда выставлялись ломаными чертами то изувеченное в боях лицо ветерана, изображавшее охуждение и грусть, то улыбка молодого его товарища, искосившего сладострастный взгляд на обольстительную девушку, то на полном, глупом лице рекрута страх видеть своего начальника, а впереди гигантская пьяная фигура капитана, поставившего над глазами щитом огромную, налитую спиртом руку, чтобы видеть лучше пред собою, и, наконец, посреди всех бледное, но привлекательное лицо швейцарки, резко выходившее изо всех предметов своими полуизмятыми прелестями, страхом и нетерпением, толпившимися в ее огненных глазах, и одеждою, чуждою стране, в которой происходила сцена. Но когда свет в плошке, ослабевая, трепетал, как крылья приколотой бабочки, тогда все фигуры погружались в какую-то смешанную, уродливую группу, которая представляла скачущую сатурналиюи над нею господствующую широкую тень исполина-капитана.
«Милости просим, милости просим, залетная райская пташка! – сказал он, устремив на девушку помутившиеся взоры. – Что к нам после зари попало в западню, то наше по всем правам… черт меня побери, да я такой красотки давно не видал!»
«Ваше благородие! – сказала Роза голосом, в котором выражались смущение и боязнь подпасть гневу ее властителя. – Позвольте мне к заключенному… вам известно… я, презренная тварь, люблю… связи давнишние…»
«Ого! знаем все ваши шашни! – прервал, смеясь во все горло, капитан. – Только что вышел от превосходительного нашего арестанта целитель душ, как является врач… Гм! гм! Ну, конечно, оно легче отправляться на тот свет. Чтобы меня самый главный из чертей, барон, граф, князь-черт заполонил, коли я лгу! Если бы мне пришлось знать свою смерть за несколько часов, я сделал бы наоборот».
«Вы так добры, вы так милостивы…» – говорила Роза, сложив свои руки в виде моления. Она стояла на раскаленных угольях; но сойти с них не было возможности. Своевольный капитан, стащив с нее неосторожно косынку, положил широкую, налитую вином руку свою на плечо девушки, белое, как выточенная слоновая кость. Это был пресс, из-под которого трудно было освободиться.
«Ну, превосходительная, поцелуй за пропуск…»
Каждый миг дорог; рассуждать некогда – Роза исполнила волю пьяного деспота и, думая, что этим умилостивила его, сделала движение вперед; но геркулес наш обнял девушку так крепко, что пилы, бывшие на ней, вонзились в грудь и растерзали ее.
Роза вздрогнула, выдираясь из объятий капитана. Ад был в груди ее; но она выдавила улыбку на свое лицо, называла мучителя милым, добрым господином, целовала его поганые руки.
«А вот сейчас, касаточка! Не думай, однако ж, чтобы прелести твои нас так ослепили, что мы забыли службу его королевского величества, нашего всемилостивейшего… Черт побери, не несешь ли чего запрещенного колоднику?»
У стен тюремных раздался с тремя перерывами голос часового: это был знак, что все изготовлено Фрицем. А Роза еще ничего не сделала! Она затрепетала всем телом; из раны на груди кровь забила ключом. Несмотря на свои страдания, она старалась оправиться и отвечала довольно твердо: «Разве я полоумная! разве мне виселица мила?»
«О! мы не допустим до чужих зубков такое сладкое яблочко. Мы, понимаешь… по военному регламенту… пункт… (капитан приставил толстый перст к своему лбу) дьявол побери все пункты! их столько вертится в глазах моих… Гей! капрал! по которому?..»
Другие электронные книги автора Иван Иванович Лажечников
Басурман




 0
0
Окопировался




 4.67
4.67