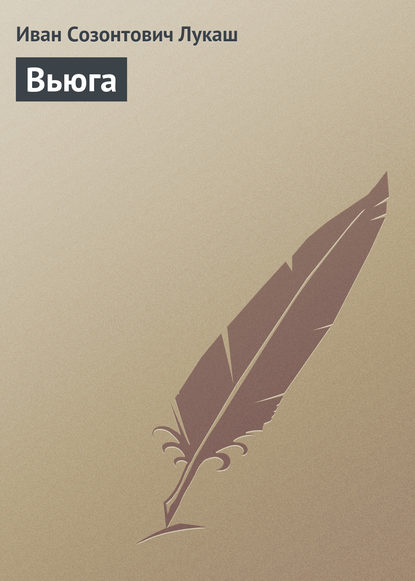По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вьюга
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Иона соглашался во всем со своим мудрым соседом, только добавлял, что еще и Савлы могут стать Павлами, и оглашенные могут войти на литургию верных. Оба иерея верили, что дух человеческий еще наполнится сознанием сыновства Божия, и тогда станет Христовой земля. Для Маковецкого все это было так же несомненно, светло и просто, как гирлянда деревенских цветов на алтаре Царицы Небесной, Матери всего сущего.
Всего чаще, жмурясь от совершенно детских слез, Иона говорил о литургии. Служится вечно и всюду Божия литургия, говорил он, все сущее в добре своем творит Божью литургию, и когда их, иереев, замучают и убьют, все равно останутся на свете иереи, кто вознесет дары над Престолом, а когда бы и всех христиан убили, все равно, птица, поющая на заре, и самый камень, теплеющий от солнца, будут творить литургию Господню.
Ночью ксендз Маковецкий тихонько ворошился на нарах, вздыхал:
– О, Иисусе, Свет мой, радость сладчайшая… Старик никак не мог привыкнуть, что от него отобрали крошечный латинский требник, по какому он читал молитвы.
– А, спите, батюшка, – утешал его Иона. – Я за вас помолюсь. Вы годами старше меня, отдохните, я помолюсь и за вас, и за всех христиан.
Иона Невелинов молился на коленях, долго, истовым шепотом, широко крестясь, крепко откидывая назад львиную голову.
Трех стариков из барака куда-то угнали. Вегенер без них страдал. Ночью он сидел на койке под шинелью старого солдата, оставшейся ему, и думал, что никогда не выйти с каторги, а если и выйдет, все равно уже затоптана его жизнь. Коммунисты осмелились затоптать его невинную ни перед кем и ни перед чем жизнь. Он вспомнил дом на Малом проспекте, университет, войну, всех солдат, каких видел на фронте, всех людей, с кем когда-либо встречался, всю жизнь и отца, потерянного в детстве.
Ему повиделась Германия, о которой он никогда не думал, в которой никогда не бывал, холмы и острые соборы, стада белых облаков над озерами и зеленые хлеба, как тихая музыка. Он вспомнил имя городка, где прошла молодость отца, Вердер: он никогда не был там, но он увидел Вердер, белый от цветущих яблонь, белые лепестки в канавах с веселой водой, на расшатанной старой конке, которая ходит в гору, на спинах лошадей, на шапке старого кучера.
Ночью под шинелью Вегенер запел вдруг старую прусскую песню, какую слышал от отца. Он пел, не разжимая губ.
За то, что он пел, охрана его избила. Вегенер глотал кровь и пел. Потом замолчал.
Он молчал много дней. Потом стал тихо благодарить всех, со светлой улыбкой. За это его тоже били. Он кротко улыбался избивавшим его и благодарил.
Хромой Вегенер со звякающей ногой понял, что его отец, дочь, вся Россия и Германия, с ее реющим вольным небом и острыми колокольнями, весь мир живой таится, живет в нем так же, как в тех, кто топчет его сапогами, что таится во всех свет Божий, неистребимый, такой же, как в глазах его девочки, кого уже никогда не понесет он по лестнице дома на Малом проспекте. И вечный свет, сияющий в каждом, все равно прорвется еще, все равно его еще увидят все люди, и поймут, и поклонятся друг другу с благодарностью.
Тогда-то люди Сынами Света, Сынами Божиими нарекутся.
Глава XXVIII
Пашка тащился по гулкому вокзалу большого города. От пара мутились фонари, все смутно гремело: в вагоны грузили красноармейцев и лошадей. Лошади топотали по настилам.
Катя, обмотанная платком, не отставала от него. Позвякивал ее чайник. Костя спал на Пашкиной спине, под полушубком. Так он приспособился носить мальчика.
Он умел теперь прятаться от стужи и ветра на вокзалах, в пустых сараях, между мешков с известью и в угольных ямах у железнодорожного полотна.
Он усадил детей в темноте под стойкой, у багажного отделения, а сам пошел осмотреться.
– Пашка, – окликнул кто-то.
Он содрогнулся, поджался. От самого звука голоса стало страшно. Он узнал голос брата. Николай, в солдатской шинели, в заиневшем башлыке, показался ему отощавшим, костлявым, его очень меняла темная борода, клочьями во все стороны.
Николай смеялся, цепко пожимал ему руку обеими руками. Говорил глухо, точно с одышкой.
– Я тебя сразу узнал, совсем не изменился. Как ты сюда попал? А меня, брат, с санитарным эшелоном в Москву везут. Мне нельзя вставать, а видишь, хожу. Вот встреча.
Он повел его под фонарь, не выпуская руки. Рука Николая, с узловатыми пальцами, была неприятно вялой, горячей.
– Ты разве нездоров, Коля?
– Черт его знает, после сыпняка осложнения. Лихорадка какая-то. А, все ерунда. Дома как? Давно из Питера?
– Давно. И не помню.
Николай крепче пожал ему руку:
– Ты туда пробираешься? Белогвардеец, по-прежнему?
– Тише, Коля.
– Молодчина. А мама как?
– Я же писал тебе в Москву.
– Да я из Москвы когда уехал. Они меня по всем фронтам таскают. Я у них в снабжении служу. Все по той же части: банный генерал.
Николай рассмеялся:
– Ничего не получал.
Пашка потупился, закручивая на палец обрывок меха на полушубке:
– Мама умерла.
Рука Николая дрогнула. Он задышал быстро и сказал каким-то жалостным, легким голосом, какого Пашка не слышал никогда:
– Бедная мама.
Пашка посмотрел на брата застенчиво:
– Мама тебе благословение послала, просила, чтобы помнил.
– Бедная наша мама. Я был порядочный скотина с нею.
Николай понурился:
– Об Ольге я не спрашиваю. Пропала, брат, наша Ольга. Вот как нас, Маркушиных, смело. И сколько таких семей, как наша, сметено. А за что, зачем? Ни за что и ни за чем. Ни к чему вся эта проклятая революция.
Пашка посмотрел на него с удивлением. Николай вдруг потряс его за жесткие плечи:
– Пашка, мальчуган бедный, голубчик, прости меня.
– Что ты, Коля.
– Нет, прости, прости. Как я подло с тобой в Питере поступил. Все верно: я тебе о большевиках врал, я пристроиться к ним хотел, понимал, что бесчестно, но у меня душа такая, ничтожная. Думал, буду жить под большевиками, как все, еще может, лучше, чем раньше жил, не все ли равно. А теперь, когда повертелся с ними, точно проснулся. Я тебя всегда, Пашка, помнил, бедный ты мальчик. Нет, нельзя так жить. Не будут так жить. Как люди страдают. Никому и ни за что нельзя так человека мучить. Самую жизнь вышибают. Одна надежда, что проснутся люди, как я. Может быть, все для того и случилось, чтобы люди проснулись. Вот я точно проснулся, точно воскрес.
– Пашка! – лихорадочно и тревожно вскрикнул вдруг Николай, отнимая руки с плеч брата. – А мертвые воскресают?
– Да, конечно.
– Воскресают, воскресают… Николай легко рассмеялся.
Всего чаще, жмурясь от совершенно детских слез, Иона говорил о литургии. Служится вечно и всюду Божия литургия, говорил он, все сущее в добре своем творит Божью литургию, и когда их, иереев, замучают и убьют, все равно останутся на свете иереи, кто вознесет дары над Престолом, а когда бы и всех христиан убили, все равно, птица, поющая на заре, и самый камень, теплеющий от солнца, будут творить литургию Господню.
Ночью ксендз Маковецкий тихонько ворошился на нарах, вздыхал:
– О, Иисусе, Свет мой, радость сладчайшая… Старик никак не мог привыкнуть, что от него отобрали крошечный латинский требник, по какому он читал молитвы.
– А, спите, батюшка, – утешал его Иона. – Я за вас помолюсь. Вы годами старше меня, отдохните, я помолюсь и за вас, и за всех христиан.
Иона Невелинов молился на коленях, долго, истовым шепотом, широко крестясь, крепко откидывая назад львиную голову.
Трех стариков из барака куда-то угнали. Вегенер без них страдал. Ночью он сидел на койке под шинелью старого солдата, оставшейся ему, и думал, что никогда не выйти с каторги, а если и выйдет, все равно уже затоптана его жизнь. Коммунисты осмелились затоптать его невинную ни перед кем и ни перед чем жизнь. Он вспомнил дом на Малом проспекте, университет, войну, всех солдат, каких видел на фронте, всех людей, с кем когда-либо встречался, всю жизнь и отца, потерянного в детстве.
Ему повиделась Германия, о которой он никогда не думал, в которой никогда не бывал, холмы и острые соборы, стада белых облаков над озерами и зеленые хлеба, как тихая музыка. Он вспомнил имя городка, где прошла молодость отца, Вердер: он никогда не был там, но он увидел Вердер, белый от цветущих яблонь, белые лепестки в канавах с веселой водой, на расшатанной старой конке, которая ходит в гору, на спинах лошадей, на шапке старого кучера.
Ночью под шинелью Вегенер запел вдруг старую прусскую песню, какую слышал от отца. Он пел, не разжимая губ.
За то, что он пел, охрана его избила. Вегенер глотал кровь и пел. Потом замолчал.
Он молчал много дней. Потом стал тихо благодарить всех, со светлой улыбкой. За это его тоже били. Он кротко улыбался избивавшим его и благодарил.
Хромой Вегенер со звякающей ногой понял, что его отец, дочь, вся Россия и Германия, с ее реющим вольным небом и острыми колокольнями, весь мир живой таится, живет в нем так же, как в тех, кто топчет его сапогами, что таится во всех свет Божий, неистребимый, такой же, как в глазах его девочки, кого уже никогда не понесет он по лестнице дома на Малом проспекте. И вечный свет, сияющий в каждом, все равно прорвется еще, все равно его еще увидят все люди, и поймут, и поклонятся друг другу с благодарностью.
Тогда-то люди Сынами Света, Сынами Божиими нарекутся.
Глава XXVIII
Пашка тащился по гулкому вокзалу большого города. От пара мутились фонари, все смутно гремело: в вагоны грузили красноармейцев и лошадей. Лошади топотали по настилам.
Катя, обмотанная платком, не отставала от него. Позвякивал ее чайник. Костя спал на Пашкиной спине, под полушубком. Так он приспособился носить мальчика.
Он умел теперь прятаться от стужи и ветра на вокзалах, в пустых сараях, между мешков с известью и в угольных ямах у железнодорожного полотна.
Он усадил детей в темноте под стойкой, у багажного отделения, а сам пошел осмотреться.
– Пашка, – окликнул кто-то.
Он содрогнулся, поджался. От самого звука голоса стало страшно. Он узнал голос брата. Николай, в солдатской шинели, в заиневшем башлыке, показался ему отощавшим, костлявым, его очень меняла темная борода, клочьями во все стороны.
Николай смеялся, цепко пожимал ему руку обеими руками. Говорил глухо, точно с одышкой.
– Я тебя сразу узнал, совсем не изменился. Как ты сюда попал? А меня, брат, с санитарным эшелоном в Москву везут. Мне нельзя вставать, а видишь, хожу. Вот встреча.
Он повел его под фонарь, не выпуская руки. Рука Николая, с узловатыми пальцами, была неприятно вялой, горячей.
– Ты разве нездоров, Коля?
– Черт его знает, после сыпняка осложнения. Лихорадка какая-то. А, все ерунда. Дома как? Давно из Питера?
– Давно. И не помню.
Николай крепче пожал ему руку:
– Ты туда пробираешься? Белогвардеец, по-прежнему?
– Тише, Коля.
– Молодчина. А мама как?
– Я же писал тебе в Москву.
– Да я из Москвы когда уехал. Они меня по всем фронтам таскают. Я у них в снабжении служу. Все по той же части: банный генерал.
Николай рассмеялся:
– Ничего не получал.
Пашка потупился, закручивая на палец обрывок меха на полушубке:
– Мама умерла.
Рука Николая дрогнула. Он задышал быстро и сказал каким-то жалостным, легким голосом, какого Пашка не слышал никогда:
– Бедная мама.
Пашка посмотрел на брата застенчиво:
– Мама тебе благословение послала, просила, чтобы помнил.
– Бедная наша мама. Я был порядочный скотина с нею.
Николай понурился:
– Об Ольге я не спрашиваю. Пропала, брат, наша Ольга. Вот как нас, Маркушиных, смело. И сколько таких семей, как наша, сметено. А за что, зачем? Ни за что и ни за чем. Ни к чему вся эта проклятая революция.
Пашка посмотрел на него с удивлением. Николай вдруг потряс его за жесткие плечи:
– Пашка, мальчуган бедный, голубчик, прости меня.
– Что ты, Коля.
– Нет, прости, прости. Как я подло с тобой в Питере поступил. Все верно: я тебе о большевиках врал, я пристроиться к ним хотел, понимал, что бесчестно, но у меня душа такая, ничтожная. Думал, буду жить под большевиками, как все, еще может, лучше, чем раньше жил, не все ли равно. А теперь, когда повертелся с ними, точно проснулся. Я тебя всегда, Пашка, помнил, бедный ты мальчик. Нет, нельзя так жить. Не будут так жить. Как люди страдают. Никому и ни за что нельзя так человека мучить. Самую жизнь вышибают. Одна надежда, что проснутся люди, как я. Может быть, все для того и случилось, чтобы люди проснулись. Вот я точно проснулся, точно воскрес.
– Пашка! – лихорадочно и тревожно вскрикнул вдруг Николай, отнимая руки с плеч брата. – А мертвые воскресают?
– Да, конечно.
– Воскресают, воскресают… Николай легко рассмеялся.
Другие электронные книги автора Иван Созонтович Лукаш
«Вопль» Бердяева




 4.67
4.67
Генерал Духонин




 4.67
4.67