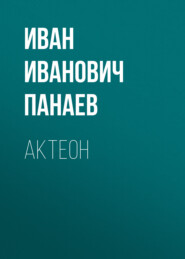По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Раздел имения
Автор
Год написания книги
2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Жребии были брошены.
Одна кринка имбирного варенья досталась Дарье Яковлевне, а две Марье Дмитриевне. У дамы с раздражительным голосом кровь на лице выступила пятнами. Она старалась скрыть свой гнев и не могла. С досадой толкнула она локтем одну из доставшихся ей банок с клубникой, встала с кресел и отошла к окну. Марья Дмитриевна, увидев это, также встала с своего места и подошла к ней.
– Мне достались две банки имбирного, – сказала она: и сколько нежности, уступчивости и доброты было в ее голосе! – Извольте, я вам с моим удовольствием уступлю одну, тогда у нас у трех будет поровну…
Она говорила, а я глядел на нее и думал: «Какая женщина! Боже мой, какая женщина!»
– Маменька, дайте мне варенья! – закричал сын Марьи Дмитриевны, вбежав в комнату. Это был очень недурной собою белокурый мальчик в ситцевой рубашке, с сумкой через плечо. Он до такой степени забегался в лошадки с дворовыми мальчишками, что пот лил с его лица ручьями, и он едва переводил дыхание.
– До обеда нельзя, душаточка, лакомиться вареньем, – сказала Марья Дмитриевна, – но если хорошо будешь вести себя за столом, то после обеда ложечки две получишь. Что это, как ты раскраснелся? Теперь не извольте ходить на улицу, а сидите здесь. Как не стыдно носик не вытирать! – И, говоря это, Марья Дмитриевна вынула из его сумочки носовой платок и вытерла им нос сына.
– Маменька, позвольте еще побегать.
– Нет, нет; изволь сидеть и быть послушным.
Я подошел к Мише, который опустил голову и нахмурился, потрепал его по щеке и поцеловал. Марья Дмитриевна, увидев это, не могла скрыть своего удовольствия.
– Оставьте его, – произнесла она с улыбкой, одной ей свойственной, – он капризный мальчик и не заслуживает ласк.
– Да чем же я капризен, маменька? – говорил Миша, всхлипывая.
Марья Дмитриевна подошла ко мне.
– Не подумайте, – сказала она самым приятнейшим тоном, – чтобы я была мать – баловница. Нет, уж это не в моих правилах! Я его часто и строго наказываю; но все, знаете, женское дело: он меня не так боится; вот если бы отец был жив!.. Способности же имеет большие, благодаря бога; я все сама с ним занимаюсь, иногда даже по четыре часа сряду. Он у меня очень бегло читает по-русски и по – французски, половину же священной истории, что с вопросами и ответами, наизусть слово в слово знает.
От восхищения я не мог произнести ни слова. Сама занимается! Скажите, много ли таких матерей в нынешнем свете? Однако и она, при всем своем уме, чувствует, что без мужа, без главы дома, трудно обойтись!
IV
С этого дня, проведенного мною в Плющихе с неизобразимым удовольствием, я чаще и чаще стал ездить туда, и всякий мой приезд по часу и более беседовал с Марьей Дмитриевной. Из этих бесед я вполне убедился, что она наделена добродетельным сердцем и основательным умом, потому что обо всех предметах рассуждает солидно, и в особенности очень хорошо говорит о нравственности. Прошло уже два месяца с того дня, как я в первый раз увидел ее. Раздел приближался к окончанию. Раздельный акт был совершен в гражданской палате и подписан. Разделят серебро, и все разъедутся в разные стороны, и опустеет Плющиха!..
Однажды я не спал почти всю ночь напролет. Срок моего отпуска был на исходе. Я представил себе дальность и неудобства дороги и свое одиночество. Это одиночество так и щемило мое сердце. Я подумал, может статься, никогда более не увижу Марьи Дмитриевны; мысль, что если приказчик мой обманывает меня в моем присутствии, что же должно быть, когда меня нет в деревне?.. Все это, взятое вместе, заставило меня окончательно решить мое будущее.
Под утро я встал с постели и начал ходить вдоль и поперек комнаты.
Остаться в деревне или ехать в Петербург? служить или выйти в отставку и жениться?
В этот раз «выйти в отставку» уже не представлялось мне так страшно, как первый раз, когда мне это пришло в голову.
«Коллежского асессора я получил недавно, столоначальником сделан недавно. Что же? до надворного советника еще далеко, до начальника отделения подавно. Перспектива есть, но не близкая. К тому же сидячая жизнь, петербургский климат… Но… согласится ли она принадлежать мне? Ее муж был начальником отделения! Впрочем, что ж? – я не какой-нибудь нищий, имею свой кусок хлеба и чин почетный!.. Предложение – легко сказать – и подумать, так голова закружится… Ну, как богу угодно, так и будет!»
Несколько дней спустя после этого размышления, часу в шестом вечера, по окончании раздела серебра, Марья Дмитриевна вышла пройтись в сад, или в огороженную плетнем четвероугольную площадь, которую все называли садом. На этой площади, впрочем, довольно обширной, росло несколько яблонь, несколько лип, несколько елей, дубков и тянулись две длинные аллеи разросшихся акаций. В этих двух аллеях только и можно было прогуливаться, ибо остальная половина четвероугольника предполагалась только к распланированию. В правой стороне между зеленью мелькало прекрасное каменное здание с небольшой деревянной башенкой, на которой вертелся железный петух, раскрашенный разными цветами: это оранжерея. В середине четвероугольника красовался пруд изрядной величины, в котором Дарья Дмитриевна удила рыбу.
Вечер был теплый, несмотря на то, что сентябрь приближался к исходу. Желтые листья грудами лежали на дорожках… Господи, как я живо все это помню, далее вереницу диких уток, промелькнувших по небу! Марья Дмитриевна шла по дорожке, обсаженной акациями, шла тихо и задумчиво, в чепце, убранном розовыми лентами, в том самом чепце, в котором я видел ее в первый раз.
Не замеченный ею, я подошел к ней сзади.
– Вы гуляете, Марья Дмитриевна? – спросил я ее дрожащим голосом.
Она испугалась и немного вскрикнула.
– Ах, это вы!
– Точно я, я, Марья Дмитриевна… вы, вы так легко одеты; теперь вечера не летние: можно простудиться.
– Ничего-с, и простужусь, так жалеть будет некому!
– Как можно! И перед богом грешно не беречь своего здоровья.
Она ничего не отвечала, и я молчал.
– Ваш раздел теперь совсем кончен, Марья Дмитриевна?
– Да, совсем-с.
– А что, вы отсюда скоро уедете?
– Предполагаю очень скоро. У меня кровь так и застыла.
– А куда вы изволите поехать, Марья Дмитриевна?
– В свою прежнюю деревню Маматовку, верст за двести отсюда. Мне давно пора бы восвояси. Ах, боже мой! и хлеб-то нынешний год без меня убрали!
– Прощайте, Марья Дмитриевна! может быть, мы с вами более не увидимся. И я также скоро отправляюсь к должности, в Петербург.
Я шел по левую ее сторону и, произнеся это, едва осмелился искоса взглянуть на нее. Мне показалось, что на ее глазе дрожала слеза.
– Вы, верно, соскучили здесь! очень натурально: кто пристрастился к светским удовольствиям…
– Нет, не говорите этого, Марья Дмитриевна, – непреодолимое влечение приковывает меня к здешним местам.
– Почему же вы, позвольте спросить, не останетесь здесь?
– Я человек служащий, чиновник, а скоро конец моему отпуску; служба не шутит-с.
– Вы, благодаря бога, обеспечены. Почему же вам не выйти в отставку: вы свой долг сделали – послужили. Останьтесь навсегда с нами… Здесь, я вам скажу, не то, чтобы в глуши: дворянство отличное, образованное.
– Оно точно так, да я человек совершенно одинокий. Матушка моя скончалась, я без нее совсем осиротел, и хозяйством заняться некому.
Я чувствовал, что голос изменял мне, я оробел, а она не вымолвила ни слова, ни слова…
Мы шли таким образом несколько минут молча и подошли к самому берегу пруда. Отсюда следовало повернуть назад, ибо дорожек ни вправо, ни влево не было.
– Марья Дмитриевна, – начал я, когда мы повернули; сердце у меня так билось, что пересказать невозможно, – Марья Дмитриевна, я давно, Марья Дмитриевна, желал поговорить с вами… я… с первой минуты, как увидел вас, почувствовал такое, что если бы пересказать… – да вдруг и бахнул: – от вас, Марья Дмитриевна, зависит мое счастие.
И чуть не умер от страха; у меня совсем потемнело в глазах, а после того меня так в пот и бросило. Будто сквозь сон услышал я эти восклицания:
– Ах, ах! Боже мой! что это вы говорите… ах!