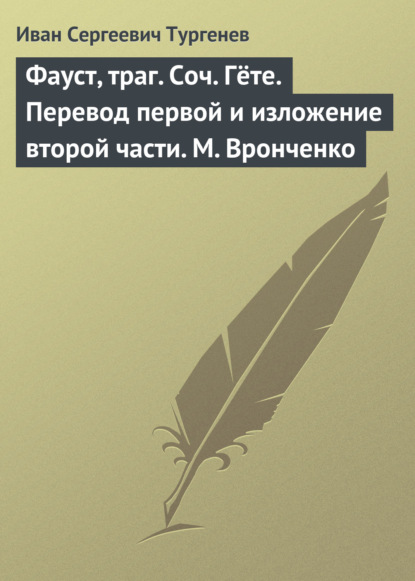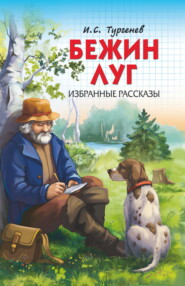По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фауст, траг. Соч. Гёте. Перевод первой и изложение второй части. М. Вронченко
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Иван Сергеевич Тургенев
Статья Тургенева является образцом философской, общественно активной критики, за которую ратовал Белинский. «Фауст» Гёте для Тургенева – это произведение, пронизанное страстной, ищущей мыслью, это апофеоз борьбы человеческой личности за свои права. Однако Гёте ограничил страстные поиски Фаустом истинного смысла жизни узкой сферой «лично-человеческого», и в этом Тургенев видел причину неудачи второй части трагедии, считая, что задачей исторического прогресса является не счастье отдельной человеческой личности, но уничтожение всякой возможности нищих на земле.
Иван Сергеевич Тургенев
Фауст, траг. Соч. Гёте. Перевод первой и изложение второй части. М. Вронченко. 1844. Санкт-Петербург
Появление нового перевода «Фауста»[1 - Появление нового перевода «Фауста»… – Первый полный перевод первой части «Фауста», принадлежащий Э. И. Губеру (1814–1847), появился отдельным изданием в 1838 г., с большим количеством цензурных изъятий (см.: Жирмунский В. Указ. соч., с. 527–533).] возбудило в нас разнообразные размышления насчет нас самих и нашей литературы. Несмотря на почти совершенное отсутствие действительных дарований, на множество слабых и пустых произведений, которыми наводнены наши книжные лавки, – общественное сознание, чувство истины и красоты растет и развивается быстро. Мы не намерены – теперь именно – входить в исследование причин подобного явления… вообще русский человек развивается так особенно, что в немногих словах невозможно представить читателю смысл и законы его внутреннего преобразования; но, например, несколько лет назад при появлении перевода «Фауста» г. Вронченко мы готовы были бы отделаться похвалами, назвать труд переводчика «событием» и т. д.; одно имя «Фауста» производило в нас впечатление довольно смутное и странное; мы чувствовали, что в этом произведении отразилась целая жизнь мыслящего, уже не юного, несколько чуждого нам народа, и – либо с простодушным благоговением склонялись перед созданием Гёте, в котором видели альфу и омегу всей человеческой мудрости, либо с торопливой поспешностью проходили мимо, отделываясь словами: «туманное произведение!..» Впрочем, у нас даже до нынешнего дня слово «туманное» почитается естественным эпитетом всего немецкого. Теперь же… мы не намерены расточать преувеличенные похвалы нашей публике, тем более что она в них вовсе не нуждается; мы не скажем ей, что в последнее время она окончательно поняла и изучила Гёте и дошла, например, до ясного сознания того, что такое «Фауст» как произведение немецкое и в какой степени это произведение должно занимать нас – русских… нет, мы этого не скажем; но сознание нашей, публики в последние годы возмужало и окрепло; время безотчетных порывов и восторгов прошло для нее безвозвратно; она стала вообще холоднее и равнодушнее, как человек, которому надоело шутить и которому нравится одно дельное… Ее теперь едва ли ослепишь блеском великого имени; ее здравый смысл требует положительных доказательств – не в том, что Гёте великий поэт (она знает это лучше нас), но в том, действительно ли «Фауст» такое громадное создание?.. Приступая к разбору этой великой трагедии, мы чувствуем некоторую невольную робость… мы знаем сами, какой великий труд мы взяли на себя…
Разбор вековых творений, подобных «Фаусту», или весьма легок, или весьма труден… В первом случае стоит только «воскурить фимиам», употребить восторженные восклицания и т. д.: благо произведение великое, так уж и нечего толковать о нем! Большею частью так и поступают наши господа-критики. Но эти господа забывают, что ни одно великое творение не упало на землю, как камень с неба; что каждое из них вышло из глубины поэтической личности, которая только потому и удостоилась такого счастия, что весь смысл современной жизни отразился в ней не одними преходящими отголосками, но целым, иногда довольно мучительным, развитием характера и таланта; что чем выше, проще и нераздельнее произведение, тем сложнее и разнообразнее условия и процесс его возникания… С другой стороны, вовсе не нужно дойти до сознания этого процесса, чтоб вполне наслаждаться великим произведением, точно так же, как не нужно знать химический состав какого-нибудь прекрасного цветка, чтоб быть в состоянии любоваться им; непосредственная, несомненная, общепонятная красота – необходимая принадлежность всякого художественного создания. Но если уж человеческий дух решится понять и оценить то, чем он пленяется невольно, дознаться причин собственного наслаждения, то непростительно ему остановиться на полдороге: бесстрашная добросовестность и отчетливость до конца – вот главные достоинства критики в обширном смысле, которая, несмотря на вопли ее противников, никому еще не сделала зла. Мы не говорим о самолюбивой, робкой или ограниченной критике людей, которым не хочется быть просто непосредственными натурами и между тем страшно или тяжело дойти до результатов собственных размышлений, – людей, которые целый век твердят дважды-два и никогда не скажут четыре или скажут, наконец, пять и будут хитро и многословно доказывать, что оно иначе и быть не могло… Мы говорим о дельной критике. Вследствие всего сказанного о духе нашей публики мы надеемся удовлетворить ее потребностям, представив ей сначала в коротких словах род исторического изыскания о том, когда, как и почему возникла и созрела мысль о «Фаусте» в душе поэта, а потом и собственное наше воззрение на «Фауста». Историческое изыскание может иногда с успехом заменить чисто логические рассуждения, потому что ничего не может быть логичнее исторического развития, ясно и добросовестно представленного. Мы, бесспорно, можем ошибиться в наших выводах, но уже Лафонтен сказал:[2 - …уже Лафонтен сказал… – Тургенев цитирует далее посвящение «A Monseigneur le Dauphin» (1668) Лафонтена.]
J’aurais du moins l’honneur de l’avoir entrepris[1 - Я по крайней мере имел бы честь его предпринять (франц.).].
Гёте в записках своих,[3 - Гёте в записках своих… – Автобиографическое сочинение Гёте «Aus meinem Leben. Wahrheit und Dichtung» <Из моей жизни. Правда и поэзия>, работу над которым он начал, когда ему было уже более 60 лет. I–III части этого труда были опубликованы в 1811–1814 гг., последняя, IV часть – посмертно, в 1832 г.] к сожалению, слишком поздно им начатых, оставил нам довольно верную и подробную картину состояния германской литературы до семидесятых годов прошлого столетия (он сам родился в 1749 году). Великими людьми этой эпохи были Клопшток, Виланд и Лессинг,[4 - Великими людьми этой эпохи были Клопшток, Виланд и Лессинг… – Клопшток (Klopstock) Фридрих Готлиб (1724–1803) – немецкий поэт, пытался в своих произведениях выразить свободу чувства и фантазии, предвосхищая тем самым эстетическую программу «бури и натиска». Виланд (Wieland) Генрих (1733–1813) – немецкий писатель и поэт, автор религиозно-дидактических поэм, первого в Германии просветительского «романа воспитания» «Агатон» (1766) и др., переводчик Шекспира. Лессинг (Lessing) Готхольд Эфраим (1729–1781) – немецкий драматург, теоретик искусства и литературный критик-просветитель.] в особенности Клопшток. Французская классическая школа (Готшед), швейцарская школа (Бодмер и др.)[5 - Французская классическая школа (Готшед), швейцарская школа (Бодмер и др.)… – Готшед (Gottsched) Иоганн Кристоф (1700–1766) – немецкий писатель и критик, представитель раннего немецкого просвещения. Будучи приверженцем французского классицизма, переводил на немецкий язык П. Корнеля, Ж. Расина, Мольера и др. Бодмер (Bodmer) Иоганн Якоб (1698–1783) – швейцарский критик и поэт, в книге «Критическое рассмотрение чудесного в поэзии» (1740), полемизируя с Готшедом, придал большое значение роли чувства и воображения в народной поэзии.] – обе прошли быстро и безвозвратно. Клопшток первый заговорил о народности в литературе, о бардах, об Арминии,[6 - …Клопшток первый заговорил ~ о бардах, об Армипии… – Тургенев имеет в виду так называемые «бардиты» (от слова «бард») Клопштока, его национальные драматические поэмы – «Hermanns Schlacht» (1769), «Hermann und die F?rsten» (1784), «Hermanns Tod» (1787). Арминий — латинская форма имени Германа, вождя херусков, который отразил римское нашествие на германские земли, одержав победу над легионами Вара в Тевтобургском лесу (9 г. н. э.). О Клопштоке см. у Гёте: «Правда и поэзия», ч. III, кн. 12.] о северной мифологии, отбросил рифму. Виланд, этот разнообразный, насмешливый и грациозный талант, своими многочисленными произведениями, переводами с греческого, английского, итальянского и французского, возбуждал и увлекал своих соотечественников; Лессинг, по преимуществу немецкий здравый и острый ум, основывал критику и драму – и, может быть, еще более, чем Клопшток, имеет право называться творцом немецкой словесности; он был одарен чрезвычайно замечательным полемическим талантом и здравым смыслом (впрочем, эти два качества почти неразлучны), и победы, одержанные им над людьми, подобными Клотцу[7 - …над людьми, подобными Клотцу… – Христиан Адольф Клотц (Klotz, 1738–1771) – немецкий филолог, критик и журналист; выступил против ряда положений, высказанных Лессингом в трактате «Лаокоон» (1766). Лессинг воспользовался этим случаем, чтобы разоблачить его в своих «Антикварских письмах» (1768) как псевдоученого и пасквилянта.] и другим, спасли возникавшую германскую литературу от гибели, <которая могла ей угрожать в случае победы[8 - …<которая могла ей угрожать в случае победы>… – Редакторская конъектура вызвана явным искажением фразы в первопечатном журнальном тексте, перешедшим и в издание 1880 г.]> ложных направлений. Заслуги этих трех писателей чрезвычайно велики; но ни одному из них не было суждено положительно выразить сущность своего народа и времени. У каждого народа есть своя чисто литературная эпоха, которая мало-помалу приуготовляет другие, более обширные развития человеческого духа; такая эпоха настала для Германии около семидесятых годов. Между тем как во Франции общество уже устарелое, испытанное внешними и внутренними борьбами, не оставлявшее ни одного вопроса без разрешения и не удовлетворенное ни одним из этих разрешений, – между тем как это общество стремительно спешило к собственному разрушению, или, говоря правильнее, к собственному возрождению, – Германия только что приходила к сознанию собственной народности, к сознанию самой себя – не как общества, но как народа, говорящего одним языком и не имеющего на этом языке ни одного литературного памятника. До XVII столетия все немецкие ученые писали по-латыни и по-французски, как Лейбниц;[9 - Лейбниц (Leibniz) Готфрид Вильгельм (1646–1716) – немецкий философ-идеалист, математик, физик и изобретатель, юрист, историк и языковед, оказал значительное влияние на последующее развитие философии и науки.] поэты держались при дворе в качестве шутов и писали оды на разные торжественные случаи; немногие исключения, как-то: юмористы школы Ганса Сакса – Фишарт, Грифиус,[10 - …юмористы школы Ганса Сакса – Фишарт, Грифиус… – Сакс (Sachs) Ганс (1494–1576) – немецкий поэт, автор фастнахшпилей и шванков (масленичных народных представлений), в которых с юмором изображал крестьянский быт, распутство католических клириков, буйство ландскнехтов. Фишарт (Fischart) Иоганн (1546 или 1547–1590) – немецкий сатирик, публицист и моралист. Изображал пороки и добродетели бюргерской среды, обличал католическую церковь и иезуитов, славил прилежание и труд горожан. Грифиус (Griphius) Андреас (1616–1664) – немецкий драматург, сторонник классицизма, комедии которого однако интересны наличием в них реалистических тенденций и поисками национального колорита. Все комедии Грифиуса написаны прозой, на немецком языке, а их простонародные персонажи говорят на силезском диалекте.] свидетельствуя о добродушно-сатирическом направлении немецкого ума, не имели, впрочем, особенного значения; монархи германские, даже лучшие из них (вспомните Фридриха II) пренебрегали родным языком; одни лишь богословы со времени Лютера говорили и писали по-немецки. Но вот настала первая половина прошлого столетия. Философ Вольф отказался от латинского языка.[11 - Философ Вольф отказался от латинского языка. – Христиан Вольф (1679–1754) настаивал на том, что немецкий язык является вполне подходящим орудием для определения самых тонких понятий, и написал одно из своих главных сочинении («Разумные мысли о боге, о мире и о человеческой душе, а также и о всяких других предметах», 1720) на немецком языке.] Немецкая литература, еще юная и не самобытная, устремилась по следам французской. Быстро один за другим начали возникать писатели, которых уже нельзя было, как Готшеда, причислить к сонму бездарных подражателей; Рамлер и Глейм явились в Берлине;[12 - …Рамлер и Глейм явились в Берлине… – Рамлер (Ramler) Карл Вильгельм (1725–1798) – поэт, видный участник кружка литераторов-просветителей, писал оды, переводил античных авторов. Глейм (Gleim) Иоганн Вильгельм Людвиг (1719–1803) – немецкий поэт, один из основателей Галльского союза поэтов-анакреонтиков, автор «Прусских военных песен» (1788), в которых звучат мотивы национального единства немецкого народа.] начались критические исследования о самом языке, правда, довольно поверхностные, но для того времени чрезвычайно важные. Наконец, явились те замечательные люди, о которых мы говорили выше. Но настоящий переворот, – то, что Гете назвал революцией германской литературы[13 - …Гете назвал революцией германской литературы… – Эти слова имеются в автобиографическом сочинении Гёте «Правда и поэзия», ч. III, кн. 11; Тургенев ссылается на 26 том издания: Goethe’s Werke. Vollst?ndige Ausgabe letzter Hand. Stuttgart und T?bingen, 1828–1830. Это издание с пометами Тургенева сохранилось в библиотеке писателя, находящейся теперь в Государственном музее И. С. Тургенева в Орле.] (ч. 26, стр. 68, изд. 1829), совершился между семидесятыми и восьмидесятыми годами прошлого века, в эпоху, которую немецкие критики (правильнее: Litterarhistoriker[2 - историки литературы (нем.).]) называют «периодом бури и стремления» (Sturm-und Drang-Periode).
Жизнь каждого народа можно сравнить с жизнью отдельного человека, с той только разницей, что народ, как природа, способен вечно возрождаться. Каждый человек в молодости своей пережил эпоху «гениальности», восторженной самонадеянности, дружеских сходок и кружков. Сбросив иго преданий, схоластики и вообще всякого авторитета, всего, что приходит к нему извне, он ждет спасения от самого себя; он верит в непосредственную силу своей натуры и преклоняется перед природой как перед идолом непосредственной красоты. Он становится центром окружающего мира; он (сам не сознавая своего добродушного эгоизма) не предается ничему; он всё заставляет себе предаваться; он живет сердцем, но одиноким, своим, не чужим сердцем, даже в любви, о которой он так много мечтает; он романтик, – романтизм есть не что иное, как апофеоза личности. Он готов толковать об обществе, об общественных вопросах, о науке; но общество, так же как и наука, существует для него – не он для них. Такая эпоха теорий, не условленных действительностью, а потому и не желающих применения, мечтательных и неопределенных порывов, избытка сил, которые собираются низвергнуть горы, а пока не хотят или не могут пошевельнуть соломинку, – такая эпоха необходимо повторяется в развитии каждого; но только тот из нас действительно заслуживает название человека, кто сумеет выйти из этого волшебного круга и пойти далее, вперед, к своей цели. Подобная романтическая эпоха настала для Германии во время юности Гёте. Появилось множество так называемых гениальных молодых людей; молодость, непосредственность, природа, самобытность – эти слова звучали в устах у каждого; никому бы в голову не пришло тогда написать «Разбойников» – потому что всякого занимали только собственные радости и страдания, – но многие надеялись попасть прямо в Шекспиры; в то время Виланд и Эшенбург познакомили с ним Германию[14 - …но многие надеялись попасть прямо в Шекспиры; в то время Виланд и Эшенбург познакомили с ним Германию… – В 1762–1766 гг. Виланд сделал прозаический перевод Шекспира, который впоследствии обработал Эшенбург (1743–1820). Об увлечении Шекспиром в Германии и о его немецких переводах Гёте говорит в 11 книге (часть III) своей автобиографии.] и их переводы жадно поглощались читателями. Любовь к Шекспиру пробудила любовь к средним векам, к которым можно чувствовать влечение только тогда, когда в действительности народ вполне от них отторгнулся; а это отторжение совершилось в Германии довольно поздно. Движение умов во Франции – Вольтер, Руссо, энциклопедисты – всё, что так глубоко, так-сильно потрясло потом весь мир, в то время находило весьма мало сочувствия в Германии, и ландграфы преспокойно продолжали продавать своих подданных англичанам, воевавшим с непокорными американцами.[15 - …ландграфы преспокойно продолжали продавать своих подданных англичанам, воевавшим с непокорными американцами. – Личная свобода крестьян в Германии была провозглашена в 1807 г. Октябрьским эдиктом. Тургенев, имеет в виду войну, которую вела Северная Америка в 1775–1783 годах против английского колониального господства, закончившуюся созданием независимого государства – Соединенных Штатов Америки.] Вот что говорит сам Гёте в третьей части своей автобиографии:
Когда нам случалось раскрыть одну из частей энциклопедического словаря (известное издание Дидро и Даламбера), нам казалось, что мы зашли в огромную фабрику, где со всех сторон скрипят и вертятся колеса, непостижимым образом двигаются машины, и мы, не понимая цели всех этих движений, приходили в полное отчаяние… Жаркий спор французских философов с духовенством не возбуждал нашего внимания. Запрещенные, к огню присужденные книги, которые тогда делали много шума, не имели на нас никакого влияния… Природа была нашим божеством…[16 - «Когда нам случалось ~ нашим божеством…» – Эти цитаты взяты Тургеневым из разных мест 11 книги (III части) автобиографии Гёте.]
Эти слова Гёте относятся, правда, к кружку страсбургских его приятелей, но он был тогда самым полным представителем молодого поколения; те из его современников, которые шли по другой дороге, не оставили следа своего существования, то есть заблуждались; притом же первые произведения Гёте тотчас поразили и увлекли толпу читателей.
Вся Германия занялась преимущественно, если не исключительно, одними литературными вопросами. Юстус Мёзер, замечательный для своего времени публицист, является нам одиноким исключением.[17 - Юстус Мёзер, замечательный для своего времени публицист, является ~ исключением. – Мезер (1720–1794) в своих публицистических сочинениях резко критиковал бюрократическую систему деспотического государственного строя. Отстаивая патриархальные формы жизни, цеховой строй, местную обособленность, Мёзер вместе с тем указывал на экономическую необходимость преодоления раздробленности Германии.] Еще земля не начинала дрожать под ногами людей; еще вся Европа двигалась по прежним направлениям, жила прежними убеждениями и верованиями; сверх того, философский переворот должен был, по духу немецкого народа, предшествовать всякому дальнейшему развитию общественной жизни в Германии – и в самую эту эпоху «бури и стремления», в отдаленном городе на севере, профессор Кант тихо и неутомимо создавал критическую философию, ту самую философию, которая мало-помалу проникла всю нашу действительность и которая скажет свое последнее слово даже не нашему поколению.
В то самое время, около семидесятых годов, жил на берегах Рейна, то в Страсбурге, то во Франкфурте, молодой человек, которому суждено было выразить собой всю сущность своего народа и своего времени, – Вольфганг Гёте. Биография его до того известна всему читающему миру, что мы считаем себя вправе вовсе умолчать о ней, тем более что она была уже предметом довольно обширной статьи в нашем журнале[3 - Отеч. зап. 1842, тт. XX, XXI, XXII.* (Примечание в тексте Отеч. зап.)* …Отеч. Зап. 1842, тт. XX, XXI, XXII. – Имеется в виду статья К. Липперта «Гёте». – Отеч Зап, 1842, №° 1 (отд. II, с. 1–36), № 2 (с. 43–67), № 3 (с. 2–28), № 4 (с. 1–26). Подпись в № 1 «К. Л. …рт», в остальных «К. Л.».]. Но постараемся в немногих чертах изобразить его личность. Он был – поэт по преимуществу, поэт и больше ничего. В этом, по нашему мнению, состоит всё его величие и вся его слабость. Он был одарен всеобъемлющим созерцанием; всё земное просто, легко и верно отражалось в душе его. С способностью увлекаться страстно, безумно он соединял в себе дар постоянного самонаблюдения, невольного поэтического созерцания своей собственной страсти; с бесконечно разнообразной и восприимчивой фантазией – здравый смысл, верный художнический такт и стремление к единству. Он сам был весь целый, весь – как говорится – из одного куска; жизнь и поэзия не распадались у него на два отдельные мира; его жизнь была его поэзией, его поэзия была его жизнью… «Я, – писал он к графине Штольберг, – даю своим ощущениям превращаться в способности, способностям дорастать до таланта».[18 - «Я, – писал он к графине Штольберг ~ дорастать до таланта». – Тургенев вольно пересказывает следующее место из письма Гёте к графине Штолъберг от 13 февраля н. ст. 1775 г. (Гёте говорил о себе в третьем лице): «…weil er arbeitend immer gleich eine Stufe h?her steigt, weil er nach keinem Ideale springen, sondern seine Gef?hle sich zu F?higkeiten, k?mpfend und spielend, entwickeln lassen will…» <…потому что, работая, он всегда поднимается ступенью выше, потому что он не хочет сделать скачок ни к какому идеалу, а хочет, борясь и играя, дать развиться своим чувствам до способностей>.] С такой непосредственной, естественной необходимостью развивалась его жизнь; он почти с детства сознавал сам эту внутреннюю гармонию и могущественную полноту своей натуры и преспокойно позволял обожать себя. Стоит прочесть в «Физиогномике» Лафатера восторженные строки, подписанные под его портретом…[19 - Стоит прочесть в «Физиогномике» Лафатера восторженные строки, подписанные под его портретом. – «Физиогномические фрагменты для поощрения человеческих знаний и любви» (1775–1778) Лафатера (1741–1801) – попытка судить на основании изучения строения лица и черепа о внутренней сущности человека. Интересные сведения о работе Лафатера в этой области сообщает в своей автобиографии Гёте (см. ч. III, кн. 11). Под портретом Гёте в «Физиогномике» Лафатера сказано, что это «явный облик великого человека, по лицу которого видна его власть над людьми». Отдельные черты лица свидетельствуют, по утверждению Лафатера, о гениальности, о поэтическом чувстве и поэтической мощи человека, изображенного на портрете (см.: Physiognomische Fragmente zur Bef?rderung der Menschenkenntni? und Menschenliebe von Johann Caspar Lavater. Leipzig; Winterthur, 1777, Bd. III, S. 219).] Первым и последним словом, альфой и омегой всей его жизни было, как у всех поэтов, его собственное я; но в этом я вы находите целый мир – и сознание громадности этой личности до того сильно действует на вас, что какая-нибудь небольшая песенка Клерхен,[20 - …небольшая песенка Клерхен… – Песенка Клерхен из «Эгмонта» (1787). Эта песенка была переведена Тургеневым в 1840 г. (см. наст. том, с. 313).] в которой говорится только то, что без любви нет счастия на земле (мысль, изволите видеть, весьма не новая), поражает вас так, как будто ни вам самим, ни другому ничего подобного в голову не приходило. Понятно, почему Гёте, под старость, мог не шутя почитать себя Юпитером Олимпийским; он знал, что он владел природой и человеком: он владел искусством, как не владел никто до него; а людям только того и нужно: воспетые радости, воспетые слезы трогают их более, чем действительные радости и слезы…
Но Гёте был немец – немец <во>семнадцатого столетия,[21 - …<во>семнадцатого столетия… – В тексте Отеч Зап — семнадцатого. Видимо, опечатка, не замеченная Тургеневым и при переиздании статьи в собр. соч. 1880 г.] сын реформации; его величие состояло именно в том, что все стремления, все желания его народа небесплодно отражались в нем. Как великий немецкий поэт, он создал «Фауста». Мысль воспользоваться этим типом не ему первому пришла в голову: уже один из предшественников Шекспира, Марло (Marlowe), написал «Фауста»[22 - …Марло (Marlowe), написал «Фауста»… – Кристофер Марло (Marlow, 1564–1593), английский драматург, написал драму «Трагическая история о жизни и смерти доктора Фауста» («Tragical History of the Life and Death of Doctor Faustus») в 1592 г. Сведения о «Фаусте» Марло Тургенев мог почерпнуть из третьего тома (с. 126–132) трехтомной истории английской дошекспировской драматургии, которая сохранилась в его библиотеке в Спасском (см.: The history of English dramatic poetry to the time of Shakespeare and Annals of the stage to the rcstoration. By J. Payne Collier, 3 v. London, 1831).] – чрезвычайно замечательное произведение, о котором мы когда-нибудь поговорим с нашими читателями; кроме Гёте, Клингер и Ленц, его современники и друзья (если только у Гёте могли быть друзья), сочинили каждый «Фауста».[23 - …Клингер u Ленц ~ сочинили каждый «Фауста». – Клингер и Ленц – немецкие писатели предромантики. Фридрих Максимилиан Клингер (Klinger, 1752–1831) написал роман: «Faust’s Leben, Taten und H?llenfahrt» (Жизнь, деяния и гибель Фауста); первое издание вышло в 1791 г. Яков Рейнгольд Ленц (Lenz, 1751–1792) напечатал в 1777 г. драматический отрывок, изображающий Фауста в аду (см.: Легенда о докторе Фаусте. М.; Л., 1958. с. 500).] Они оба принадлежали к тому кружку замечательных личностей, которые в то время группировались около Гёте и которых он так мастерски описал в своих «Записках»…[24 - …которых он так мастерски описал в своих «Записках». – Характеристики Ленца и Клингера сделаны в 14 книге третьей части автобиографии Гёте.] И странно: оба они умерли в России[25 - …оба они умерли в России… – Клингер приехал в Россию в 1780 г.; он был сначала чтецом при супруге великого князя Павла Петровича, потом последовательно директором 2-го кадетского корпуса в Петербурге и попечителем Дерптского учебного округа. Ленц приехал в Москву (из Риги) в 1781 г.] – Клингер в Петербурге, генералом, Ленц в Москве, у какого-то сапожника, в бедности и сумасшествии. Но то, о чем так пламенно и так напрасно мечтал оригинальный, фантастический и насмешливый Ленц; то, что было недоступно здоровой и сильной, но не поэтической натуре Клингера, – далось одному Гёте. Вникнув в содержание «Фауста», мы убедимся, что иначе и быть не могло, точно так же, как не Гошу и не Марсо?, а одному Наполеону[26 - …не Гошу и не Марсо?, a одному Наполеону… – Гош (Hoche) Луи Лазар (1768–1797) и Марсо (Marceau) Франсуа Северен (1769–1796) – французские генералы, вставшие на сторону Французской революции и сблизившиеся, как и Наполеон I, с якобинцами.] было предоставлено право называться, говоря его собственными словами, «l’homme du destin»[4 - «мужем рока» (франц.).].
Не считаем нужным излагать здесь содержание «Фауста»: вероятно, оно известно каждому из читателей. Приступаем прямо к оценке трагедии Гёте.
«Фауст» есть чисто человеческое, правильнее – чисто эгоистическое произведение. Германия в то время вся распадалась на атомы; каждый хлопотал о человеке вообще, то есть в сущности – о своей собственной личности. Фауст, с начала до конца трагедии, заботится об одном себе. Последним словом всего земного для Гёте (так же, как и для Канта и Фихте) было человеческое я… И вот это я, это начало, этот краеугольный камень всего существующего, не находит в себе успокоения, не достигает ни знания, ни убеждения, ни даже счастия, простого обыкновенного счастия («И псу не жить, как я живу», – говорит Фауст).[27 - («И псу не жить, как я живу». – говорит Фауст). – Эти слова Фауст произносит в своем нервом монологе.] Куда, к чему ему обратиться? Для Фауста не существует общество, не существует человеческий род: он весь погружается в себя; он от одного себя ждет спасения. С этой точки зрения трагедия Гёте является нам самым решительным, самым резким выражением романтизма, хотя это имя вошло в моду гораздо позже. Примирения, действительного примирения, того окончательного аккорда, в котором разрешались бы все предшествовавшие диссонансы, мы не находим в Фаусте, так же, как, например, в Байроне; придуманное старцем Гёте аллегорическое, холодное, натянутое разрешение трагедии не удовлетворяло и не удовлетворит, вероятно, ни одного живого человека; а между тем, оканчивая «Фауста», мы не ощущаем того горького и смутного беспокойства, которое возбуждает в нас каждое творение лорда Байрона, этой надменной, глубоко симпатичной, ограниченной и гениальной натуры, потому что все противоречия ? priori примирены в классически спокойной душе Гёте, которая могла, не разрушаясь, даже не страдая, вынести в себе Мефистофеля. Да, Гете не дошел до положительного, высказанного примирения; но ему оно и не нужно: сознание собственной силы удовлетворяет его… Величавое равнодушие Фауста во второй части – вот настоящее, окончательное примирение всех неразрешенных вопросов и сомнений. Человеку, которому природа отказала в возможности такого априорического успокоения, Гёте не дает никакого ответа. Гёте не признавал ничего вне сферы чисто человеческой; а между тем Фауста волнуют вопросы, которые проистекают не из этой сферы и для которых Гёте не мог найти удовлетворительного разрешения. Эти, говоря языком Канта, трансцендентные вопросы переданы были ему целым предшествовавшим развитием не одного германского народа, но всей Европы; стремление всего человечества к тому, что находится вне собственной, земной жизни, это стремление, это коренное начало средних веков, которое выразилось во всем: и в самом составе общества, и в истории, и в поэзии, и в искусстве (вспомним готические церкви), отозвалось могущественно и неотразимо в душе Фауста. Фауст – сын своего прошедшего. Но не менее сильно выразилось в нем начало противоположное, начало новейшего времени – автономии человеческого разума и критики. В истории развития человеческого сознания «Фауста» можно почитать самым полным (литературным) выражением эпохи, разделяющей средние века от нового времени. И так; как всякое, даже положительное начало должно, при первом появлении своем, носить характер отрицательный (иначе оно себе никогда не завоюет места), то и весьма понятно, почему оно, это начало, у Гёте, современника Вольтера, приняло образ Мефистофеля. Мефистофель – это новое время; это тот XVIII век, на который с таким добродушным ожесточением ослепленные или ограниченные люди сыплют разнообразные проклятия… Под каким бы именем ни скрывался этот дух отрицания и критики, всюду за ним гоняются толпы своекорыстных или ограниченных людей, даже и тогда, когда это отрицательное начало, получив, наконец, право гражданственности, постепенно теряет свою чисто разрушающую ироническую силу, наполняется само новым положительным содержанием и превращается в разумный и органический прогресс. Но мы готовы согласиться с врагами критического начала: действительно, при вступлении своем – не в круг человеческой деятельности, потому что оно никогда не переставало составлять один из элементов этой деятельности, но на поприще общественного развития в Европе – действительно, оно было односторонне, безжалостно и разрушительно; действительно, Мефистофель не представляет ничего отрадного… но сам Фауст, это больное дитя не слишком здоровых средних веков, – разве он в силах стоять на собственных ногах, разве в нем мы не находим всех признаков разрушения? Не стремится ли он сам из своей душной кельи, к которой пригвоздила его бесплодная, самолюбивая страсть к недосягаемым отвлеченностям, на волю, в действительный, здравый мир, куда он оттого попасть не умеет, что он, как фантазер, только фантазирует о нем и ждет себе здоровья – не от сообщества с живыми людьми, а от… лучей луны.
О m?ch’ich…
. .
Von allem Wissensqualm entladen,
In deinem Thau gesund mich baden![28 - О m?ch ich ~ mich baden! – Неточная цитата из первого монолога Фауста; у Гёте – «Ach! K?nnt’ich…» и т. д.] —
в переводе (не совсем удачном) г. Вронченко:
Когда ж я возмогу…
. .
Там пить твой свет, твоей росой
От чаду знаний исцелиться!
Не является ли нам Фауст скептиком с самых первых слов своих? И самая его попытка «отважно обратить свой тыл к прекрасному земному солнцу» не есть ли последний, отчаянный и ложный порыв к свободе и гармонии? Сам Фауст – не тот же ли Мефистофель в своем разговоре с Вагнером, этим немцем par excellence[5 - по преимуществу (франц.).], этим типом «филистера»? Наконец, он, Мефистофель, не есть ли необходимое, естественное, неизбежное дополнение Фауста?.. И не выговариваются ли в его речах задушевные наклонности и убеждения самого Гёте? Да и сам Мефистофель часто – не есть ли смело выговоренный Фауст?
Гёте начал писать свою трагедию весьма рано, прежде «Гёца фон Берлихингена» и «Вертера».[29 - Гете начал писать свою трагедию весьма рано, прежде «Гёца фон Берлихингена» и «Вертера». – Первая часть «Фауста» была начата в 1772 г… завершена в 1808 г., вторая – писалась в 1825–1831 годы. «Гёц фон Берлихинген» появился в 1773 г., «Вертер» – в 1774 г.] Он начал ее, как он сам сознался, без всякого определенного плана; да и в теперешнем виде «Фауст», как трагедия, не может иметь притязания на округленность, на внешнее единство. Гёте с ранних лет отличался необыкновенной наклонностью к размышлению и систематизированию, – наклонностью, почти всегда несовместной с наивным даром поэтического воспроизведения, которым так щедро был он наделен… Впрочем, надобно прибавить и то, что Гёте как поэт вовсе не дорожил своими воззрениями и системами; он легко и свободно покидал их… его, в сущности, занимало одно: жизнь, возведенная в идеал поэзии («die Wirklichkeit zum sch?nen Schein erhoben», как говорит он),[30 - …жизнь, возведенная в идеал поэзии (die Wirklichkeit zum sch?nen Schein erhoben)… – Источник цитаты не установлен.] жизнь во всех ее проявлениях. Он добросовестно, с любовию изучал ее… но, повторяем, не жизнь как жизнь занимала и увлекала его душу, но жизнь как предмет поэзии. Гёте, наконец, дошел до того, что он не пугался страданий, даже не избегал их: они внушали его лире такие новые, такие прекрасные звуки… Да, впрочем, какой же поэт когда-нибудь страдал, страдал действительно, бессловесно, глухо? Все они готовы повторять с Тассо:
Und mir noch ?ber alles —
Sie (die Natur) liess im Schmerz mir Melodie und Rede,
Die tiefste F?lle meiner Noth zu klagen:
Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt,
Gab mir ein Gott zu sagen, wie ich leide…[6 - А самое главное – это то, что она (природа) оставила мне в моих страданиях мелодию и речь, в них я могу излить жалобы на всю глубину моей печали. И когда люди умолкают в своих мучениях, бог дает мне возможность сказать, как я страдаю (нем.).][31 - Und mir noch ?ber alles ~ wie ich leide… – Цитата из заключительного монолога Тассо в драме Гёте «Торквато Тассо» (1789).]
И, пользуясь этим, у плохих стихотворцев воображаемым, у хороших – действительным преимуществом, авторы до того надоели нам воспеванием своих страданий, что поневоле захочется сказать даже лучшему из них:
Какое дело нам, страдал ты или нет?[32 - Какое дело нам, страдал ты или нет? – Цитата из стихотворения Лермонтова «Не верь себе» (1839).]
Но от поэзии уйти невозможно; слова, сказанные нами, тоже стих, тоже произнесены поэтом…
Итак, Гёте писал своего «Фауста» без всякого плана. Он бросал стихи на бумагу, как невольные признания мыслящего и страстного поэта-эгоиста. В его время, в то переходное, неопределенное время позволительно было поэту быть только человеком; старое общество еще не разрушилось тогда в Германии; но в нем было уже душно и тесно; новое только что начиналось; но в нем не было еще довольно твердой почвы Для человека, не любящего жить одними мечтаниями; каждый немец шел себе своим путем и либо не признавал никакой обязанности, либо своекорыстно или бессмысленно покорялся существующему порядку вещей. Посмотрите, какую жалкую роль играет народ в «Фаусте»! Это – народ (вспомните сцену, когда Фауст гуляет с Вагнером, и сцену в погребе Ауербаха) вроде народа на картинах Теньера и Остада;[33 - …народа на картинах Теньера и Остада… – Для творчества Тенирса (Teniers, 1610–1690) и Остаде (Ostade, 1610–1685) характерно изображение идиллических сцен быта: пирушек, сельских праздников, свадеб и пр. В 1830–1840-х годах с именем Тенирса, или Теньера (как его имя писали в России в первой половине XIX в.), связывалось представление об изображении в искусстве и литературе пошлой стороны жизни (см.: Данилов Вл. Теньер в русской литературе. – Рус Арх, 1915, № 2, с. 164–168).] Мефистофель хочет дать Фаусту понятие о веселом житье-бытье толпы и показывает ему полдюжину довольно глупых студентов, над которыми они вдвоем потешаются «en grands seigneurs»[7 - «как знатные господа» (франц.).]; народ в произведении Гёте проходит перед нашими взорами не как древний хор в классической трагедии, а как хористы в новейшей опере. Толпа представлена, как водится, объективно, даже символически (в сцене, о которой мы уже говорили, когда Фауст гуляет с Вагнером, все сословия – одно за другим – парадируют перед читателем); она понята; ей отдано то, что ей следует, «man l?sst sie gelten»[8 - «ей дают место» (нем.).], – чего ж ей более? Какое право имеет она, эта глупая толпа, возмущать величественный покой, или одинокие радости, или, наконец, одинокие страдания какой-нибудь гениальной личности? А этот бедный молодой мальчик, этот ученик, который смиренно приходит попросить советов у Фауста, – с какой аристократической, небрежной иронией потешается Гёте над ним и вообще над молодым поколением, которое не может возвыситься до гениальности, – над ограниченной толпой! Все насмешки, все сарказмы Мефистофеля падают на Фауста, как на отдельное лицо; он знает его слабую сторону. Фауст, мы уже говорили это не раз, – эгоист и заботится об одной своей особе. Да, наконец, Мефистофель далеко не «сам великий сатана», он скорее «мелкий бес из самых нечиновных».[34 - Мефистофель далеко не «сам великий сатана» ~ из самых нечиновных». – Слова в кавычках – цитата из поэмы Лермонтова «Сказка для детей» (1840).] Мефистофель – бес каждого человека, в котором родилась рефлексия; он воплощение того отрицания, которое появляется в душе, исключительно занятой своими собственными сомнениями и недоумениями; он – бес людей одиноких и отвлеченных, людей, которых глубоко смущает какое-нибудь маленькое противоречие в их собственной жизни и которые с философическим равнодушием пройдут мимо целого семейства ремесленников, умирающих с голода. Он страшен не сам по себе: он страшен своей ежедневностью, своим влиянием на множество юношей, которые, по его милости, или, говоря без аллегорий, по милости собственной робкой и эгоистической рефлексии, не выходят из тесного кружка своего милого я. Он едок, зол и насмешлив; люди, которые, по словам Пушкина,[35 - …по словам Пушкина… – Тургенев имеет в виду стихотворение Пушкина «Демон» (1823).] встречаются с этим демоном, страдают; но их болезненные страдания не возбуждают нашего глубокого участия; притом сколько таких страдальцев, поносившись с своим горем, как «с писаной торбой», внезапно превращаются в добрых и здоровых пошлецов!.. Да и те из них, которые до конца дней своих вянут и сохнут, как надломанная ветка, – признаемся откровенно, и те возбуждают в нас одно лишь преходящее сожаление… Повторяем, Мефистофель страшен только потому, что до сих пор его почитают страшным… Ужасен он для людей, которым собственное счастье дороже всего на свете и которые хотят в то же время понять, почему именно они счастливы… а этих людей всегда будет много, до того много, что мы, вспомнив о их количестве, готовы снова признать величие гётевского чёрта, с которым мы обошлись было довольно бесцеремонно. Но всё же мы должны сознаться, что мы не раз возмущали «другой могучий образ»,[36 - …мы не раз возмущали «другой могучий образ»… – Неточная цитата из поэмы Лермонтова «Сказка для детей». У Лермонтова:Мой юный ум, бывало, возмущалМогучий образ…] перед которым бледнел и исчезал Мефистофель, это воплощенное проявление критического начала в ограниченной сфере отдельной личности.