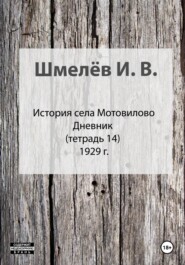По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История села Мотовилово. Тетрадь 9 (1926 г.)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Меж тем подносчики подносили гостям уже по второму стакану. Дядя Федя, потчуя, уговаривал выпить гостей. Для формы и приличия гости вежливо относили ему, церемониально прикладывая к стакану два сложенных вместе пальца. Дядя Федя охотно принимал эту почесть и стакан за стаканом опрокидывал в свой рот, не забывая, конечно, и о гостях. А Ершов, выпив второй и закусив, изрядно осмелев, продолжал своё изреченье по поводу их отношений со Смирновым.
– Я давно заметил и раскусил, что Смирнов-то в мой огород камешки бросает: не мытьём, так катаньем берет. Вот давно у нас с ним такая катавасия идёт. – Но попадётся, да попадётся он мне где-нибудь в узком месте, да под горячую руку. Не спущу! – угрожающе торочил Ершов, вызывая у мужиков только смех, потому что получается, как в басне Крылова: Моська угрожающе лает на Слона. Над этим-то, надрываясь, хохочут мужики, поджав животы, катаются со смеху.
– Слушай, Николай Сергеич, а как же насчёт Дуньки-то? Неужели ты от неё отступишься? – спросил Ершова Никита.
– Временно приходится отступиться. А видите ли, какое дело-то, только по пьянке я вам мужички, расскажу в чём секрет-то! – понизив голос Ершов стал открывать свою тайну. – Моя баба как-то распознала, что я с Дунькой задумал «шуры-муры» завести, она сходила к какой-то знахарке и мне невст раздобыла. Я и так, и сяк, а мой ровесник одно «шесть часов» показывает. Думаю: «Вот так тебе фунт изюму!» Если бы я узнал, какая ведьма это мне подделала, я бы ей голову отвернул и чертям на рукомойник отдал.
– Ну, а как теперь насчёт этой самой невст? – поинтересовался Никита.
– Теперь всё в порядке. Продействовало это ведьмино снадобье с неделю, а потом прошлось как рукой сняло. Я ведь тоже не лыком шитый, а хреном делан: на злое снадобье я своё снадобье изобрёл.
– Какое же? Скажи, если не секрет! – любопытствовали мужики.
– Во-первых, овсяную кашу ем, сырые яйца пью, сахару без нормы ем. Вот только, мужики, не знаю, где бы достать шпанских мух и бобровый струи. Тогда бы я и вовсе злополучной знахарке прямо в глаза бы сказал: «А хреника тебе в правый глаз не хошь, чтобы левый не моргал!» – горделиво сказал Ершов.
Мужики, заинтересовавшись рассказом Ершова, скрытно, чтоб он не догадался, насмешливо хихикали, а то и хохотали прямо в открытую, зная, что он не подозревает, что над ним, подшучивая, смеются. Ему же кажется, что мужики ему поощряют. Между тем, сам хозяин дома Василий Ефимович, изрядно развеселившийся от выпивки, громогласно и властно управлял всем ходом пира. Среди прочих людей и гостей всюду мельтешилась его красная сатиновая рубаха-косоворотка, всюду виднелась серебряная цепочка, прицепленная к часам в кармашке жилета и волнами растянута во всю грудь. Почти беспрестанно слышался его властно-повелительный голос, в песнях особо выделялся и разносился по всей улице из открытых окон возницы его басовито-зычный голос. Иногда он одиночно пускался в пляс, припевая свою любимую песенку «Устюшенька, моя душенька!» Сильный, бодрый, упитанный, полное, холёное, чисто выбритое лицо, пышные чёрные усы, обличием схожий на барина, в полном расцвете творческих сил, на тридцать седьмом году своей жизни он, как говорится, в коренном дрызгу! В селе Василий Ефимович среди мужиков пользуется большим авторитетом и уважением.
Среди шума и пьяной кутерьмы слышалась песенка, петая Дунькой Захаровой: «Трубочиста любила, сама чисто ходила во зелёный сад гулять!» Как бы соревнуясь с ней, Николай Смирнов пропел свою любимую песенку: «Эй, вы, ребята! Эй, вы, кадеты! Не робейте никому! Я под солнышком иду!» – слышалось его задорное пение. И вынув из кармана пачку папирос «Стенька Разин», Смирнов, закурив и ухарски пыша дымом, запел «Хаз-Булат», и, бросив эту песню на первом куплете, вздумалось ему запеть другую:
– Как это запевается, песня, в которой поётся «В хуторочке жила молодая вдова», – допытывался Смирнов у соседей по лавке, где он сидел.
– Нет, давайте споём «Коробушку, коробушку»! – требовательно голосила Дунька.
Эту песню, причём под гармонь, спели сполна, пели всем пиром, не пел если только один Яков Забродин.
– Все поют, а ты что молчишь, сидишь как пень среди леса! – приставая, наседал на Якова сидевший по соседству с Яковом Алёша Крестьянинов и, вертляво болтая своей головой, уговаривал, чтоб Яков пел.
– Погоди, выпью! – отговариваясь от назойливого Алёши, Яков взял со стола наполненный самогонкой стакан, выпил, а выпивши, как обычно, зычно крякнул и, вместо того чтоб закусить, зубами хвалебно, показывая своё искусство, разгрыз край у стакана.
– Ты что пьёшь, а не закусываешь? – спросил его Алёша.
– Я что сюда жрать пришёл, что ли?! Что мы не едували, что ли?
– Ну, давай песню петь! – не отступал от Якова Алёша.
– Я бы пел, да не умею, – признался Яков.
– А научиться хочешь?
– Конечно, хотелось бы!
– А хочешь я тебя научу?
– Я и больно бы рад!
– Ну, так слушай мою команду! Делай рот корытом.
– Ну, сделал! А дальше что? – детально подчиняясь научениям Алёши, наивно, но с хитрецой отвечал Яков.
А Алёша продолжал:
– Набери в себя побольше воздуху!
Яков, вдохнув в себя с доброе ведро воздуха, напыжился, щёки его надулись словно мячики, залоснились от пота, глаза из густой заросли ресниц и нависшихся бровей вылупились.
– Теперь старайся с силой воздух выдыхать из себя, а где надо – вдыхать в себя. Производи при этом разные звуки, приглядываясь и прислушиваясь к остальным поющим около тебя людям, и у тебя получится песня.
По Алёшиному указанию Яков исполнил всё в точности и так сильно рявкнул во всю комнату, что от содрогания воздуха висевшая в углу у потолка стеклянная лампа упала на пол и разбилась. Все разом дружно ахнули смехом. Хозяин за разбитую лампу Якову не выговорил, он только велел Ваньке подобрать осколки и выбросить их.
– Кто во время выпивки не поёт, тот скоро пьянеет! – продолжал разговор о пении Алёша, уже с научной точки зрения поучая Якова.
– Ну, и что за беда, – не возмущаясь, отозвался Яков, – для того и пьют, чтобы спьяниться, а кто не хочет пьяным быть, тот не ходи по свадьбам! – заключил Яков.
Меж тем, один подвыпивший старик-бородач, задумав чем-либо привлечь к себе внимание людей, сидя за столом, пропел свою, видимо, любимую песенку: «За работу мы не дорого берём. Мы до смерти работаем, до полусмерти пьём!» и уже без напева добавил: «Работаю за семерых, пью за пятерых, а ем только за троих».
Наряду с изобильным угощением самогонкой по сельскому обычаю гостей стали угощать обедом. На столы подали горячие, прямо из печи щи со свининой. Яков, не попробовав и не подув в ложку, с особым азартом и аппетитом щи залпом вылил из ложки в рот. Нежная кожа во рту облезла пелёнкой. От боли зажав рот ладонью, Яков грозовой тучей вылез из-за стола, направился к выходу. По громкому топанью его разлапистых ног можно было определить, что он сильно обиделся на то, что не предупредили, что щи сильно горячи. Он решил после этого больше не знаться с хозяевами этого дома. Николай Ершов же, сидя за другим столом, дождавшись, когда щи остынут, напористо принялся за них, поддевая ложкой кусочки свинины, он так старательно увлёкся едой, что не чует, как с него градом катится зернистый пот, и не заметил, что произошло с Яковом.
– Митьк, дай закурить! – спросил Гришка, когда обед закончился гречневой кашей.
– Поменьше надо петь, а свой иметь! – заметил ему Митька.
– Я своего-то не успел натяпать, в печурке сохнет.
Выдерживая свой капризный нрав (какие обычно бывают у этой категории людей), гармонист, отдыхая от игры и набираясь сил, в подвыпитии молчал, молчала и его гармонь, а вот наступил момент – и гармонь внезапно рявкнула, так призывно и требовательно, что из-за столов смыла целую дюжину мужиков и баб. Первыми в пляс пустились Смирнов и Дунька. Запястьем левой руки упёршись в бок, в правой руке над головой носовой платочек, махая им, кружась на одном месте, она павой прошлась по свободному от людей полу и, лихо притопнув ногой, кружась, пошла в пляс. А Смирнов, обхватив свою талию руками, по-молодецки присвистнув, по-щегольски присев и фигуристо выламывая ногами замысловатые вензили, тоже пустился в пляс. Сам Василий Ефимович, видя, как лихо отчеканивает ногами его друг Смирнов, выскочив со своего места, раскрасневший от выпитого, во всю ширь растопырив руки, турсуча локтями в пышные разопревшие бабьи груди, он задом расталкивал неподатливый народ: гостей и глядельщиц. Стараясь расширить круг, он властно и требовательно кричал: «Шире круг! Шире круг! Раздайтесь пошире! Вам говорят!» А Смирнов и Дунька, подзадоренные хозяином, плясать принялись ещё азартнее, не жалея подмёток, молодцевато притоптывая ногами. В общую кутерьму пляски вступили ещё с полдюжины баб. По растревоженному кружащимися бабьими сарафанами воздуху понесло по избе сладковатым бабьим потом вперемесь с неприятным запахом нафталина.
Наплясавшись до устали, запыхавшийся Смирнов подошёл к гармонисту и требовательно попросил: «Дайка сюда гармонь-то!» Гармонист недоуменно выпустил из рук свою гармонь. Николай Фёдорович, впервые взявши в руки гармонь, заиграл на ней так виртуозно и залихватски, что все прислушались, прекратив пляску. Он оказался не только искусным плясуном, но и спецом владеть гармонью. Хотя в его игре и не было привычных сельскому слушателю мелодий, но было есть чего послушать. Под его музыку даже расплясался молчаливый и неповоротливый Гришка, которого тут же уняла жена:
– Перестань, сатана, от трезвого-то слова не дощупаешься, а тут откуда что взялось!
А за столами пьяные безудержно и надоедливо лезут к молодым целоваться, слюняво разевая рты который раз уже поздравляют:
– С законным браком! Горько! Живите душа в душу!
Всюду, куда ни глянь, сузившиеся от бесстыдного смеха глаза, пьющие сквозь зубы рты, неторопливо жующие рты, маслено-слюнявые губы, весёлый скал зубов, обращающие направо и налево вертлявые головы, любопытные взгляды, скромные словечки, гмыканье и усмешки, задорное бабье хихиканье и по-жеребячьи мужское гоготанье и прочие свадебные атрибуты. Заискивающее мужское подмигивание, любезные вненарок поцелуи и нахальное щупанье.
– Убери свои грабли-то, куда лезешь!
– Чай у меня свой не хуже тебя, вишь, он у меня какой – козырем смотрит!
– А ты звездани ему по брылам-то, он и не полезет!
– Эх, я вчера снова Гришку и отбузовала!
– Эт ты за что его?
– Так, за дело: не напарывайся до такой степени. Мало того, что налыгался до свинства, что едва до дому я его дотащила и едва в избу впёрла, так он весь облевался, обваландался весь, едва отмыла. А легли спать, так он уснул как мёртвый и, как дохлый телёнок, всю ночь проспал – до меня ни разку не дотронулся. Вот за что! – чистосердечно призналась молодая баба, жалуясь на своего Гришку соседке по лавке.
– А мой Митька вчера ночью чуть не подох. Вчера на пиру-то налопался, как свинья, бесчувственно, до шлёпка, а ночью не то притворился, не то на самом деле присудобился помирать. Лил себе в глотку-то без меры, а закусывать – не закусывал. Вот и приспичило. Я в испуге выбежала на улицу, заорала «Митька умирает!», народ взбулгачила, людей взбузыкала. Спасибо, люди помогли, кто водой холодной отливает, кто молоком отхаживает, а бабушка его крапивой похлыстала, волдырей ему понаставила, так общими усилиями и спасли его. А то бы нынче не о пире заботились бы, а о поминках хлопотали бы.