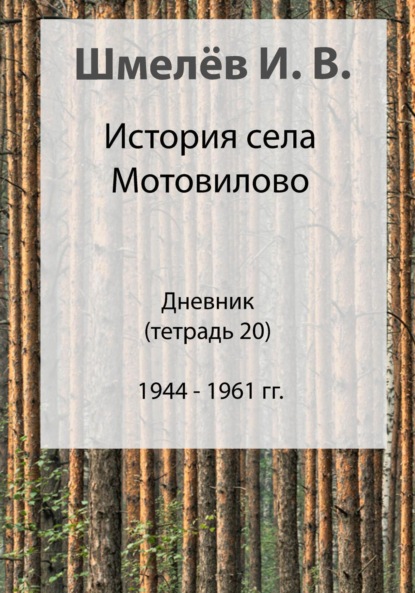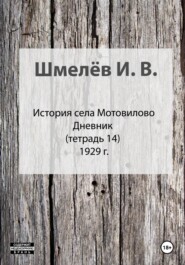По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История села Мотовилово. Дневник. Тетрадь 20
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Как ты, Евдокия Сергеевна, не ерахорься своим превосходством перед мужиками, а всё же, вы бабы, всю жизнь пребываете в подчинении у мужиков и живёте у них этажом пониже! Тогда и на три колхоза делить колхоз не надо, а то что получится: то кормили и напырачивали одного председателя (намекая на Карпова), а то придётся народу кормить троих, да с ними разных причандалов и прихлебателей станет, до Москвы раком не переставишь! – под общий одобряющий смех справедливо высказался Ершов. – А что касается того, что хлеб весь растранжирили, то лично я одним хлебным духом сыт бываю! – добавил он.
Дуньку, видимо, вопрос о напырачивании Карпова затронул за живое. Она, как ярая защитница Ивана Ивановича, судорожно вспрыгнув с места, перекашлянувшись, начала обличительно укрощать Ершова. Слова начали изливаться из неё, как вода из неиссякаемого родника.
– Ты, Миколай, видимо, мало газеток читаешь и редко радиво слушаешь, не в курсе председателев дел. Ты, видимо, не знаешь, что председателю от забот о колхозе мало приходится ночи спать: о колхозе заботиться, и вовремя народ на работу послать, и вовремя работу проверить, и туды, и сюды! Без его глазу с такой обузой вряд ли кто справился бы. И недаром всюду его хвалят, и в газетке о нём хорошее пишут, и у районного начальства он на хорошем счету! Ты об этом, видно, мало знаешь?! Так что прикольни свой язык-то!
– Знаю, знаю! – отозвался Ершов, по-заячьи скосив назад свой взор, он через плечо краешком глаза наблюдал за её поведением. – Да, вить, и я не на плохом счёте! Как-никак, а я заслуженным фронтовиком являюсь! – горделиво выкрикнул он. – Так что мы знаем эту военную дисциплину! И мне на язык не наступай, дай высказаться.
– Видно, и вы, начальники, поняли, что в большом-то колхозе провальная яма – лафа для причандалов и для жуликов, так что делайте с нами, что хотите: пейте наш пот и нашу кровь из нас соломинкой! Бог с вами, делите нас, делите, только поскорее! – нервно мигая и взволнованно дрожа всем телом, высказалась труженица Катерина.
– Ну и так, вопрос о разделе колхоза решён, теперь надо только проголосовать! – объявил представитель из райисполкома.
Приступили к голосованию, и тут получилась загвоздка: голосовавших «за» и «против» оказалось ровное количество поднятых рук. Видимо, не только пороки, но, порой, и явно добрые намерения со стороны начальства в народе возбуждают недоверие и протест, и тому же представителю пришлось обратиться к колхозникам с увещевательной речью:
– Мы вам, товарищи-колхозники, без всяких нам вознаграждений желаем для вас только хорошего, мы ведь ваши благожелатели и подчинённые ваши слуги!
Это несколько расхлябило и усмирило строптивых, но во время голосования всё же пришлось прибегнуть к чрезвычайной мере – голосовавших людей пропускать в разные двери: кто «за» раздел колхоза – в дверь направо, кто «против» – в дверь налево. Колхоз решили разделить на три колхоза.
Улицы села, согласно и сообразно приближения пахотной земли к вновь образованным колхозам, распределены были так: Главная улица, Мотора, Кужадониха, Забегаловка, Западная, Лесная, их земля – массив, расположенный к лесу – остаются за старым колхозом, за которым остаётся и старое название «Раздолье». Второй колхоз назвали «Смычка», к нему были отнесены улицы: Слобода, Мочалиха, Ошаровка, Поповка и Курмыш. Их земля по направлению к Баусихе и к Михайловке. Третий колхоз был назван «Родина», в него вошли улицы: Шегалева, Бутырка и Жигули. Их земля – вся бывшая шегалевского общества. Далее, встал вопрос о выборе председателей новообразовавшихся колхозов, т. е. руководителей этих хозяйств и попечителей о колхозниках – тружениках этих хозяйств. Но ввиду того, что никто и никогда, и нигде на эти должности не обучался, и экзамена на этот ответственный пост руководить живыми людьми, управлять их судьбами, никто не сдавал, то на эту должность районное начальство представляло тех, кто ему приглянется. Ввиду того, что старый председатель Карпов проживает на улице Мочалихе, то он и назначен был руководителем колхоза «Смычка». Одна колхозница колхоза «Раздолье» Анка А., не выдержав такой утери, вскочив с места, взмолилась перед Карповым: «Иван Иваныч, чай, не оставь нас, не покинь наших детей-сирот, поруководи нашим колхозом. Как это мы без тебя, погибнем!» И он, как испытанный в борозде конь, грудь колесом, от удовольствия широко разинув рот, задорно хохоча, утирая радостную «крокодилову» слезу из глаза, прорёк:
– Не могу! Меня переводят в колхоз «Смычку», да я и сам в нём проживаю, как же я оставлю свой родной колхоз! – отговорился Карпов.
– На руководящий пост, т. е. председателем вашего колхоза «Раздолье», мы, райком и райисполком, решили порекомендовать жителя вашего колхоза Оглоблина Кузьму Ерофеевича! – громогласно заявил представитель райисполкома.
– У него у самого-то дом стоит недокрытый, где уж ему заботиться о подъёме колхоза и о нуждах колхозников! – раздавались голоса в зале.
– Ну, эта телега ни в какие вороты не проедет! – недоумённо вырвалось у кого-то из мужиков, сидящих в средине зала, вспомнив, видимо, его делячество на этом поприще ещё до войны.
Кузьма в продолжение всего собрания сидел смирно и ни разу не подал своего голоса. Он, видимо, был погружён в раздумье, в его голове всё время витала одна мысль: выберут или, вспомнив его раннюю стряпню, отвергнут? Но, хотя некоторые колхозники и колхозницы и были против его избрания председателем их колхоза, но указ районных руководителей – закон для подчинённых, тем более, прежние его варакулы в деле руководства колхозом в довоенное время подзабылись, и он был избран предом вновь. Председателем колхоза «Родина» шегалевцы избрали Гордеева Михаила Фёдоровича, на этом собрание и разошлось. Итак, общий колхоз разделён на три, руководство колхозами избрано, теперь надо приступать к делёжке имущества общего колхоза на три части. И делёжка началась.
Делёжка имущества велась весьма тщательно и скрупулёзно: от складских амбаров, лошадей, коров, семян, инвентаря, плугов, вожжей, постромок в скотных дворах, и кончая вёдрами; от шкафов, счёт до карандашей и ручек в канцелярии. Особенное рвение, радение за свой колхоз при разделе проявил Байков Василий. Он в споре болел за свой колхоз больше, чем за своё личное хозяйство. Его однажды даже упрекнула Дунька Захарова:
– Хоть ты и горячо споришь за свой колхоз, а всё равно в ж… шила тебе не закалить! Всё равно не выдобришься!
– Гм, если постараюсь, то закалю, и добротное шило получится, твою передницу сразу проколет!
– Её и незакалённым проколоть не мудрено! – возразила она.
– Ну так вот, значит, насчёт шила-то ты, Дуньк, напрасно беспокоишься.
От него не отстал и Лабин Яков Васильевич, который так же рьяно боролся за каждое ведро, чтоб оно осталось в его колхозе «Раздолье».
Представители каждого колхоза старались для своего колхоза имущества урвать побольше. Борьба шла за каждый плуг, за каждую борону, за каждое конное ведро, хотя они были сплошь и худые. Дело, конечно, не обошлось без спора, а когда вопрос встал как пилить зерновой склад, «кому достанутся стены без углов», дело дошло и до драки. «Шегалевцы» требовали, чтобы им причитающуюся часть зернового склада разрешили отпилить с углами, а «раздольенцы» категорически это отвергли, началась ругань, спор и перетасовка с толканием и нанесением взаимных ударов кулаками. Но всё же, склад был распилен поперечной пилой, и углы остались на месте. До боли в горле оспаривали некоторые принадлежность того или иного предмета такому-то колхозу.
От виденного всего этого, от переживания на себе разных таких передряг житейского бытия у редкого не черствела русская душа и не ожесточалось мужицкое сердце! В своё время некоторым думалось, что с построением коммунистического общества в нашей стране, в народе не только не будет места для таких пагубных явлений как грубость, злоба, пьянство, воровство, вымогательство. А коль факты в действительности народного бытия утверждают обратное, то и сама жизнь становится омрачённой и неспокойной. Всему этому виной является война что ли? Ведь невежественные самодуры, вероломно бесчинствуя, дозволяют себе издеваться над своими же односельчанами. И они же, считая себя правыми, с пеной у рта спорят, из кожи лезут, доказывая свою правоту. Но спорщики бывают разные: некоторые живоглоты в житейском народном быту спорят ради своего широкого рта, они готовы оспаривать белое чёрным и наоборот, находя в этом наслаждение и отраду, победив в споре скромного на язык тихослова, хотя бы тихослов и оспаривал истинную правду. Но, тем не менее, общее имущество по колхозам было разделено почти правильно, хотя сама делёжка и длилась почти весь остаток зимы. До весенней посевной компании всё было разделено, всё было улажено. Вновь образовавшиеся колхозы, кое-как обстроившись, перегнали на свои дворы скот, в свои склады перевезли зерновое хозяйство, деятельно стали готовиться к своевременному проведению сева. Ремонтировали весь инвентарь, сортировали семена, собирали с населения золу, прямо горячей из-под пирогов и шелипердов выгребая её из печей.
А там, в верхах, на фронтах войны так и чувствовалось, что надоедливой, всем опостылевшей проклятой войне скоро придёт конец. Началось победоносное и неудержимое продвижение наших войск на запад, хотя оно и продолжало уносить в сырую землю несметное количество русских солдат, русских крестьян, колхозников-тружеников, таких же, каковые, оставшись в деревне, сеяли и растили хлеб для нужд войны и тыла!
Снова мирная жизнь
Наступил Новый 1945 год, который ознаменовался тем, что в этом году закончилась длительная, кровопролитная и всем надоевшая разбойница-война! В феврале месяце этого года в Крыму, в Ялте, проходила конференция руководителей трёх великих держав: СССР (Сталин), Америки (Рузвельт) и Англии (Черчилль), которые договорились о совместных действиях по разгрому фашистской Германии, там время окончания войны было уже предрешено.
В конце марта наступили тёплые солнечные дни. Снег бурно таял: сверху его плавили жгучие лучи солнца, а снизу подтачивали струйки талой воды. По уличной дороге, ведя свой весенний говор, струились ручейки холодной пенисто-пузыристой торопливой воды. А в начале апреля снег и вовсе рухнул. В поле, на горе около оврага «Рыбакова» образовался большой массив голой земли, вся возвышенность этого поля совсем освободилась от снега, да и вообще-то судьба снега была уже предрешена: не только в поле, где большие снежные массивы, притаясь по оврагам, скупо поддавались таянию, но и в лесу кочки и бугорки сбросили с себя снежный покров, и вокруг деревьев образовались приствольные голые от снега ямки, в которых, дождясь весны, оживая, робко зазеленели побеги травы. В селе, укрываясь постройками, заборами и деревьями, снег таял медленнее, да и то его оставалось уже малость.
В вечернее время этого апрельского дня Иван вышел на улицу, чтоб полюбоваться приходом весны. Солнце уже давно скрылось за крышами изб и вскоре ушло за горизонт. В лицо Ивана хлынули струйки вечернего холодного ветерка. Усиливавшийся ветерок провевивался через переплетень голых упругих ветвей берёзы, на кончиках которых игриво раскачивались серёжки, похожие на лапки цыплят. Усиливавшийся ветер, не на шутку разгулявшись над селом, озорно разбушевался: подбирался под ошмётья соломы крыш, срывая их с поветей, баловливо разметал по улице; подбирался под ветхие доски, пугающе хлопал ими. Чувствовалось похолодание. Воробьи молчаливой стайкой притаённо попрятались в густом переплетенье веток сирени палисадника, выжидая момента, чтоб незамеченными шмыгнуть за наличники дома на ночлег. Спешившая куда-то парочка голубей, в полёте с трудом осиливая сопротивление упругого ветра, усиленно махала крыльями, но мало продвигалась вперёд, зависла почти на одном месте. Высоко в западном поднебесье с гневным гулом полосил ясное голубое небо самолёт. Над колыхающейся от ветра ажурной кроной ветлы красовался серебряный серпик молодого, только что народившегося месяца. Голубую землю, снежок и талую водичку объял яркий морозец, подобрав на дороге не успевшую стечь талую воду, образовал на ней тонкий звенящий ледешок.
Хотя и холодновато стало, а крапива, в тёплые дни красноватыми побегами появившаяся на оттаявшей земле в палисаднике, стойко сопротивлялась морозцу, гордо стояла под кустами сирени, готовясь первой весенней зеленью попасть во щи человеку. Несмотря на временное похолодание, перелётные птицы продолжали своё продвижение, летя с юга на родной север. Грачи и жаворонки уже прилетели (кстати, где они ночуют в такую похолодавшую пору?), на подлёте скворцы, а там и остальные пернатые путешественники не замедлят прилететь в нашу местность и пролететь над нашими краями, продвигаясь дальше на север. «Да, удивительное всё же явление в природе – весенне-осенний перелёт птиц – подумалось Ивану. – Если допустить, что, например, дикий гусь в своём лёте на протяжении одного метра крыльями делает один взмах, то пролетая километр, он делает 1000 взмахов. А допустим, что он на зимовку от своего гнездования улетает за 1000 километров, то выходит, он крыльями делает миллион взмахов – колоссальная работа мышц! А как на перелётных птиц повлияла война? Не может быть, что 4-х летнее громовое беспокойство не отразилось на поведении пернатой живности. Замечено, перелётных птиц стало меньше, и пение их стало не таким азартным: не азартно поют скворцы, не азартно щебечут ласточки, а без птиц и без их радостного пения Природа была бы опечаленной!»
День Победы. Бабы и Николай на пашне
6-го мая 1945 года наступила Пасха. «Пасха, Христос избавитель!» 9-го мая, в среду на пасхе, по радио объявили, что вчера, 8-го мая, в 23 часа 01 минуту на всём протяжении фронта прекращены военные действия – таким образом закончилась всем опостылевшая, продолжительная, кровопролитная война, продолжавшаяся 1417 дней и унёсшая множество ни в чём не повинных молодых людей. Акт о безоговорочной капитуляции Германии в Потсдамском дворце подписали: от Советского Союза – Жуков, от Америки – Эйзенхауэр, от Англии – Монтгомери, от Франции – де Латр де Тассиньи. В этот пасмурный, дождливый день люди, встречающие друг друга на улице с улыбающимися лицами, радостно приветствовали друг друга, провозглашая: «С победой!!!» В домах, семьи которых война не задела своим смертельным мечом, была радость с весельем; в семьях же, в которых на войне погибли близкие родственники – радость со слезами. Проходя по улице села, не слышно было плача детей, потому что их фактически нет, а можно было слышать заунывный женский плач: «Ох, милый мой! Война-то, проклятая, закончилась, у некоторых баб муженьки придут, а тебя я никогда не дождуся!»
На работе в поле обрадованные колхозники День победы отметили тем, что качнули не бывших фронтовиков, а председателя колхоза Карпова, несколько раз подбросив хохотавшего Ивана Иваныча вверх, которому всю войну не пришлось понюхать пороху и познать, что такое тягость фронта. Он фактически воевал на «бабьем фронте» и, жрав за полсела, растил своё объёмистое чрево!
Да, трудна была житуха в войну у баб-колхозниц. Муж забран на войну – надо было самой вести своё хозяйство, с его заботами и с его неурядицами, и к тому же надо было платить непомерные денежные и натуральные налоги: 1) сельхозналог, 2) самообложение, 3) страховку, 4) культсбор, 5) единовременный, 6) бездетный, 7) заём, 8) картофель 17 кг с сотки, 9) молоко 230 л., 10) мясо 40 кур, 11) яйца 50 шт., 12) шерсть, 13) пол кожи, – и эти 13 налогов вконец изнуряли полуголодную и физически обессилевшую бабу-колхозницу, которая, бесправно подчиняясь законам и местным властям, безропотно напрягаясь, кормила в войну всю армию фронта и тыловиков. И недаром, пахая землю на себе (семь баб в запряжке, восьмая за плугом), бабы сквозь смех и слёзы пели: «Матушка родимая, работа лошадиная, только нету хомута, да ремённого кнута!» «Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик: заменяю много лиц, только нет у мя яиц!» – с некоторым азартом пропела Дунька Захарова, находясь в такой артели, которая, пахая одну земельную усадьбу, изрядно уставши, присела у забора на отдых. По случайности, в этой артели за плугом пахарем ходил Николай Ершов. Рассевшись, бабы стали рассуждать о войне, радостно и горестно обсуждая её окончание.
– Да, бабы, я так и знала, что мово Фёдора на фронте убьют, уж больно он был досужий и любопытный. Как рассказал вернувшийся с фронта инвалид Митька (они с моим-то в одной части воевали, и был свидетелем этому), во время мытья в бане мой-то Фёдор из любопытства вышел из бани в предбанник понаблюдать за немецким самолётом, с которого его немец-то и сразил пулей. И зачем только ему надо было высунуться из бани-то, пересидел бы в бане, и знай бы его не убило! Вот до чего довело его любопытство-то, до гибели! – высказалась Евдокия К.
– Да, и мой-то Лексей тоже сложил ни за что свою буйную головушку! – горестно вздохнув, проговорила Катерина.
– Он кем, бишь, у тебя до войны-то в колхозе-то был? – спросила её Дунька.
– Вертириналом, изотехником, – ответила та.
– По-моему, никаким вертириринаром, а попросту, по-нашему – конным фельшаром!
– Ну, пускай так будет! – согласилась Катерина.
– Мне вспоминается, в ту пору твой-то Лексей с каким-то коровьим фельшаром-изотехником пришли к нам корову лечить, она у нас что-то тогда захирела! Не то объелась, не то земли наглоталась, так они вдвоём её три дня лечили-лечили, так и не вылечили. И каждый раз после лечения приходят со двора, у рукомойника руки моют, а раз руки моют, то уж тут видимый конец. Тятька догадывался, ставил на стол поллитру, а мамка подавала закуску! – высказалась Дунька.
В разговор вступился Николай:
– Вот послушайте-ка, бабы, я про себя слово скажу. В начале войны я думал меня совсем на фронт не возьмут, потому что ещё в моём далёком отрочестве мне мать поручила и заставила поймать и заколоть курицу; долго я за ней гонялся по улице, а всё же, наконец, поймал и положил её головой на чурбак. Взял в руки топор, из жалости к животине я, отвернувшись, тяп топором по курице-то. А я от природы левша, курицу-то пополам развалил и себе кончик указательного пальца на правой руке отмахнул напрочь. Ведь без этого пальца на фронте делать нечего: при стрельбе на курок-то винтовки только этим пальцем-то нажимают. Ну так вот, не глядя ни на что, меня всё же на войну забрали, а взяли-то не на фронт, а определили в тыл, прикрепили к лошади патроны возить. Назначили ящики возить, сохраняя, конечно, военную тайну. Однажды какой-то хрен в гражданском одеянии спросил меня: «– Чего везёшь, батя? – Военная тайна! – отрапортовал я ему. – А в ящиках что? – переспросил он. – Патроны! – не подумавши, бухнул я, а волосы на голове уже дыбом всторчились. «А ну-ка это шпион какой? – подумалось мне. – И пропал Николай Сергеич ни за бабочку!..» Хотя я и служил в тылу, а дисциплина-то всё равно армейская. Одна установка: солдат, всюду подчиняйся командиру и глазами ешь начальство! А в подчинении да в отдалённости от родины, сами знаете, как тоскливо. И дело бают: «На чужой сторонушке рад родной воронушке»! А нам одно командование твердит: «Тяжело в походе – легко будет в бою!» Хотя я и сам бывал в начальствующем составе, это дело ещё было в первую империалистическую войну, был тогда я в чине унтер-офицера. И вот, слушайте, бабы, что со мной тогда произошло. Пришлось мне однажды дежурным быть по роте. И вот во время моего дежурства, а дело-то было в праздничный день, воскресенье было, я солдат пораспускал кого куда, да, в общем-то, по бабам. Да и явись, как на грех, в расположение части ротный командир с проверкой. «– Ну, – говорит он, – Ершов, докладывай: где люди?!
Я и начал, топнув ногой, чеканить, чесать языком: – 25 в кабаке, 25 в бардаке, 15 человек в трактире, 10 в сортире, 25 сено гребут, 25 девок ведут, пятеро стоят на вахте, трое на гупвахте, один лежит больной, и тот просится домой. Что прикажете?! Или его отпустить, или уж всю роту по бабам отпустить?!» И вместо благодарности за «отличное» ведение дежурства, ротный тут же меня с дежурства снял и самого «на губу» отправил, временно сорвав с моей гимнастёрки погоны с лычками, велел в карман положить. И случись ночью такое: тревожный сигнал, извещающий о пожаре в городе. Нас, «губарей», в тревогу подняли, на тушение повыгнали. Я спросонья вскочил, кое-как второпях оделся. Выбегать бы, а на гимнастёрке лычки-то в отсутствии. Я в такой-то кутерьме скорее давай погоны из кармана вытаскивать да скорее их на место пришпандоривать, а то без погонов да без лычек на них бежать на пожар смыслу нету. Как-никак, на пожаре-то знакомые девки с бабами присутствовать будут, засмеют, застыдят без лычек-то! Вот она, армейская-то жизнь, какова. Вы, бабьё, отсиживаетесь по тылам и нашей мужицкой военной дисциплины и носом не нюхивали!
– Ну и ты не больно ярый вояка, какой нашёлся герой: куль с г…м! – под общий смех баб отчитала Николая Дунька.
– Ну, хотя я куль-то не куль, я всё же имею заслуженное почётное звание фронтовика, и ты, Дуньк, больше меня так не именуй и про меня бабам так не рассказывай, а лучше подыми подол да своё хозяйство показывай! – урезонил Дуньку Николай.
– Я бы показала, да боюсь, ты, Кольк, ослепнешь! – боевито под общий смех отговорилась Дунька. – Что устробучил на меня свои глазищи-то? Выпучил буркалы-то на меня, или на мне узоры какие нарисованы?!
– Узоры-то не узоры, а поцеловать-то бы тебя я бы не отказался! Уж больно ты азартной ягодкой выглядишь, недаром все мужики на тебя зарятся, да и я тоже не прочь! Видимо, кому была война, а тебе, Дуньк, хреновина одна. Ты тело и красу хари не утратила, не как вон бабы!
Бабы кто весело засмеялись, а кто брюзгливо заворчали.
– Ну ладно, бабы, кончай базар, начинай ярмонку! – шутливым тоном провозгласил Николай и начал продолжать повествование о своей военной службе. – В связи с обострившимся положением на фронте меня от лошади открепили, снаряды возить передоверили другому, а меня отослали поближе к передовой линии, дали в руки винтовку и, можно сказать, прямо вплотную к немцам меня подсунули. Провоевал я там с неделю. Конечно, нам там винца по сто грамм подбрасывали для храбрости и для бодрости духа. А само собой понятно, что на передовой-то дух-то каждого и так бодр, как говорится: «настроение бодрое, идём ко дну!» Так вот, провоевал я на передовой с неделю: в рукопашном бою меня штыком в руку ранило, и я угодил в воспиталь. Провалялся я там месяца четыре. Руку-то хирурги лечили, под рархозом меня коперировали, и в теранпентическое отделение на осмотр неоднократно меня вызывали, внутреннюю болезнь во мне искали. Ложась на операционный стол, про себя шепчешь: «Что день грядущий мне готовит?» А когда живой проснёшься – поёшь: «Гром победы, раздавайся!» И вот, однажды врачи-терапенты велели разнагишиться мне догола, и давай меня вертеть-крутить, и направо, и налево, – командуют мной, то повернись, то нагнись! Я повернулся и нагнулся. «Слушай-ка, Ершов, а ты почище содержи свой зад-то!» – сделал мне замечание один из терапентов, видимо, заметив непорядок вокруг моего зада.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: