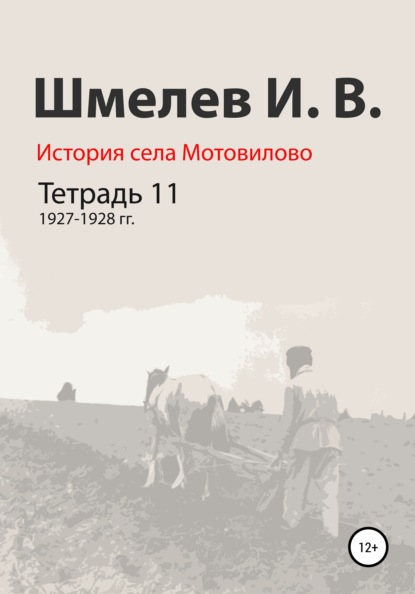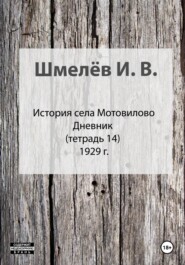По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
История села Мотовилово. Тетрадь 11. 1927–1928 гг.
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, видно, не пустая у него коробка, а с мозгами! – отозвался тот.
– Слыхивали мы эти басни! – с некоторым раздражением заметил Алёша Крестьянинов, сидя и слушая до сих пор тихо и смиренно.
– Эх мы ведь и дураки! Деревенщина неотёсанная, лапотники необузданные, олухи царя поднебесного, – самокритично высказался Николай Ершов.
– Дикари, да и только! – поддержал его Филимон.
– Мы же неграмотные, от и допускаем всякую оплошность, позволяем себе в невежестве жить-проживать, – отозвался и Яков.
Осень. Ершов и Дунька
Наступила темная осенняя, тихая ночь… На лице словно сажей измазанное пространство – кромешная темнота и тишь. Натруженные на ветру, за день, деревья блаженно отдыхают в безветрии, опустив свои ветви. Объявшую всё село блаженную тишину нарушает только лай собаки кем-то встревоженной в отдаленном от села конце улицы. Густая темнота объявшая село была до того непроглядна и вязка, что можно было идти по дороге с закрытыми глазами, потому что они в такой темнотище почти ничего не видели перед собой. На задворках, за огородами, позади сараев, поперёк усадеб, протоптана тропа. Это ночная потайная тропинка проторённая лихими людьми. Минуя улицу, избегая людских пытливых глаз, маскируясь ночной, непроглядной теменью, по-воровски крадучись, взад и вперёд тайно, по ней пробираются люди идущие на тёмные дела. По этой тропе, в одиночку, пробираются завидущие на чужое мелкие ворошки с поклажей, только-что воровски «подобранной» у разини. По этой же заветной тропинке, влюблённые люди, со сладостным предвкушением, пробираются на долгожданное свиданье. Бывают случаи, человек идущий на воровство, в темноте, на этой тропе, внезапно лоб в лоб, сталкивается с человеком идущим ему на встречу по своим любовным делам. Состукнувшись лбами, в кромешной темноте, от испуга и страха они взаимно всхлипнут и молча разойдутся, каждый продолжая свой путь, ведь объясняться в таких случаях не резон, разглашать свою тайну нет надобности, чтобы не дать сельским бабам материала новостей для судачания на мостках озера.
Вот в такую-то, прикрытую теменью, ноченьку и пробирался к Дуньке Захаровой Николая Ершов. А шёл он не наобум, а по приглашению самой Дуньки. А дело было так. Неожиданно встретил Николай Дуньку на улице и в разговоре с ней пошёл сразу с «козыря»:
– Зх, Дуньк, ты вчера здорово промазала!
– А что? – простодушно и недоумённо поинтересовалась Дунька.
– У меня вчера дома бабы не было. Я один домовничал и ночевал, если бы ты зашла ко мне под этот случай, во бы лафа у нас с тобой была!
– Это зачем я к тебе заходить-то бы стала? – с насмешкой спросила она.
– Как зачем! Чай сама знаешь зачем мужики к бабам, а бабы к мужикам заходют, ведь не маленькая – с большими обедаешь! – задорно улыбаясь проговорил Николай.
– Чай я ещё не совсем стрижена! – без намёка на любезность сказанула она, – Да и вообще-то, ты Кольк вялый, как прозимовавший карась. От Тебя толку ждать, как от козла молока!
– Вот это для меня новость! – обиделся Николай, – Я-то карась? Да ты меня, видно, плохо знаешь! Да я могу так расшевелиться, что и не удержишь! А что касаемо бабьего опроса, так я умолку не знаю! – бойко петушился он. – Погоди, как-нибудь я до тебя доберусь! У меня не вырвешься! – ерахорился Николай перед Дунькой.
– Уж вырваться ли от такого увальня! – безжалостно унижала она его.
– Ну это еще посмотрим! – проговорил он, – а когда к тебе заглянуть-то?! – не затягивая пустыми разговорами сразу перешёл к делу Николай, – пожалуй, я к тебе сегодня же и загляну! От скуки ради, глядишь, мы с тобой в свои козыри сыграли бы, а потом бы на кровати поваландались: ты б мной, а я твоими титьками позабавились! – улыбаясь и смачно глотая одолевавшую слюну, разглагольствовался Николай.
– Но ведь, это всё задаром не даётся! За тити гони тити-мити! – задорно хохоча предупредила его Дунька. – Сам знаешь, что даром-то ничего даётся, чирей на заднице даром-то не садится! Когда угодно заходи, только с пустыми руками ко мне не забивайся, – без всякого намёка на любезность, прищуривая один глаз, шутливо улыбнулась, закончила разговор и пошла прочь.
Окрылённый таким, хотя и двусмысленным разговором с Дунькой, Николай и надумал посетить её глубоким вечером этого же дня. Как он сам же рассказывал об этом случае, собравшимся около его мужикам:
– Дорога у меня до Дуньки торная. В эту ночь я к ней забрякался не в первой. В темноте, по задворкам, добрался я тогда до дунькиного двора: торк – заперто! Едва достучался. Дверь открылась, гляжу, в проёме двери появилась фигура. Вгляделся, а хвать это не баба, а мужик. На отца её, на Ермолая напоролся. Видя, что не кон попал, я да к нему с вопросом: «Дядя Ермолай, ты не знаешь ли, чем лошадь вылечить? Опоил я её. А за неё, еще в мирное время, пятнадцать целковеньких отваленно, ведь всё же жалко». Посмотрел на меня Ермолай презрительно и отвечает: «Лошадь-то дикой рябинкой от опоя попои. А для Тебя я вон крапивы припас. Вот возьму да как тебя отхожу, будешь знать, как в такое время, на счет лошадиного лечения беспокоить людей старше себя!». Я, да бежку! Едва ноги убрал. Если он тогда настиг меня, не знаю, что и было. Для меня случай был подходящий, а воспользоваться им, по отношению к Дуньке, мне не пришлось. И это мне не в первой. В одно прекрасное время, под осень, вбрела мне в голову дурная мысль, сходить к тому же дяде Ермолаю, и спросить у него насчёт грибов в лесу (он, бают, большой знаток в этом деле). Так же вечерком, иду, а сам в мыслях другое намерение имею: если он дома, то насчёт грибов с ним разговор заведу, а если его нет, то с Дунькой шуры-муры разыграю. Хвать, вот так же, как и на этот раз, он оказался дома и поняв зачем я пожаловал в его дом, он так меня со двора наладил, что я в темноте двора нечаянно со столбом поцеловался. Ахнулся об столб, из глаз цветные искры посыпались, всю харю расквасил и шишкой на лбу разбогател! Вот могу показать, с тех пор отметина осталась, – и в заправду, на его лбу красовалась синеватая шишка величиной со сливу. – Ладно я такой догадливый, вижу дело плохо, я маханул через плетень в огороде. Там и спрятался от Ермолая, боясь погони.
– И откуда у тебя Николай, такая ерь берётся? – шутливо интересовались мужики, – вроде и на вид-то ты не больно взрачен и в движениях у тебя расторопности нет, а получается вроде, армейской команды: «бег на месте». Знаешь, когда солдат строевой обучают, команда такая есть!
– Знаю, сам служил в антелерии! – с чувством знатока, отвечал Николай. – А что касается моей ери, так я в пищу употребляю сырые яйцы, овсяную кашу ем.
– Слушай-ка Николай Сергеич, ты своим рассказом хотел нас рассмешить, так скажи в каком месте твоего рассказа прикажешь смеяться-то? – спросил Ершова присутствующий тут Яков Забродин, который сам рассмешит кого хочешь, но сам редко когда улыбался.
– Как в котором месте? – удивился Ершов, – в котором хошь месте, там и смейся. В любой части моей речи до сыта насмеяться можно, – невозмутимо, не сдавая своей позиции, пояснил Николай.
– Я бы посмеялся, да вовсе не смешно! – стараясь опорочить Ершова продолжал Яков.
– Ну так, дорогой приятель, я уж не виноват, что тебя рассмешить трудов стоит. НЕ приглашать же для этого из Москвы сюда кинокомика Игоря Ильинского! – под общий одобрительный смех мужиков закончил свой рассказ Ершов, и выпросив у кого-то закурить, задымил пахучей махоркой, причудливо выпуская дым из носа.
Рахвальский. Алёша – болтун!
Филимон Платонович Рахвальский, живя в Мотовилово, руководя промартелью, настолько освоился в селе и познакомился с людьми села, что считал своим долгом по силе возможности, и учитывая свои способности, просвещать сельские народные массы. Являясь выходцем из духовенства, (он сын дьякона), родившись в Нижнем Новгороде, он получил незаурядное образование, стал советским интеллигентом. Не женившись рано, обзаведение семьей, у него оттянулось до довольно-таки позднего времени. И вот теперь живя в Мотовилово, имея лет тридцать от роду, он всё ещё не помышлял вплотную о женитьбе. Питаясь рационально, предпочитая вегетарианскую пищу, он был здоров и телом и духом своим. Придя со службы, вечером, он участил своё пребывание вреди сельских мужиков, ведя беседы с ними на разнообразные темы. Основным уклоном в его беседах было помочь сельским жителям освободиться от бескультурья и невежества деревенского быта. Он регулярно выписывал газеты и журналы из Москвы, до поздней ночи читал, а почерпнутые знания из книг и журналов старался распространить среди сельского населения. Непринужденные беседы проходившие на заваленах и в избах, часто затягивались до полуночи, иногда заканчивались спорами. Выказывая некоторым дилетантом, Алёша Крестьянинов, в беседах и спорах, часто выводил из терпения Рахвальского, который знал о фактах не из поверхностных наслышках, а из достоверных источников периодической печати и не допускал того, чтобы кто-то мог состязаться в знаниях обширного плана.
Побывав но военных сборах, Алёша Крестьянинов, потёршись среди компетентных (в некоторых вопросах) людей он кое-чего насмотрелся, кое-чему научился, как говорят люди понавырел, научился «культурно» говорить, дело не в дело, козырять замысловатыми словечками, не зная их значения: одним словом научился болтать, корча из себя какого-то всезнайку. За это-то и невзлюбил его Рахвальский. Нет, нет да и урезонит Алёшу веским словцом, осадит его болтливый пыл.
В беседах с мужиками, Рахвальский знакомил мужиков и с вопросами общей политики капитализации и социализма. Он даже высказался перед мужиками и такой фразой: «…из-за своей простоты и наивной доброжелательности, капиталист продаст, а то и так отдаст пролетариату веревку, на которой, в последствии, этого же капиталиста и повесят!». Алёша и тут не стерпев сунулся со своим неугомонным языком, высказавшись: «Я из достоверных источников знаю, что оно так и получится. В субсидии сказанного, я добавлю, что с капитализмом произойдёт полная мерифлюстика, и постольку поскольку я разбираюсь в этой гаструляции, я должен вас сказать, если бы не мешали разного рода прерогативы, то вообще бы с капитализмом было бы покончено», – закончил Алёша. Сделав вопрошающий взгляд в сторону Алёши, Рахвальский недоумённо спросил соседа по лавке, толкнув его локтём:
– Чего это он мелет, ни к селу, ни к огороду?
– Я сам-то не знаю! – отозвался сосед. Но Рахвальский не стал поправлять Алёшу, а стал продолжать разговор с мужиками о том, что как бы не спокойно жил когда-либо народ, а о войне надо помнить, употребляя при этом фразу «Живи мирно – готовься к войне; воюя – думай о мире!» Алёша и здесь не стерпел: «На нас намахивается английский лорд Чемберлейн и хочет пойти на нас войной, но эпистолярно выражаясь, мы его не боимся и у нас в государстве создан фонд «Наш ответ Чемберлейну», так что мы его шапками закидаем! –восторженно козырнул Алёша.
– Да не Чемберлейну, а Чемберлену, – поправил его Рахвальский.
– Ну всё равно понятно, я извиняюсь, что немножко неправильно выразился, – оправдался Алёша.
– Чем извиняться, лучше не провинятся! – заметил ему Рахвальский, – и вообще, видимо ты Алёш, говоришь не от себя, а пересказываешь слышанное когда-то с чужого языка. А наверное, сам знаешь, что лучше один раз самому увидеть, чем сто раз от людей услышать. А пересказывать чужие слова ни только остроумно, но даже ослоумно! – уничтожающе подковырнул Алёшу Рахвальский и добавил: –Это замечание я сделал тебе не в упрёк, а в назидание! Потому, что чужая мысль – серебро, а своя – золото! А то, видимо, ты совсем малограмотный, кобылу через ять пишешь, а суёшься со своим грязным языком туда, куда тебя не просят! И вообще-то, видимо, у тебя Алёш, мозги не знают, что мелет твой язык, – не в шутку обрушился Рахвальский на Алёшу, под шумок разгоготавшейся мужичье-бабьей толпы, разгомонившей, когда речь коснулась тревожных слухов о войне.
– Всё оно так, но если коснётся нас, то мы этого Чемберлена ни только кулаками побьём, шапками закидаем! – не унимаясь провозгласил Алёша. И это я говорю ни столько от себя. Это я слышал на Нижегордской губернской конференции, где в президиуме я лично сидел рядом с товарищем Мураловым, с которым я лично познакомился ещё будучи на военных сборах. Он еще тогда спросил меня: «Ты Алексей, постоянно пребываешь у ас в городе иль наездом? – Нет, я здесь наездом», – ответил я ему тогда. «Так ты, грит, заходи ко мне на квартиру, в Кремль, ночевать». Вечером того дня я отыскал его квартиру, зашёл к нему, по его приглашению, ночевать. Пока его жена бегала в гастроном на Большую Покровку за выпивкой, мы с Мураловым наговорились досыта. И он мне устроил такой камуфлет, что я так накмокался, что копурнулся на диван и не помню, как до утра проспал. Утром проснулся, гляжу я одетый и видимо его жена, мне подушку под голову подсунула. Спрашиваю: – Елена Максимовна, а где Серёжа-то? – Он давно на службу ушёл. Опохмелившись и я ушёл.
И этот Алёшин рассказ, переполнив чашу терпения вконец разозлил Рахвальского.
– Тебя, Алёш, послушать так уши вянут! Разболтался и врёшь как сивый мерин – через чур и через дугу. Видать совсем свихнулся и заболтался человек! Ты, Алёш, умрёшь, а язык у тебя ещё три дня болтать будет! Не учись врать на свою голову!
Алёша же, имея наивно-уживчивый характер особенно-то не обижался на столь унизительные раскритикования его со стороны Рахвальского. Он только самонадеянно улыбался и продолжал своё, утешался своим всезнанием и по прежнему совался со своим болтливым языком в любой разговор. Видя, что время в этот обильный разговорами вечер, зашло уже в ночь, Алёша вынув из кармана свои часы и посмотрев на них произнёс:
– На моих серебреных часах время уже много! Пора и спать!
– Это что у тебя за часы? Покаж! – обратился к Алёше Михаил Федотов.
– Часы самые обныкновенные. Анкерный ход на цилиндрах, – бойко отрапортовал Алёша.
– Что, что? – переспросил его Рахвальский, – Разве так бывает? Уж что-нибудь одно: или анкерный ход, или на цилиндрах! – поправил он Алёшу. – Смотри кому в бане такое не скажи! Черти вениками запарят! Раз точно не знаешь, не говори неправду!
– Да я сам-то слышал только краешком уха! – оправдывался снова обескураженный Алёша.
– Болтать языком умеешь, а буквально мало в чём понимаешь! – продолжал урезонивать Алёшу Филимон. – Скудно мыслишь и поверхностно размышляешь! И сразу видно, что в твоих мозгах мало извилин. И вообще- то я тебя Алёш, толком не пойму. Или тебе ума девать некуда, или ума занять не у кого! Поэтому-то ты в калашный ряд с дегтём лезешь! Ты, вот тут, много наболтал, можно сказать наговорил с три короба, а вразумительного, я от тебя так и ничего и не услышал. Даже и спорить-то ты не умеешь, а спорить надо не ради широкого рта, а оспаривать надо истину и со знанием дела, которое ты отстаиваешь! А ты, видимо, ни только лжец, но и подхалим высшей марки, а подхалимство, как известно не порок, а большое свинство. И по этому, иди-ка ты лучше домой и займись своей бабой, а мне больше на глаза не появляйся! – закончил Филимон отповедь.
А Алёша потупив свой взор, упёрся глазами в стену, с любопытством рассматривая сучок похожий на затмение солнца.
– И что вы скандалите, чего делите! Ведь мы живём под одним солнышком, оно всех нас одинаково обогревает, его не разделишь, его всем хватает! Живи всяк по себе! – примирительно изрёк, слушавший до сего времени перебранку Филимона с Алёшей, Иван Федотов/
Из-за тягостных споров в Алёшей, Филимону пришлось, вскорости, квартиру у Настасьи переменить на другую, и он поселился в Шегалёве, подальше от Крестьяниновых. А в Настасьеном пристенке, вскорости, поселился её племянницы сёстры-сироты: Анисья и Дунька, жившие до этого на хуторе. Слова, речи и беседы Рахвальского оказали большое влияние на некогда слушавших его мужиков и всех присутствующих. Особенно благотворно они отразились на Ваньке Савельеве, который иногда присутствовал на назидательных беседах Рахвальского. Ваньке, особенно запали и врезались в голову крылатые пословицы и поговорки, которыми часто пользовался в беседе Филимон Платонович.
Предзимье. Санька и Наташка
– Мухи-то в избе, и то дохнут – зиму почувствовали! – придавливая пальцем вялоползущую по оконной раме, очумелую муху, проговорила бабушка Евлинья, разговаривая сама с собой. – День-то нынче был серый, ветреный и холодный, а завтра, видно, будет ещё студенее, вишь как окошки-то плачут. Да, всякая божья тварь, как холод зачует так всяк по-своему от стужи спасается. Пичужечки в тёплые края улетели, вон свиньи, зачуяв холод, себе в гнездо оханку соломы в пасти несёт, – глядя через двойное стекло оконных рам, вполголоса рассуждала сама с собой Евлинья.