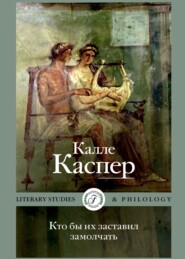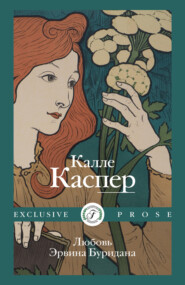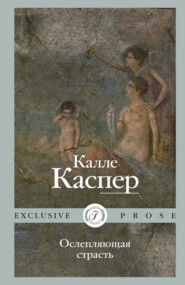По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пробуждение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Калле Каспер
Когда-то он очень боялся умереть. Но когда любимой не стало, он снова столкнулся со смертью, но уже с другой стороны – она стала его притягивать. Он не хотел жить без Рипсик, сама мысль о подобном существовании казалась ему противной – но надлежало завершить кое-какие работы, исполнить данные жене обещания. Немного помучившись, он принял решение как можно скорее все сделать, а затем умереть. Наметил день икс. Точный срок – вот лазейка, которая спасала от отчаяния. Бесконечно страдать немыслимо, до определенной точки – возможно. Осталось выбрать способ сведения счетов с жизнью…
Но любимая… Разве потерпит любящая женщина, даже если ушла она в мир иной, отчаяния своего возлюбленного!? Однажды она просто придет к безутешному мужу. Он проснется и…
Калле Каспер
Пробуждение
Часть первая
«Ласкаемый цветущими мечтами, я тихо спал,
и вдруг я пробудился…»
Михаил Лермонтов
В некий период моей жизни, лет этак в двадцать, я до безумия боялся смерти – той угрожающей силы, которая подстерегает где-то там, на далеком горизонте, и превращает тебя в ничто. Я мог часами лежать на диване, прижавшись лбом к стене, и думать – меня не будет, не будет, не будет. На обоях, в том месте, которого касались мои волосы, осталось жирное пятно – я его все еще отчетливо вижу, несмотря на несколько ремонтов. Наверно, я не один, скорее всего, через такое проходят многие мужчины, возможно, даже все, но почему-то мне кажется, что женщин это не касается. Может, я ошибаюсь, тогда прости, нежный пол. С Рипсик мы о смерти не говорили, она вообще избегала этой темы, даже тогда, когда была еще здорова – сперва написал «совсем здорова», но зачеркнул, потому что простуды не давали ей покоя ни зимой, ни летом, иногда она умудрялась заболеть даже на море, и это была, как мы, пародируя плохой стиль, выражались: «страшная трагедия», потому что Рипсик обожала плавать, а с насморком в воду лезть нельзя. Из-за другой, не смертельной, но все же противной болезни, нередко мучившей ее, она не смогла искупаться во время нашей поездки на Наксос – было начало октября, море – красивое темно-синее Эгейское море остыло, разок Рипсик, переборов себя, нырнула – и все, вытаскивай таблетки. Как Ариадна, хотя и по другой причине, сидела она печально на берегу, пока я, закаленный северянин – для аудиозаписи надо бы добавить: со строчной буквы – неумело разгребал низкие волны; я плавал плохо, только на спине.
Но я отвлекся, и понятно, почему – ибо о чем я не думаю, мысли мои возвращаются к Рипсик, к тому, как я бездарно ее потерял, по глупости, по небрежности, по излишней самоуверенности. Я все еще продолжаю винить себя, вспоминаю свои ошибки, и стараюсь их как-то, хотя бы задним числом, загладить, хотя и знаю, что это невозможно.
Итак, я боялся смерти, и, возможно, именно этот страх толкнул меня на сочинительство, я видел в этом шанс на бессмертие, хотя тогда этого не сознавал. И как-то я показал свои первые новеллы – а были они все о смерти – одному маститому писателю. Он прочел, пригласил меня в гости, посадил на кожаный диван в богато обставленной гостиной – ковры и зеркала, советские писатели, это не то что мы, нищие, из капиталистического общества, угостил коньяком – средь бела дня! – и сказал фразу, которую я накрепко запомнил:
– Ну да, в молодости мы все об этом думаем.
И я понял, что не один такой, и именно с этого момента слегка успокоился. Потом страх прошел вовсе, жизнь захватила меня, мои мысли сосредоточились на том, как несправедливо устроен мир, как здесь мало и свободы, и любви, и, можно сказать, забыл о смерти. То есть, она «присутствовала» – то умирал кто-то из родственников, то кто-то из знакомых, но меня она беспокоить перестала, я ходил на похороны, строил, как все, скорбную мину, иногда даже сочувствовал как тому, кто сей нелепый мир покинул, так и тем, которым приходилось впредь справляться без покойника (покойника похоронили), но меня лично это все как будто не касалось, не потому, что я уверовал в свое бессмертие, а просто, потому что не я лежал в гробу.
Может, я никого не любил? Может. Я легко влюблялся, и так же легко остывал – медленнее, чем озеро, но быстрее, чем море. Но я ли был в этом виноват? А вот этого я не знаю. Может, я, а, может, природа, которая меня таким сделала. Я был не в силах остановиться на компромиссе, «зажить как все», рядом с кем-то, кого я перестал любить, я не мог удовлетвориться карьерой, деньгами, всеми теми суррогатами, которыми мы заменяем главное – любовь и свободу. Если бы я родился в другом обществе, среди другого народа… Но я родился в Советском Союзе, где свобода – это свобода зверя в клетке, два метра туда, два метра обратно, да еще в Эстонии, среди холодных эстонок, которые, кстати, тоже не виноваты в том, что они холодные – их такими тоже сделала природа. Кто установил в Эстонии матриархат, опять-таки природа, или сами женщины, воспользовавшиеся слабостью мужчин, я не знаю, но то, что мы – эстонские мужики, жалкий народец, как юбку видим, так начинаем трястись, увы, факт. Кто не боится жены, боится матери. У меня был один единственный приятель, что называется, «настоящий мужчина» – крепкий, решительный, хозяин в своем доме, да и тот раскис, завел молодую любовницу, в Париж с ней съездил, а потом взял и признался во всем жене. Ну дурак! После этого стали так давить на его совесть, что он рехнулся – в прямом смысле, попал в дурдом, где его посадили на антидепрессанты; и нет больше личности, все, пропала.
В Эстонии, чтобы покончить с этой темой, все не так, как в Армении – там женщины стараются нравиться мужчинам, а у нас наоборот. И если ты НЕ стараешься женщинам понравиться, то они отодвигают тебя на обочину жизни, так как все рычаги в их руках. В молодости, когда я действовал интуитивно, я вовсю старался быть им по душе – и достигал успеха. А потом, когда я стал присматриваться к женщинам – в смысле к эстонкам, беспристрастно, я их разлюбил, этих принцесс, ждущих – нет, не принца на белом коне, а камердинера, и все у меня пошло прахом.
Когда я встретил Рипсик, я понял, что не все женщины такие, что, кроме эстонок, есть и другие, такие, для которых мужчина – опора. Я с трудом вжился в свою новую роль, но вжился, и стал защищать Рипсик так рьяно, что эстонки меня возненавидели. Но об этом я уже писал.
И вот, когда Рипсик не стало, я снова столкнулся со смертью, но уже с другой стороны – она стала меня притягивать. Я не хотел жить без Рипсик, сама мысль о подобном существовании казалась мне противной – но надлежало завершить кое-какие работы, исполнить данные ей обещания. Немного помучившись, я принял решение, быстро все сделать, а затем умереть. Составил список, вернее, даже два списка, один для сочинений, другой для прочих дел, и наметил день смерти. Он был еще относительно далеко, но, с другой стороны, и не то чтобы очень.
2
После того, как я определился с датой смерти, мне сразу стало легче. До этого меня разрывали противоречивые чувства, с одной стороны, мне хотелось немедленно умереть, с другой, как человек ответственный, я не хотел забросить то, что обещал сделать. Жил я тогда в Ферраре, страдал бессонницей, а когда засыпал, видел жуткие сны. Рипсик мне приснилась только трижды, в первый раз плачущей, в другой – беременной, а в третий – как большое цветное фото, которое немедленно расплылось. Особенно тревожил меня третий сон, мне казалось, что в нем скрыт какой-то тайный смысл, что, дескать, до этого момента она, в каком-то виде, существовала, но сейчас перестала. Все это терзало меня страшно, несколько раз я был близок к тому, чтобы выброситься из окна, оно выходило на относительно тихую улицу, по которой, однако, дважды в день проходили толпы школьников, направляющихся в близлежащую школу, и возвращающихся оттуда. Их грубые (подростки!) голоса, громкий смех раздражали меня, доводили до исступления, но выброситься я все-таки не выбросился, просто потому, что квартира находилась на втором этаже и вероятнее всего, я сломал бы ногу или позвоночник, но не убился. Теперь проблема – не школьников, а противоречивых чувств – разрешилась, срока, который я себе отвел, должно было хватить, как минимум, на обещания, может, и на сочинения, при условии, что я не буду благоденствовать на руинах своей жизни, а работать, работать и работать. И я набросился на компьютер с таким отчаянием, что он только визжал, но сопротивляться, то есть, испортиться, не смел. Я и раньше, пока Рипсик была со мной, трудился каждый день, но тогда я это делал спокойно – мы жили счастливо, и это счастье перекинулось на творчество. Да, нас недолюбливали, потому что мы всегда писали то, что думали, а думали мы иначе, чем большинство и эстонцев, и русских, и даже евреев и армян, но нас это не очень тревожило – ведь мы были хоть и одни, но вдвоем, мы всегда поддерживали друг друга и только пожимали плечами, когда кто-то в очередной раз нас не понимал; достаточно, что мы понимаем друг друга. А теперь я остался один и отчетливо почувствовал враждебность мира, в котором я не то что чужой – лишний. И зачем тогда жить? Точный срок – вот лазейка, которая спасала от отчаяния. Бесконечно страдать немыслимо, до определенной точки – возможно. Когда-то я волновался из-за каждой мелочи, переживал за судьбу Эстонии, негодовал, что мои соотечественники притесняют русских, которые им ничего плохого не сделали – если уж кого-то винить в наших несчастьях, то грузин, и то в единственном числе – а теперь это перестало меня тревожить. Притесняют, так притесняют, всегда кто-то кого-то притеснял, притесняет и будет притеснять, закон природы, нет роста без агрессии, нас ведь тоже притесняли, заставляли жить не по нашим понятиям, то насильно крестили, то сгоняли на октябрьскую демонстрацию, и что нам оставалось, подчинялись, хотя на самом деле хотели сидеть у себя на хуторе и слушать, как птички поют, мы ведь, как я писал, аграрная нация, даже Таллин, любимый город советских туристов, не мы построили, а немцы, бароны, плюс там шведы всякие, датчане, но не мы. Мы – хуторяне. Только сейчас урбанизировались, многоэтажные дома стали возводить, плохо, конечно, нет традиций, кроме деревянной архитектуры, но ныне весь мир безобразно строит, красиво не позволяют материалы, вот и мы испоганили Таллин, раньше мне это причиняло боль, а теперь я успокоился – ну что я против этого могу? От меня тут ничего не зависит. Перед смертью многие вещи перестают трогать. Лишь одно я забыть никак не мог, судьбу Европы, за нее мы с Рипсик переживали больше всего, не из-за европейцев, а, трафаретно выражаясь, творческого наследия предков. Перебьют пару миллионов, не беда, людям так и так умереть на роду написано, но если уничтожат скульптуры на площади Синьории, сровняют с землей капеллу Медичи, подожгут Уффици и Сикстинскую капеллу, разбомбят в пух и прах Венецию – это намного страшнее. Люди родятся новые, а великие произведения искусства восстановить невозможно. А если еще снесут оперные театры, предадут огню ноты – как когда-то уничтожили древние рукописи? Об этом я не переставал думать, даже будучи уверен, что сам скоро умру.
Написав «умру», я, конечно, слегка экивокствовал, ведь понятно, что так просто взять и умереть трудновато, надо к этому приложить кое-какие усилия – только вот какие? Это стало для меня вопросом вопросов, над которым я размышлял постоянно, все то время, когда не работал, не ел, не решал судоку, не читал и не слушал оперу, то есть, часик-другой в день обязательно, хотя бы перед сном. Самый щадящий вариант – газ – я отверг – хоть я и презирал своих соседей, но обрушить дом мне все-таки не хотелось. Правда, это был крепкий дом, со стеной из двойного ряда кирпичей, и, если помните, не обвалился даже тогда, когда один ряд для прокладки труб «разболгаркали» (глагол от самого популярного и самого шумного инструмента современных строителей), так что, возможно, кроме как с моей квартирой, даже при взрыве ничего не случилось бы, не говоря о том, что взрыв мог и не состояться, если соседи достаточно быстро учуют запах, но рисковать я все равно не хотел, и не только потому, что надо было хоть что-то оставить сыну, которому я доверил похоронить себя рядом с Рипсик (что представляло определенную трудность), но и потому, что так погибли бы наша библиотека, оперная коллекция, фото, картины, да и мишки. Я общался с ними, мы вместе слушали оперу – ну как я мог дать им сгореть? Основное средство во все века, снотворное, ныне продается строго по рецепту, а ходить по врачам мне не нравилось, к тому же тогда пришлось бы врать, врать и врать, а это неприятно. После Рипсик осталось какое-то количество кодеина, но достаточно ли этого? А вдруг я выживу и стану идиотом? Вешаться я точно не хотел, в этом было что-то унизительное. Так покончили с жизнью двое наших хороших знакомых, художник, чьи акварели украшали наши стены, и театральный режиссер, который как-то поставил мою пьесу. Это был лучший эстонский режиссер, и не только режиссер, но и актер, он даже Ленина сыграл так, что было интересно смотреть – наверно, из-за этой роли его и выжили из театра, не простили. Повесился он, как и жил, театрально – в парке, на дереве. Все быстро о нем забыли, ведь, по сути, его убили, а преступление надо вытеснить из памяти (сначала из театра, затем из жизни, наконец из памяти – логично) – а я помнил, насколько это был талантливый человек. Он до этого ходил лечиться к Рипсик, он был алкоголиком и с трудом выходил из запоев. Иглы ему очень понравились, он прямо воспрянул духом, но когда у тебя отбирают любимую профессию, тут уже ничего не поможет. Если бы у меня отобрали компьютер, я бы пережил, просто вытащил бы из подвала старую пишущую машинку и вернулся в прошлый век, а если бы и ее отобрали, тоже не унывал бы, достал бы ручку или карандаш, и писал бы ими, – я все равно писал черновики от руки – но вот если бы у меня отняли и ручку, и карандаш, и перо, которое я, возможно, стащил бы у первого попавшегося гуся, и, наконец, чернила, тогда бы и я покончил с собой, потому что кровью можно писать только в переносном смысле. Но что касается веревки, то, даже при том, что в смерти режиссера присутствовала не только театральность, но и некое величие, мне сия бутафория не нравилась.
Думал я и о револьвере – но его надо было еще достать. Правда, на дворе стояла уже не советская эпоха, когда из всех видов огнестрельного оружия гражданскому населению доверяли лишь охотничье ружье, из которого неудобно стреляться, хоть я и знаю случай, когда известный московский сценарист прервал подобным образом свои безнадежные боли – безнадежные в том смысле, что уже нет надежды на их прекращение, сейчас, пожалуй, можно было при большом желании купить даже противотанковую ракету, но сходить в магазин все равно пришлось бы, а там – врать, ведь спросят, для чего мне револьвер (нет, не спросят?). Вообще, оправдание у меня нашлось бы, я же жил в подвале, а решетки, если помните, с наших окон товарищество убрало, скажу: «Боюсь разбойников», – может, и поверят – но там еще какие-то справки, как мне казалось, следовало предъявить, что не состоишь на учете там-то и там-то, и тратить на это время не хотелось. К тому же, у меня совершенно отсутствуют милитаристические наклонности, с отвращением вспоминаю, как орудовал оружием (замечательный пассаж, неправда ли?) на занятиях по военной подготовке, в университете. Я попал в одну группу с двумя ярыми националистами, советскую армию они ненавидели, но университет закончить хотели, а это без военной подготовки – никак; однако если бы вы видели, с каким упоением они разбирали и собирали автомат Калашникова, для них вражеский! А мне от одного прикосновения к оружию становится мерзко на душе. Из всей военной подготовки я запомнил лишь два эпизода, но пересказывать их не буду, так как по сути своей они – постмодернистские, а это направление в литературе я люблю даже меньше, чем ружье. Хотя я понимаю, для чего сие последнее нужно, для чего вообще нужна война. Совсем не для того, чтобы убивать других! Мужчинам нужна война для того, чтобы умереть. Они не знают, что делать со своей жизнью, у них нет занятия, или оно противное, бессмысленное, как бессмысленна почти вся наша цивилизация – а поскольку покончить с собой трудно, то они и надеются, что кто-то их убьет и избавит от мучений. Но воевать я не пошел бы даже если бы было куда – не в Донбасс же? – и, единственное, на что, в смысле внешней агрессии, мог рассчитывать, это нападение на меня во время моих вечерних прогулок. Увы, жизнь в Таллине безопасна, и если кто-то и беспокоит на улице, то лишь затем, чтобы попросить прикурить – последним я начал отвечать весьма вызывающе: «Не курю и вам не советую», – но они меня все равно бить, тем более убивать не стали, наоборот, застеснявшись удалялись, что показывает, как многое в нашей жизни можно улучшить, если всегда говорить то, что ты думаешь. В советское время хватало хулиганья, но потом появились мобильные телефоны, вызвать патруль стало легче легкого, и шпана испарилась. Рипсик, боявшаяся за меня, и та очень скоро успокоилась, и если за что-то волновалась, то только за то, чтобы я не попал под колеса – мне нравилось дразнить судьбу и переходить улицу в неположенном месте. Теперь я стал еще решительнее, на зебру вступал даже тогда, когда приближающаяся машина развивала безумную скорость; но они ныне все такие законопослушные, сразу тормозят. Сам я, не в пример им, нарушал правила дорожного движения при каждом удобном случае (мне было без разницы, какой там цвет в светофоре, я что, слепой, не вижу, едет кто-нибудь или нет), чем пугал других пешеходов, добросовестно застывших на тротуаре совершенно пустой улицы.
А еще – если вернуться к револьверу – я подумал, что обычно ведь стреляют себе в голову – и этого я точно не хотел, так как голова, или, точнее, мозги – моя единственная ценность. Ну как я буду без мозгов, когда (если) мы с Рипсик после моей смерти встретимся? Без туловища – ладно, что-нибудь придумаем, чтобы обойти некоторые трудные моменты, но без головы? Тогда мы не сможем общаться. Возможно, правда, что ТАМ общение происходит как-то иначе, но мозги – мозги ведь нужны для любого общения?! Если я буду тупым и равнодушным ко всему, как мой сознавшийся в прелюбодеянии приятель, что Рипсик со мной делать? Она может тогда предпочесть кого-то другого, Микеланджело, например (эта опасность и так существовала)…
В итоге, я пришел к выводу, что решительнее, честнее и благороднее всего – перерезать себе вены. Так кончали с собой римляне, а они знали в этом деле толк. Заполняешь ванну теплой водой, ложишься, кайфуешь, и затем… Когда-то я любил принимать ванну, но из-за расширения сосудов перестал – а, раз в последний раз, какое это имеет значение? Правда, я где-то прочитал, что при потере крови бывают страшные конвульсии – но если сперва принять какое-то продающееся без рецепта легкое снотворное, или оставшийся после Рипсик кодеин, возможно, будет не так мучительно? Может я бы и остановился на этом варианте – но существовало препятствие: именно таким образом как-то попытался уйти из жизни мой отец, измученный сперва Джугашвили, а потом моей матерью. И состоялась эта попытка в том самом помещении, которым собирался пользоваться я – в нашей ванной. Правда, ванны там в то время не было, и душа тоже, были лишь раковина и унитаз, разделенные между собой перегородкой, и именно по сей причине попытка отца скорее всего и провалилась, ведь чтобы кровь не свернулась, нужно руки держать в теплой воде. Теперь этой проблемы давно не существовало, когда я поступил в университет и уехал в Тарту, мама сделала ремонт, перегородку снесли, и вместо раковины поставили ванну (унитаз все-таки оставили), так что по сравнению с отцом, у меня даже образовалось преимущество – и все же его пример меня удерживал, я видел в таком развитии событий некую предопределенность, а я всегда стоял и буду стоять за свободу волеизъявления.
При жизни Рипсик античная эпоха в нашем доме была ее прерогативой, я был занят двадцатым веком, судьба отца не давала мне покоя, мне хотелось разобраться, как все-таки некоему кутаисскому сапожнику удалось испортить жизнь такому умному, интеллигентному человеку как мой папа, которого я почти не помнил – я вытеснил его из памяти, и чувствовал по этому поводу угрызения совести. Папа через несколько лет после моего рождения сошел с ума, а я, маленький, не понимал, что он болен, и ужасно его боялся и стыдился, и даже сказал после его смерти маме – а было мне тогда уже двенадцать лет: «Ну, теперь нам обоим станет легче». Когда я повзрослел, я стал стыдиться уже не отца, а себя, мне хотелось как-то загладить свою вину – точно, как потом с Рипсик; все хорошее в жизни рождается из угрызений совести – и я решил написать о нем роман. Двадцатый век к тому времени стал историей, а чтобы написать исторический роман, надо вживаться в эпоху. Для этого следовало читать, читать и читать; вот я и занимался этим грязным делом. Я читал про Джугашвили и Шикельгрубера, а Рипсик – про Цезаря и Октавиана. Чувствуете разницу? Но теперь я тот роман завершил – а Рипсик не стало, и я начал читать все те книги, которые раньше читала она. Как с собой покончил Брут, я знал еще из Шекспира, которого перечитывал от начала до конца каждые лет шесть-семь – Рипсик, та вообще знала «Гамлета» наизусть – теперь увидел, что так же смело ушел из жизни, как я в прошлом романе отметил, даже Нерон. Но меча у меня не было. Зато я довольно скоро напоролся на: «Пет, это совсем не больно!» Кинжала у меня тоже не было, но был перочинный нож, даже два ножа, один, оставшийся от отца, и другой, который мне подарил на шестидесятилетний юбилей профессор Учтивый. После того дня рождения у меня тоже остались угрызения совести, или, как минимум, неприятные воспоминания, но это такая сложная история, что если я буду сейчас рассказывать, мы запутаемся – возможно, расскажу потом, а, возможно, и нет. Но перочинный нож был хороший, острый, и, если вспомнить, как я бедного Учтивого расчихвостил в предыдущем романе, вполне годился бы – в символическом смысле – как орудие мести, хотя бы в виде самоубийства: но куда бить? В живот, как самураи? Нет, харакири – это слишком страшно. Правда, в одном стихотворении я такой вариант разработал, но остался недоволен – и харакири, и стихотворением – и если уж «творческий сон» не состоялся, что будет с его реальным воплощением? Японцы народ мужественный, то есть дикий, ибо мужественность и дикость – почти синонимы, а я не был ни японцем, ни мужественным, только немного диким, но недостаточно для такого кровавого деяния. В грудь? Ну да, это еще более-менее. Но там же грудная клетка, «естественная кольчуга», как о ней говорит Дюма. В отличие от Рипсик, я плохо знал анатомию, и быть уверенным, что найду лазейку – ага, новое слово пошло! – не мог. Да и вообще, хватит ли у меня смелости? Я же не римлянин… Иные из них уморили себя голодом. Именно так ушла из жизни, если помните, мама Рипсик, Кармен Андраниковна, что послужило для меня еще одним доказательством того, что армяне – народ античный. Она просто перестала есть, и довольно скоро умерла. Гаяне кормила ее насильно, становилась на колени, умоляла, кричала, заставляла открывать рот и совала кусочки хлеба с маслом и медом, даже в последние дни ухитрялась заставить хоть сок выпить, только перед самым концом она и это выплевывала. Мы прилетели в Ереван за несколько дней до ее смерти, было тягостно, но возраст – а было ей восемьдесят восемь – как-то оправдывал происходящее – что не помешало Рипсик после этого снова заболеть. Я был значительно моложе Кармен Андраниковны, и в этом крылись кое-какие трудности. Римляне умирали… ну, не публично, конечно, но полностью осведомив семью. Ну не доставляет жизнь больше удовольствия, одни мучения. Римляне удовольствия любили, а в мучениях, не будучи христианами, никакого смысла не видели. Так что семья была в курсе – и даже конкретнее, чем мы, потому что Кармен Андраниковна открыто своего желания не высказала, а римляне высказывали, для них уход был сознательным актом. Семья старалась украсить последние недели умирающего, поддерживала его, в том числе, и в прямом смысле, когда ему хотелось прогуляться (как я поддерживал Кармен Андраниковну, выводя ее на прогулку вокруг дома). Друзья к нему заходили… У меня таких друзей не было, единственный, православный сталинист, вряд ли мог одобрить мою идею, не было и семьи. А гулять я любил. Выйду – один, худой-прехудой, поди еще заберут, отвезут в больницу. А там – будут кормить насильно. Еще в психушку отправят. Конечно, я мог не выходить из дому – но так ведь легко и рехнуться, в четырех стенах. Я знал, что на первом этапе голодовка вызывает самые приятные ощущения – в теле появляется неимоверная легкость, буквально летишь по тротуару – знал, потому что имел опыт, в молодости я несколько раз голодал в лечебных целях, недолго, неделю, но голодал. Мне тогда хотелось очиститься, я до этого пил и курил напропалую – и действительно, очистился, и больше сигареты в рот не брал, только какое-то время курил те, что для астматиков, не помню уже, из какого растения, а потом, нервный, долгие годы грыз спички – но после примерно двадцати курсов иглотерапии я и от этой глупой привычки отделался. Так что я вполне представлял, как процесс голодания происходит, в том числе, какое удовольствие доставляет в это время прогулка – и отказываться от нее не хотел.
Бросаться с крыши небоскреба мне тоже казалось дикостью, да и с небоскребами у нас в Таллине проблемы, построили несколько высотных домов, «наш Манхэттен», даже смотреть на них противно, не то что подняться на крышу и сигануть вниз, это лишь для тех, у кого отсутствует чувство прекрасного. Правда, я помню, что Мопассан любил выпить кофейку на Эйфелевой башне, единственно по той причине, что это единственное место в Париже, откуда не видна Эйфелева башня, но вниз даже он кидаться не стал, не пожелал облагородить башню таким поступком; вот и я.
Рассматривал еще один вариант: поехать куда-то на юг, например, на один из греческих островов, и там заплыть так далеко, чтобы не хватило сил вернуться. У такого решения был один несомненный плюс: дело в том, что Рипсик – я забыл об этом рассказать – умерла как настоящий гражданин мира, мы выписали ее из Таллина, чтобы она могла получить лечение в Барселоне, но там зарегистрировать не успели; теперь у меня появилась бы возможность повторить ее путь. Но и здесь существовало немало опасностей, хотя бы в виде спасателей, к тому же, по словам Рипсик, а она все-таки специалист, это жуткая смерть, и утопленники ужасно выглядят. Второе, меня как мужчину волновало мало, но первое… Ко всему прочему, тогда, скорее всего, мой труп не найдут, и сын не сможет опустить мой прах в воду рядом с прахом Рипсик, что для меня было непременным условием.
Так, в сомнениях и колебаниях, я продолжал жить, благо до намеченного срока оставалось еще немало времени.
3
Определившись с датой смерти, я решил заблаговременно подготовить и завещание. Никакого особенного состояния я не имел, да и вообще, можно сказать, не имел его вовсе, кроме разве что нашей подвальной квартиры, и кое-чего внутри нее: мебели, частично античной, или хотя бы антикварной, картин, книг, оперных дисков… (кому они нужны?) Украшения Рипсик я успел раздать, но самые дорогие сердцу вещички, например, редкие бусы из турмалина, которые я ей купил как-то на день рождения, или нефритовые серьги, мой первый подарок, все же остались, они должны были достаться Гаяне, как и, пышно выражаясь, «фамильное серебро», то есть, некоторое количество серебряных ножей, вилок и ложек, которые Рипсик после смерти Кармен Андраниковны притащила в Таллин – ну и зачем? Впрочем, она же не знала, что скоро умрет, но получилось именно так, и, чтобы хоть как-то оправдать ее поступок, я стал при кофепитии пользоваться этими ложками. Права на произведения Рипсик, как она сама пожелала, после моей смерти должны были переходить к Гаяне, а после нее – в «свободное плавание». Рипсик очень не нравились все эти истории, когда одни внучатые племянники начинают судиться с другими внучатыми племянниками, чтобы выяснить, кому из этой сотой воды на киселе достанутся гонорары предка, и она решила упредить такое развитие событий.
Квартиру я подумал оставить сыну. Хоть я его и не воспитывал, но это был все-таки мой сын, и в последние годы он меня несколько раз выручал, в том числе, оплатил праздничный стол моего шестидесятилетнего юбилея – вот, опять я стукнулся лбом об этот юбилей, но все равно не буду о нем рассказывать. Сын, как вы, наверно, поняли, был заметно обеспеченнее меня, две квартиры он уже имел, в одной жил, другую сдавал, но я знал, что он и против третьей ничего не имеет, был он прижимистый, что неудивительно, если учитывать, что таскал на своем горбу немалую, по нашим временам, семью – жену и даже двоих детей, жена, к тому же, что говорится, «со странностями», она сперва окончила философский факультет некоего новоиспеченного гуманитарного университета, затем полетела в Штаты продавать американским домохозяйкам энциклопедии – занятие, знакомое многим молодым людям нашего тысячелетия, вернувшись, стала играть в покер, это их и свело, сын мой был страстным покеристом и даже чемпионом Эстонии по этому, позвольте усмехнуться, виду спорта, невестка, правда, после свадьбы с картами вроде распростилась, родила первого ребенка, потом второго, но от странностей не отделалась, уже за тридцать, она поступила в медицинскую школу, окончила ее и стала работать медсестрой, что весьма осложняло жизнь моему сыну, так как у него был весьма ограниченный выбор – или нанять на часы дежурства жены няню для детей, что обошлось бы дороже зарплаты медсестры, или нянчить их самому, что он и делал, был он добрым семьянином, и, к тому же, возможно, ощущал бессмысленность своей трудовой деятельности – а трудился мой сын по части воздуха, но не как летчик, а как продавец. Чего? Так его же, воздуха. Он налаживал отношения между бизнесменами, между бизнесменами и прессой, между бизнесменами и налогоплательщиками, между… Ну, понятно, надеюсь – как понятно и то, что с такой профессией можно неплохо зарабатывать, но получать творческое удовлетворение, хотя бы близкое тому, что в свое время доставалось кузнецу или сапожнику, вряд ли… Вот он и играл в покер и нянчил детей.
Антиквариат – комод и два кресла, о судьбе которых я рассказал в романе об отце, я тоже собирался оставить сыну, это была фамильная реликвия из тех, что должны переходить из поколения в поколение по мужской линии, зато акварели моего приятеля-виртуоза, покончившего с собой лет пятнадцать назад – дочери, программистке, докторессе математических наук, отправившейся куда-то в Европу и зарабатывавшей там больше, чем наш премьер-министр; они ей всегда нравились. «Древо жизни», или Маконде, служившее нам с Рипсик гарантией супружеского счастья, я также завещал дочери, у нее недавно появился друг, так что в самый раз.
Дальше я вспомнил рассказы про американских миллионеров, которые ради доброй памяти отваливают по сто долларов всем своим кухаркам и шоферам, а иногда и просто знакомым, хотя мне и трудно представить себе грабителя, способного оставить о себе добрую память, что бы он для этого не предпринимал. У меня ни кухарки, ни шофера не было, что оказалось очень кстати, потому что требовалось хоть как-то обеспечить старость Гаяне; в Армении пенсии еще меньше, чем у нас, а у нас – мизерные. Конечно, того, что лежало на моем счету, так сказать, НЗ, для этого было явно недостаточно, поэтому я обязал сына при продаже или сдаче квартиры добавить Гаяне некоторую, по моим меркам, внушительную сумму; миллионер бы расхохотался. Кроме акварелей приятеля-гомосексуалиста, на наших стенах висело еще немало картин, в основном, приобретенных на ереванском вернисаже, их я разделил между нашими друзьями. Учтивым досталось изображение озера Севан кисти весьма известного армянского художника, подаренное Рипсик кем-то из ее пациентов во времена, когда она еще слыла в Ереване светилом иглотерапии – в Эстонии, если вы помните, предпочитали тех врачей, кто больше внимания, чем специальности, уделяют изучению государственного, громоздкого, как все государственное, языка. Два графических листа эстонских художниц, мои подарки Рипсик на ее дни рождения, я оставил двум матерям своих детей, а православному сталинисту выделил туманный пейзаж, написанный нашей общей любовницей. Больше всего, полагаю, повезло Ивановой, ей досталась изумительная вазочка из муранского стекла, как-то подаренная мною Рипсик на день рождения во время нашего пребывания в Венеции.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: