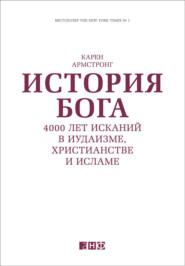По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Утраченные смыслы сакральных текстов. Библия, Коран, Веды, Пураны, Талмуд, Каббала
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Независимо от того, соответствует ли история о «потерянной книге» фактической истине, ясно, что она вдохновлена ужасом перед исчезновением. Древнее благочестие покинуло израильтян, а иудеям к концу VII в. до н. э., в изменившихся условиях, оно уже не помогало. Писание, как мы уже видели, рассказывает, о чем мы должны помнить – но говорит и о том, что нам следует забыть. «Чистка» святых мест севера была именно такой попыткой забыть, истребить и насильно стереть из памяти когда-то дорогие святыни, которые подвели и оказались бесполезными, загнать в прошлое одни традиции, чтобы выдвинуть на передний план другие – те, что, казалось, смогут лучше послужить Иудее в нынешние гибельные времена[128 - Jan Assmann, ‘What is “Cultural Memory”?’, in Assmann, Religion and Cultural Memory, 3.]. Окончательная версия Книги Второзакония, составленная реформаторами, стала призывом к действию. Прежде всего она объявила вне закона все хананейские символы, такие как священные шесты (ашера) или «стоячие камни» (массебот), до того вполне приемлемые и занимавшие важное место в Соломоновом храме[129 - Bernard M. Levinson, Deuteronomy and the Hermeneutics of Legal Innovation (Oxford, 1997), 148–149.]. Ради чистоты богопочитания оно было строго централизовано: жертвоприношения теперь совершались только в одном святилище – в месте, где «Яхве надписал имя свое»[130 - Втор 11:21; 12:5.]. Этим местом стал Иерусалимский Храм, последняя выжившая святыня. Наконец был совершен решительный разрыв с ближневосточными традициями: царь перестал быть сакральной фигурой с божественными прерогативами – теперь он, как и все его подданные, был подвластен закону, и задача его состояла только в том, чтобы изучать и тщательно исполнять тору[131 - Втор 17:18–20.].
У реформы были влиятельные приверженцы, в том числе пророк Иеремия, однако дальнейшие события доказали ее неудачу. И все же писания Второзакония заняли в Еврейской Библии важное место и оказали огромное влияние на будущие поколения. Эти писания не просто предписывали «единобожие». Первая из Десяти заповедей – «Да не будет у тебя чуждых богов перед лицом моим» – явно указывала на Манассию, введшего «чуждых богов» в храм, в присутствие (шхина) Яхве; однако эта заповедь не отрицала самого существования иных богов. Тридцать лет спустя израильтяне все еще поклонялись месопотамской богине Иштар, и храм Яхве оставался полон чужеземных идолов[132 - Иер 44:15–19; Иез 8.].
Это иконоборческое богословие было настолько новым, что ради соответствия ему авторам Второзакония пришлось переписать историю Израиля и Иудеи, слив предания двух царств в единое повествование, затем составившее Книги Иисуса Навина, Судей, Царств и Паралипоменон. Эта история «доказывала», что Северное царство привело к гибели идолопоклонство. Второзаконники описывали, как Иисус Навин истреблял хананеян – жителей Земли Обетованной и разрушал их города, подобно ассирийскому полководцу. При угрозе от внешнего противника люди часто бросаются на борьбу с врагами внутренними: реформаторы пришли к убеждению, что все хананейские культы «мерзость», и объявили беспощадную охоту на всех израильтян, которые в них участвовали[133 - Втор 7:22–26.].
В эти смутные и бурные времена безмятежные книги Премудрости выглядели безнадежно устаревшими, так что второзаконники создали новую образовательную программу[134 - Carr, Tablet of the Heart, 134–146.]. Теперь молодежь должна была изучать северные предания об Исходе и Моисееву тору — и образование отныне становилось обязательным не только для богатых и знатных, но и для всех израильских мужчин[135 - Втор 4:4–9, 44.]. Цель по-прежнему состояла в том, чтобы записать «учение» (тору) на скрижалях сердец учеников, постоянным чтением вслух и повторением внушить им «хесед» – «любовь» или, точнее, «верность завету», о которой говорил Осия[136 - Niditch, 100.]:
Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем; и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая; и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих[137 - Втор 6:4–9.].
Во времена политической неопределенности Второзаконие требовало от жителей Иудеи стать «израильтянами»: они должны были «забыть» восхваление аграрного империализма и культ Премудрости Соломоновой и вместо этого «помнить» времена, когда были изгнанниками без государства, которых Яхве вывел «из Египта». Они должны были изучать тору день и ночь[138 - Нав 1:8.], полагаясь лишь на слова писания, без всякой ритуальной поддержки «резных изображений»[139 - Jan Assmann, ‘What is “Cultural Memory”?’, in Assmann, Religion and Cultural Memory, 19–20.].
В книге Второзакония перед самым входом в Землю Обетованную Моисей обращается к своему народу с последней речью. Он умоляет их не забывать о временах, когда они бесприютными скитальцами бродили по диким, безлюдным землям. Яхве держал их в пустыне сорок лет, «чтобы смирить вас… заставить понять, что не одним хлебом живет человек»[140 - Втор 8:3.]. Не следует соблазняться молоком и медом хананейской цивилизации; нужно держаться в стороне от безопасной, упорядоченной жизни земледельцев, ибо не для нее они предназначены:
Когда же введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства[141 - Втор 6:10–12.].
Для угнетенного, маргинализованного народа память о годах, проведенных в пустыне, должна была стать формой сопротивления[142 - Assmann, Cultural Memory, 191–193.]. За пугающей непримиримостью Второзакония просвечивают страшные воспоминания об уничтожении царства Израиль, о массовых убийствах и жестокой депортации.
Борьба Иосии за национальную независимость подошла к трагическому концу в 609 г. до н. э., когда царь был убит в военном столкновении с фараоном Нехо. К этому времени за контроль над этим регионом боролась с Египтом новая Вавилонская империя, заменившая Ассирию. Несколько лет Иудея выживала, лавируя между двумя державами, хотя Иеремия предупреждал о тщетности и опасности такой политики. Яхве приказал Иеремии подготовить письменный текст всех своих прорицаний, чтобы будущие поколения помнили: снова и снова он настаивал, что Израиль должен покориться Вавилону[143 - Иер 36:29.]. Иеремия диктовал свои слова писцу Варуху. Царь Иоаким, сын Иосии, приказал предать это писание огню. Иеремия надиктовал еще одну копию, а сожженный свиток стал пророческим знамением судьбы Иерусалима[144 - Niditch, 104–105.]. В 597 г. до н. э. Навуходоносор II, царь Вавилонский, покарал восстание в Иудее, депортировав восемь тысяч иудейских аристократов, военных и искусных ремесленников. В 586 г. до н. э., после еще одного тщетного мятежа, Навуходоносор сравнял с землей Соломонов храм. Но некоторые изгнанники последовали примеру авторов Второзакония – использовали воспоминания, чтобы сопротивляться уничтожению своего народа. В изгнании они нашли замену ритуалам утраченного храма в новом писании, преобразившем разрозненные устные предания их народа в единое Пятикнижие, первые пять книг Еврейской Библии. Однако теперь, в годы национального бедствия, послужившего революционному преображению писания, оставим Израиль и обратимся к Индии.
2. Индия: звук и молчание
Около 1500 г. до н. э. небольшие группы скотоводов, покинув степи Причерноморья, двинулись на юг через Афганистан и наконец обосновались в Пенджабе на территории современного Пакистана. Эта миграция не была ни массовым движением, ни военным вторжением – скорее, постепенным, на протяжении столетий, проникновением небольших арийских племен на юг[145 - Edwin Bryant, The Quest for the Origins of Vedic Culture: The Indo-Aryan Debate (Oxford, 2001); S. C. Kak, ‘On the Chronology of Ancient India’, Indian Journal of History and Science, 22, 3 (1987); Colin Renfrew, Archaeology and Language: The Puzzle of Indo-European Origins (London, 1987).]. Другие арии к этому времени уже отправились на запад, в Европу – в Грецию, Италию, Германию и Скандинавию – и принесли с собой свой язык и мифологию. Арии не были четко определенной этнической группой – скорее, свободным союзом племен, разделяющих общую культуру и язык, в наше время названный «индоевропейским», поскольку он дал начало нескольким европейским и азиатским языкам. Арийские поселенцы в Пенджабе уже говорили на ранней форме санскрита, священного языка, на котором написано одно из древнейших мировых писаний.
Приблизительно триста лет спустя жреческая элита ариев начала создавать массивную антологию гимнов на санскрите, позднее названную Ригведой («Знание в стихах») и ставшую самым прославленным и уважаемым текстом в огромном корпусе Вед («Знаний») – индийских священных писаний. Древнейшие из этих гимнов были открыты в далеком прошлом семи великим риши («провидцам») и с тех пор с непогрешимой точностью передавались из поколения в поколение их потомками. В семи жреческих семьях каждое поколение заучивало наизусть гимны, созданные боговдохновенным предком, а затем устно передавало их детям[146 - Holdrege, 229–230.]. И в наше время, когда древний санскрит уже практически непонятен, брамины повторяют эти гимны, не ошибаясь ни в одном ударении, ни в одном повышении или понижении тона, сопровождая каждое слово ритуально предписанными жестами рук и пальцев[147 - Klostermaier, Survey of Hinduism, 68.]. Звук для ариев всегда имел священное значение – намного более важное, чем смысл этих гимнов – так что, запоминая их и читая наизусть, жрецы ощущали себя в присутствии божества.
Мысль, что звучание священного текста может быть важнее заключенных в нем истин, немедленно бросает вызов современным представлениям о «писании» – которые, как нетрудно догадаться, подразумевают именно письменный текст. Но в Индии письмо долго оставалось неизвестным, а когда появилось – около 700 г. до н. э., – было воспринято как некая грязь и порча. Один поздний ведический текст устанавливает правило: «Ученик не должен читать Веды после того, как вкушал мясо, смотрел на кровь, совокуплялся с женщиной или занимался письмом»[148 - «Аитерейя Араньяка» 5.5.3, в пер. J. G. Staal, ‘The Concept of Scripture in Indian Tradition’, in Juergensmeyer and Barrier, eds., 122–123; Coburn, 104.]. Подобно «идолам» в Израиле времен Иосии, письменность воспринималась как нечто унизительное и опасное для божества. Поэтому даже после явления письменности ведические гимны по-прежнему заучивались наизусть и передавались из уст в уста. В XVIII–XIX веках, когда в Индию прибыли европейцы, их поразило, что Веды, несомненно, существуют, но на письме их просто нет. На все вопросы жрецы-брамины твердо отвечали: «Веды относятся к религии; в книгах им не место»[149 - Wilfred Cantwell Smith, What Is Scripture?, 139.].
В наше время мы на Западе склонны воспринимать писание как Последнее Слово, канон, запечатанный на все времена, священный, неизменный и ненарушимый. Но, как мы уже видели, в мире до Нового времени писание постоянно изменялось. Древние чтили свои писания, но не превращали их в окаменелости: писания должны были отвечать на постоянно меняющиеся обстоятельства – и в процессе часто радикально преображались. Это, несомненно, верно и для Ригведы. Древнейшие собрания, известные как «Семейные книги», мы находим со Второй по Седьмую книгу ныне существующей Ригведы; книги Восьмая и Девятая составлены поэтами-жрецами другого поколения, однако имеют тот же статус, что и гимны изначальных семи риши; наконец, гимны Первой и Десятой книг, составленные жрецами с явственно иным мировоззрением, были включены в Ригведу еще позже[150 - Carpenter, 20.]. Американский ученый Брайан К. Смит описывает Ригведу как «канон особого рода… постоянно пересматриваемый и вечно неизменный»[151 - Brian K. Smith, 20–26.].
На современный взгляд, арии были не слишком похожи на создателей священного писания; жизнь их с нашей точки зрения можно назвать какой угодно, но не благочестивой. Жили они похищением скота у соседних племен и разграблением селений коренных жителей, которых презрительно именовали дасас («варвары»). Ничего дурного они в этом не видели: на их взгляд, только такой образ жизни приличествовал арья — благородному человеку. Такой взгляд на вещи они разделяли с аристократами земледельческих цивилизаций, присваивавшими себе плоды труда крестьян[152 - Kautsky, Aristocratic Empires.]. Только сражаясь, грабя и уничтожая, арии чувствовали, что по-настоящему живут. Миролюбивых йогов среди них не было: это были грубые пастухи-разбойники, бродяги и пьяницы, неудержимо рвущиеся на восток в поисках новых пастбищ и скота[153 - Doniger, The Hindus, 114.].
Такой этос прославляет Ригведа. Герой ее древнейших гимнов – Индра, бог войны и заклятый враг чудовищного дракона Вритры, символизирующего все, что мешало арийской миграции: имя его происходит от «ВР», индоевропейского корня, имеющего значение «преграждать, заключать, окружать». Арии представляли Вритру огромным змеем, который в начале времен так туго обвился вокруг космической горы, что преградил течение животворных источников, и земля превратилась в пустыню. Тогда Индра поразил змея своей сверкающей молнией, затем отрубил ему голову, и мир вновь стал пригоден для жизни. Этот воинственный миф прямо указывает на предназначение ариев. Они тоже чувствовали, что должны прорубать себе путь через кольцо врагов, стремящихся запереть их в одном месте, не дать двигаться вперед, лишить скота, лошадей и пищи, необходимых для выживания. В каждом писании есть центральная тема или мотив, отражающая представления о предназначении человека. Далее мы увидим, что жажда освобождения (мокша) стала центральной темой индийской мысли: Вритра был уже практически забыт, а жители Индии страстно желали вырваться из капкана краткой и тленной жизни. Противоположность мокша – амхас («плен»), индоевропейское слово, родственное английскому anxiety и немецкому Angst, словам, означающим стеснение, тоску, тревогу, глубокое и тягостное ощущение несвободы. Следующие поколения развивали медитативные и этические техники, позволяющие вырваться из тенет жизни; древние арии прорубали себе путь на волю мечом.
Риши принимали в набегах и грабежах самое активное участие: неверно думать, что они благочестиво отсиживались в сторонке[154 - Whitaker, 24–28.]. В своих гимнах эти поэты-жрецы описывали, как врываются в битву вместе с Индрой[155 - Ригведа (РВ) 4.22.9; 8.100.1.], и уверяли, что именно их ритуальное пение придало Индре сил, чтобы разбить стены горной пещеры, где еще один демон, Вала, заточил солнце и скот, лишив землю света, тепла и пищи[156 - РВ 4.1.15.]. В других гимнах рассказывается, как Маруты, спутники Индры, укрепляют его силы в битве пением гимнов[157 - РВ 1.166.7; 6.66.10.]; эти звуки не только поддерживают Индру, но и уничтожают все препятствия на его пути[158 - РВ 9.111.3; 8.66.9; 2.25.24.]. Как видим, эти стихи оказывались важнейшими элементами военного дела, скотоводческой экономики, условиями благополучия воинов и выживания народа ариев. Более поздние индийские писания развивают учение об ахимсе (ненасилии), однако пока что вдохновенные слова риши, произнесенные с правильными интонациями, несут врагам ариев неминуемую гибель.
Если бы кто-нибудь спросил ариев, происходили ли эти яростные космические битвы на самом деле, или есть ли у них доказательства существования Индры или Вритры – они не сразу поняли бы, о чем их спрашивают. Индра, Вритра и Вала принадлежат к реальности мифа – языка писания, – который обращается к первобытным временам и открывает в них постоянное, важнейшее для человеческой жизни. Для воинственных ариев Вритра и Вала не были ни фантастическими, ни историческими фигурами; они воплощали в себе постоянную реальность – смертельную, безжалостную борьбу, лежащую в основе бытия. Вритру и Валу они видели в дасас, окружающих их становища. Знали, что животные постоянно охотятся друг на друга в беспрерывной борьбе за выживание. Страшные бури, землетрясения и засухи угрожают всему живому. Каждый вечер силы тьмы пленяют солнце – и каждое утро оно, не иначе как чудом, вновь поднимается на небеса.
Опасность постоянно угрожала и общине[159 - Renou, Religions of Ancient India, 65–66.]. Даже имена более мирных арийских богов – Митра («союз», «сплоченность»), Варуна («покрывать», «связывать») – не только сакрализовали верность, связывающую племена вместе, но и предполагали существование вездесущего врага[160 - Там же, 19.]. Сами постоянно под угрозой, арии проецировали свое неустойчивое положение на всю вселенную, где, как они верили, их боги, дэвы, ведут постоянную войну с асурами — старшими, первозданными божествами, обратившимися в демонов. В некоторых гимнах описаны злые силы, рыщущие вокруг становищ по ночам[161 - РВ 10.4.3–5.]. Другие посвящены постоянному присутствию в жизни голода и болезней[162 - РВ 3.7.2; 8.18.10; 8.91.5–6.]. По мере развития ведической мысли начинало казаться, что конечное преображение невозможно без предшествующей угрозы и разрушения – для того, чтобы Варуна принес мир и порядок, вначале должен победить Вритра[163 - Mahony, 11–13.]. Ведическая мифология рассказывала о первозданном единстве, раздробленном на множество частей; о том, как вселенная возникла из расчлененного тела бога; о том, как божественное Слово пало с небес и разбилось на множество слогов, которые теперь риши снова пытаются сложить вместе[164 - РВ 10.90; 1.164.41.].
Человек, в отличие от всех остальных животных, не может принимать мир как должное. Смысл своей жизни арии искали в мифе, однако, желая улучшить свою жизнь, полагались на практический логос. Чтобы племя процветало, приходилось тщательно планировать набеги, обучаться воинскому делу и умело вести скотоводческое хозяйство. Но, как и все воины, арии говорили себе, что их военные операции призваны вернуть мир на правильный путь. Арийская мифология не конфликтовала с деятельностью, направляемой логосом – скорее, охватывала ее, подкрепляла и вдохновляла. Перед набегом жрецы пели гимн, прославляющий победы Индры, а воины, запрягая коней в боевые колесницы, выпивали – как и сам Индра перед битвой – по глотку галлюциногенного напитка сомы. Торжественные песнопения Ригведы придавали образу жизни, который иначе мог бы показаться жестоким, бессмысленным и ужасным, значение и достоинство.
И это окупалось. К Х в. до н. э. арии, серьезно продвинувшись на восток, осели в Доабе между реками Ямуной и Гангом – в регионе, получившем название Арьяварта («Страна ариев»). Каждый год, с наступлением сезона дождей, военные отряды отправлялись в поход, чтобы продвинуться еще чуть дальше на восток, подчинить себе местных жителей и основать новые поселения. Чтобы освятить это постепенное продвижение, создавались новые ритуалы[165 - Heesterman, ‘Ritual, Revelation and the Axial Age’, 403.]. Теперь героем ариев стал еще один дэва — Агни, бог огня, поскольку первопроходцам приходилось расчищать место для лагерей, поджигая непроходимые джунгли. Дэвы для ариев не были «иными» существами; они воспринимались скорее как некое сакральное измерение самого человека. Агни не только символизировал способность поселенца подчинить себе новые земли, но и являлся его альтер-эго, его лучшим, сокровеннейшим «я» («атманом»), также священным и божественным[166 - Heesterman, Broken World, 126.].
Не следует смешивать дэва с нашим современным западным представлением о «Боге». Слово дэва означает «сияющий» или «возвышенный» – эпитеты, которые можно применить к чему угодно: к гимну, чувству, реке, буре или горе – ко всему, в чем арии прозревали отсвет трансцендентного[167 - Klostermaier, Survey of Hinduism, 130.]. Божественное не было заперто в собственной метафизической сфере: оно пронизывало всю реальность, так что дэвы воплощали в себе и силы природы, и те человеческие страсти, например, любовь или экстаз битвы, что, кажется, на мгновение переносят нас из обыденности в какое-то более насыщенное бытие. Современная западная наука отделила материальное от психологического и духовного; но для Вед, вдохновленных холистическим правополушарным видением, не было ничего чисто материального – все было напоено трансцендентным потенциалом[168 - Griffiths, 58–59.].
Итак, Агни отождествлялся со священным огнем, составлявшим сердцевину арийского культа жертвоприношений: говорили, что солнце, огонь, поддерживающий жизнь, снизошло в наш мир и скрылось под толщей земли. Но, когда мы ударяем друг о друга камни или трем деревянные палочки, Агни выходит из укрытия, вспыхивает и переносит дары, бросаемые в жертвенный огонь, прямиком на небеса. Кроме того, Агни – это «огонь» сознания, исходящий из таинственных глубин нашего бытия и явленный в мышлении. Опьяняющее растение сома – тоже дэва, ибо она наделяет воина отвагой; а кроме того, это источник откровения, ибо она обостряет интуицию риши и на несколько мгновений возносит его до божества[169 - Elizarenkova, 19.]. Один из риши так описывал это чувство беспредельной широты и свободы от тягот повседневного существования:
Мы выпили сомы; мы стали бессмертны; мы взошли к свету; мы нашли богов. Ненависть и злокозненность смертных что сделают нам ныне, о бессмертный?..
Ушли слабость и болезни; в ужасе бежали силы тьмы. Сома восходит в нас и распространяется. Мы нашли место, в котором сможем жить вечно[170 - РВ 8.48.3, 11; пер. Doniger.].
Дэва звалось все, что расширяло сознание ариев и приближало их к священному, все, что помогало ощутить себя в мире как дома. В Ригведе и Агни, и Сома именуются «сострадательными друзьями» ариев. Митра, властитель дня, пробуждал ария на рассвете; имя его также означает «друг»[171 - РВ 3.59.1.]. Один риши представлял себе, как Митра и Варуна, повелитель ночи, сидят на площадке для жертвоприношений бок о бок с ариями, как их друзья и товарищи[172 - РВ 8.48.9; 3.5.3; 1.26.2–4; пер. Doniger.].
У ариев не было ни организованного пантеона, ни высшего божества, «Верховного Бога», поскольку все эти дэвы являлись частью некоей предельной, безличной, всеобъемлющей силы. «Ее называют Индрой, Митрой, Варуной, Агни, – объяснял один риши. – А мудрец по-разному говорит о том, что Едино»[173 - РВ 1.164.46; пер. Doniger.]. Каждый дэва восхваляется как создатель и хранитель вселенной, ибо каждый из них – лишь стекло, сквозь которое можно увидеть отблески реальности, одна из возможных точек зрения на Абсолютное. Но реальность – не какое-то высшее, всемогущее, самодовлеющее «существо»; она вообще не «существует» в смысле, знакомом нам по существованию здешних хрупких, смертных вещей. Скорее, эта всеобъемлющая и предельно таинственная реальность и есть Бытие как таковое.
Взирая на сложное устройство вселенной, арии поражались и восхищались ее соразмерностью и целенаправленностью. Ежеутренний восход солнца казался им каждодневным чудом: как солнце, луна и звезды не падают с небес? Реки постоянно впадают в океан: почему же океан не выходит из берегов и не поглощает землю? Как с такой регулярностью сменяют друг друга времена года? На эти вопросы отвечает современная наука: но арии искали ответов не в логосе, а в священном мифе. Созерцая жизнь вселенной, они догадывались, что какая-то сила свела воедино все эти потенциально враждебные друг другу стихии. Сила эта не была ни дэва, ни современным Богом-Творцом. Скорее, это была некая трансцендентная и безличная сила, которую арии именовали рта — ритм вселенной. Они замечали, что космические стихии, кажется, всегда возвращаются к своему источнику – и пытались подражать этому в своем культе, где Агни возносил жертвоприношения назад, на небеса. Любое действие, направленное на разделение, присвоение, попытку придать чему-то самоценность, было «ложью» – изменой рта. Так поступали Вритра и Вала, когда пленяли и запирали бескрайнюю красоту природного мира, раскалывали целостную вселенную – и создавали мир тьмы, бесплодия и смерти[174 - РВ 1.11.9; 5.41.17; 6.74.2; Mahony, 102–104.].
Хоть риши и не уставали подчеркивать, что предельная реальность невыразима словами, иногда им все же удавалось «увидеть» ее в словесной форме. В одном из поздних гимнов Ригведы Речь (Вак) описывает себя как трансцендентную реальность, заключающую в себе и дэвов, и все земное:
Я иду с Рудрами, с Васами, с Адитьями и всеми богами. Я несу Митру и Варуну, Индру и Агни, и обоих Ашвинов…
Я породила отца во главе этого мира. Чрево Мое – в водах океана, оттуда распространяются все мои создания. Венец на главе Моей касается небес.
Я Та, что дует, подобно ветру, охватывающему все создания. Выше неба и ниже земли простирается Мое величие[175 - РВ 10.125.1, 7–8; пер. Doniger. Ашвины – божественные близнецы, священные хранители плодородия.].
И Еврейская Библия, и Новый Завет называют творящей силой «Слово» Божье: «Через Него все начало быть»[176 - Ин 1:1–2.]. Эта почти повсеместная метафора Слова выражает истину о положении человека. Мы создаем свой мир посредством речи. Ребенок окунается в стихию языка и создает «космос» – упорядоченный мир – играя со словами; чем лучше он владеет речью, тем лучше понимает окружающую среду[177 - Sloek, 63–67.]. Язык придает значение нашей реальности – но спотыкается, пытаясь выразить то, что лежит за ее пределами.
Арии рассказывали, что Веда звучала целую вечность, но риши первыми сумели ее услышать[178 - Wilfred Cantwell Smith, What Is Scripture?, 234.]. С помощью сомы и, возможно, древнейшей йоги они ощутили таинственную силу, связывающую космос воедино. Сообщений о том, как это происходило, они не оставили – но, вполне возможно, культивировали этот процесс сознательно. Слово «мистицизм» происходит от греческого мюо — «закрывать». Созерцатели позднейших времен объясняли, что «закрывают» или «выключают» аналитическую, рассудочную деятельность, характерную, как мы теперь знаем, для левого мозгового полушария. Фламандский мистик Иоганн Рюйсбрук (1293–1381) так описывал эту практику в христианской терминологии:
Откровение Отца возносит душу над разумом, к безо?бразной наготе. Там душа проста, чиста и непорочна, пуста от всего; и в этом состоянии абсолютной пустоты Отец изливает на нее свое божественное сияние. Это сияние недоступно ни разуму, ни чувствам, ни замечанию, ни различению: все это должно остаться внизу[179 - Johannes Ruysbroek, De Spiegel dar Ensige Sulichpichest, цит. по Duprе, 454 (курсив автора).].
«Опустошив» таким образом сознание, мы открываем путь холистическому правополушарному восприятию. Рюйсбрук полагает, что правополушарную активность вызывает то, что он называет «Отцом»; индийские мистики считали, что инициатива здесь исходит от человека. Контроль дыхания – важнейший, как мы увидим далее, элемент йоги – также был разработан именно для того, чтобы научиться «уходить в свой внутренний мир»[180 - Johnston, 33, 55–57.]. В гимнах Ригведы отражено правополушарное восприятие мира как целого, разрозненные части которого скреплены тысячами таинственных связей. С самых древних времен истины, сообщаемые писанием, отличались от фактического знания, которое мы черпаем из обычной, левополушарной работы мозга, лишь очень приблизительно отражающей намного более сложную реальность.
Гимны Ригведы рассказывают, что риши слышали «Вак», священное звучание, не связанное с человеческой речью, так же, как «видели» его – путем дхи («внутреннего зрения», «прозрения»). Они говорят о «внутреннем оке», который каким-то образом «визуализирует» «знание» (веда), лежащее за пределами обыденного языка и имеющее мало отношения к нашим обычным методам усвоения и обработки информации[181 - РВ 6.9.6; пер. Doniger.]. Что же «видели» риши? По-видимому, мимолетные отблески рта, воплощенные в блистательных образах дэвов, скачущих на своих колесницах или восседающих на золотых небесных престолах. Тщетно пытались они выразить эти «видения», приходившие к ним в виде отдельных статичных картин, на грубом и неточном человеческом языке: «Поистине, видели мы силою видения [дхи] нашего нечто золотое на престолах – умом нашим, чрез очи наши, очами нашими благодаря соме»[182 - РВ 1.139.2; пер. Gonda, Vision, 69; ср. 1.18.5; 1.139.2; 1.22.]. «Нечто золотое» – здесь невозможно подобрать сравнения ни с каким обыденным предметом. Нет и попыток описать действия дэвов в ясном, последовательном повествовании. Нет: Слово врывается в разум риши как быстро сменяющие друг друга «мгновенные снимки», в которых нет ни временной, ни логической последовательности. То, что он видит, превосходит само время и может с равной вероятностью относиться к прошлому, настоящему, будущему – или ко всему вместе[183 - Elizarenkova, 16–17.]. Так что гимны Ригведы представляют собой цепь мгновенных прозрений, порой облаченных в форму загадок и парадоксов, не имеющих ясного и однозначного смысла или «морали»[184 - Gonda, ‘The Indian Mantra’.]. Жители Индии и сейчас верят, что истинное знание нельзя постичь одним лишь разумом, ибо божественное превосходит и интеллект, и догматы, и опыт.
Однако это откровение не было «личным делом»: оно посылалось риши ради блага общины. В Индии говорят, что визионер всегда должен «возвращаться на рынок». Это означает, что ему следует вернуться к «нормальности» и передать посетившие его мистические озарения другим – в такой форме, которую смогут понять и обычные люди. Так риши, «провидцу» неминуемо приходится стать и кави – «поэтом». Ему необходимо каким-то образом отыскать «словесную формулу» (брахман), выражающую несказанное на повседневном человеческом языке. Иногда он просит о помощи в этом кого-то из дэвов[185 - Michael Witzel, ‘Vedas and Upanisads’, in Flood, ed., Blackwell, Companion to Hinduism, 69, 71; Holdrege, 278; Gonda, Vision, 39, 42–50.]. Слово «брахман» происходит от корня, означающего «распухать» или «расти». Должно быть, поэты ощущали, как нечто могущественное поднимается в них и распирает изнутри. По их собственным словам, они слагали гимны так же, как портной кроит «прекрасное, хорошо сшитое одеяние… как умелый ремесленник мастерит колесницу»[186 - РВ 5.29.15; пер. Griffith.], прилаживая одну к другой уже существующие части и создавая из них нечто новое[187 - Mahony, 216–218.].
Риши был в состоянии передать свое неописуемое видение лишь потому, что каким-то образом воплотил его в себе[188 - Elizarenkova, 15–16.]: его называли випра, поскольку он «дрожал» или «вибрировал» от ритмов рта[189 - Gonda, Vision, 27–34, 56–57.]. Его трансцендентное видение было не просто встречей с иной формой существования: он и сам в каком-то смысле становился божеством. Весь смысл стремления к трансцендентному был в том, чтобы достичь этого личного преображения. Правое полушарие открывает нам глубокую взаимосвязь всех вещей: мы понимаем, что между сакральным и профанным, между божественным и человеческим нет непреодолимой пропасти. Это мир метафор, связывающий воедино, по-видимому, различные вещи, так что каждую из них мы начинаем видеть иначе; сказав, что человек есть бог, мы начинаем по-новому смотреть и на природу человека, и на божественность. В Индии и сейчас верят, что истина переживается прежде всего в человеке – в мужчине или женщине, каким-то образом воплотивших в себе божественную мудрость[190 - Wilfred Cantwell Smith, What Is Scripture?, 138.].
Декламируя гимны риши во время ритуалов жертвоприношений, арии возвращали их, в духе рта, тем дэвам, которые помогали их создавать. Истинно слышащие писание должны отдавать что-то взамен. Наблюдая в видениях дэвов за их небесными трудами, риши пришли к выводу, что все они принесли священный обет (врата) поддерживать порядок во вселенной. Каждое утро Митра и Варуна выводят в небеса солнце[191 - РВ 4.13.2–3.], а Варуна поддерживает небо над землей, позволяя дождю литься и оплодотворять почву[192 - РВ 6.70.1.]. Дэвы творят космическое священнодействие, поддерживающее мир в бытии – а арии, предлагая им пищу и сому, которую Агни переносит на небеса, поддерживают их и подкрепляют их силы в этой задаче[193 - Elizarenkova, 17–18.]. Миф и сопровождающий его ритуал помогали ариям культивировать в себе чувства благоговения и признательности, отказа принимать мир как должное. Вместо того чтобы эксплуатировать природный мир ради своей выгоды, они следовали дхарме — принципу «моральной ответственности», помогающему поддерживать в бытии вселенную. Олицетворяя незримые силы природы, связывая с ветром, солнцем, морем и звездами определенных дэвов, они выражали ощущение своей причастности космической тайне[194 - РВ 10.54.2.].
Таким образом, с самого начала индуистское писание было неотделимо от ритуала. Наши знания о ведических ритуалах на столь ранней стадии ограничены, но есть некоторая информация о праздновании Нового года – поворотного пункта, когда, как считалось, космосу грозила опасность вернуться в первозданный хаос[195 - Renou, Religions of Ancient India, 5, 11.]. Чтобы укрепить рта в борьбе с силами тьмы, арии отчаянно состязались друг с другом в ритуализованных соревнованиях: гонках колесниц, стрельбе в цель, демонстрации боевых приемов, игре в кости и инсценированных сражениях[196 - Elizarenkova, 26–28.]. Одним из этих соревнований было состязание поэтов, где риши импровизировали, полагаясь на вдохновение от своих покровителей-дэвов, так агрессивно схватываясь друг с другом, что один поэт сравнил это состязание с боем Индры и Вритры[197 - РВ 7.23.]. Смерть старого года напоминала о человеческой смертности и наполняла ариев глубокой тревогой; задача поэтов состояла в том, чтобы создать брахман, «словесную формулу», выражающую прозрение, способное прогнать этот ужас при мысли о смерти[198 - Findly, 32–44.].
В одном гимне молодой, неопытный поэт, стоящий на возвышении рядом со своими противниками, признается, что полон страха. Необходимое прозрение у него есть: он знает, что в критический момент, на повороте от старого года к новому, Агни, «подобно царю, отгонит тьму своим светом»[199 - РВ 6.9.1; пер. Findly.]. Но хватит ли у него мастерства создать брахман, который усмирит страхи слушателей? Беспокоит его и то, что состязаться приходится со старшими. Однако, дойдя до третьей строфы своего гимна, он вдруг понимает: не он, а сам Агни сложит и изречет брахман, ибо в момент откровения он и Агни становятся едины:
Он знает, как спрясти нить и соткать одежду,
Он правильно произнесет верные слова.
Кто понимает эту [мудрость], тот защитник бессмертия:
Он ходит внизу, но видит выше остальных[200 - РВ 6.9.3; пер. Findly (пояснение в скобках мое. – Прим. пер.).].
Агни – не далекое божество, в которое этому юноше приходится верить; Агни и есть переживание трансцендентного, наполняющее его сердце и ум светом видения, лежащего далеко за пределами обычной человеческой речи. «Что мне говорить? – восклицает он. – Что думать?»[201 - Там же.]
Ведическое общество было построено на состязательности. Этот молодой поэт, так взволнованный тем, что может опозорить своих учителей, знал, что поэтическое соревнование часто заканчивается катастрофической потерей лица: показавшись амати («тупоумным») в этот критический момент, можно было лишиться статуса жреца[202 - РВ 3.53.15–16.]. Но еще один гимн настаивает: поэзия призвана не разделять, а соединять общину. В этом величайшее достижение первых семерых риши:
Когда они положили начало речи и стали давать имена, самая чистая, самая тщательно охраняемая их тайна была открыта им через любовь.
Когда мудрецы начали складывать речь, просеивая мысли, словно муку сквозь сито, друзья их познали их дружбу. Так речь их была осенена добрым знаком[203 - РВ 10.71.1–2; пер. Doniger.].
Создание стихов Ригведа уподобляет ритуальному процеживанию сомы, очищающему священный напиток. Очень сложно пропустить через ограниченный человеческий ум поэта божественное Слово; если поэтом движет лишь себялюбие, у него ничего не выйдет, ибо вдохновение рождается из любви. Священная Речь (Вак) «открывает себя так, как любящая жена в прекрасном наряде открывает свое тело мужу»[204 - Там же, ст. 4.]. Так что откровение должно соединять людей. Риши порицает поэта, который «становится неловок и тяжел в дружбе», ибо истинное просветление несовместимо с враждой[205 - Там же, ст. 5.]: «Человек, покинувший друга своего, учившегося вместе с ним, более не имеет своей части в Речи»[206 - Там же, ст. 6.].
В течение Х в. до н. э. арии развивали и уточняли свои представления о высшей реальности, которую теперь называли Брахманом. Изначально, как мы помним, это слово относилось к поэтической формуле, но теперь стало применяться к энергии, пронизывающей мир: это Брахман дает возможность всему на свете расти, развиваться и процветать, ибо он есть сама жизнь[207 - Gonda, Change and Continuity, 200.]. Как и рта, Брахман – не дэва: это сила выше, глубже, фундаментальнее богов[208 - Renou, ‘Sur la notion de brahman’.]. Ее невозможно определить или описать, ибо она всеобъемлюща: человек не может выйти за ее пределы, чтобы увидеть ее целиком. Но драма ритуала позволяет ощутить ее интуитивно. Теперь обряд жертвоприношения часто завершался ритуальным состязанием, так называемым брахмодья, в котором поэты-жрецы пытались найти словесную формулу («брахман») для выражения невыразимого Брахмана. Тот, кто бросал вызов, задавал сложный вопрос, а его соперник старался дать на него столь же темный и загадочный ответ. Состязание продолжалось, пока один из соперников не задавал такой вопрос, который всех заставлял умолкнуть. Этого человека и объявляли победителем – но не за талант, мастерство или остроту ума, а за то, что он помог участникам состязания приблизиться к невыразимому. Молчание, наступавшее вслед за этим, быть может, чем-то напоминало тишину в концертном зале после того, как отзвучат последние ноты симфонии. Это была торжественная, благоговейная тишина, полная значения – и присутствия Брахмана. Мудрые мысли и ученые изречения жрецов меркли, вечно занятой ум останавливал свое коловращение – и на несколько мгновений они ощущали себя едиными с таинственной силой, которой живет и движется все сущее. Брахман, превосходящий все человеческие категории, можно было ощутить лишь в такие минуты – когда с изумлением понимаешь бессилие речи[209 - Heesterman, Inner Conflict, 70–72, 73.].
У реформы были влиятельные приверженцы, в том числе пророк Иеремия, однако дальнейшие события доказали ее неудачу. И все же писания Второзакония заняли в Еврейской Библии важное место и оказали огромное влияние на будущие поколения. Эти писания не просто предписывали «единобожие». Первая из Десяти заповедей – «Да не будет у тебя чуждых богов перед лицом моим» – явно указывала на Манассию, введшего «чуждых богов» в храм, в присутствие (шхина) Яхве; однако эта заповедь не отрицала самого существования иных богов. Тридцать лет спустя израильтяне все еще поклонялись месопотамской богине Иштар, и храм Яхве оставался полон чужеземных идолов[132 - Иер 44:15–19; Иез 8.].
Это иконоборческое богословие было настолько новым, что ради соответствия ему авторам Второзакония пришлось переписать историю Израиля и Иудеи, слив предания двух царств в единое повествование, затем составившее Книги Иисуса Навина, Судей, Царств и Паралипоменон. Эта история «доказывала», что Северное царство привело к гибели идолопоклонство. Второзаконники описывали, как Иисус Навин истреблял хананеян – жителей Земли Обетованной и разрушал их города, подобно ассирийскому полководцу. При угрозе от внешнего противника люди часто бросаются на борьбу с врагами внутренними: реформаторы пришли к убеждению, что все хананейские культы «мерзость», и объявили беспощадную охоту на всех израильтян, которые в них участвовали[133 - Втор 7:22–26.].
В эти смутные и бурные времена безмятежные книги Премудрости выглядели безнадежно устаревшими, так что второзаконники создали новую образовательную программу[134 - Carr, Tablet of the Heart, 134–146.]. Теперь молодежь должна была изучать северные предания об Исходе и Моисееву тору — и образование отныне становилось обязательным не только для богатых и знатных, но и для всех израильских мужчин[135 - Втор 4:4–9, 44.]. Цель по-прежнему состояла в том, чтобы записать «учение» (тору) на скрижалях сердец учеников, постоянным чтением вслух и повторением внушить им «хесед» – «любовь» или, точнее, «верность завету», о которой говорил Осия[136 - Niditch, 100.]:
Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем; и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая; и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих[137 - Втор 6:4–9.].
Во времена политической неопределенности Второзаконие требовало от жителей Иудеи стать «израильтянами»: они должны были «забыть» восхваление аграрного империализма и культ Премудрости Соломоновой и вместо этого «помнить» времена, когда были изгнанниками без государства, которых Яхве вывел «из Египта». Они должны были изучать тору день и ночь[138 - Нав 1:8.], полагаясь лишь на слова писания, без всякой ритуальной поддержки «резных изображений»[139 - Jan Assmann, ‘What is “Cultural Memory”?’, in Assmann, Religion and Cultural Memory, 19–20.].
В книге Второзакония перед самым входом в Землю Обетованную Моисей обращается к своему народу с последней речью. Он умоляет их не забывать о временах, когда они бесприютными скитальцами бродили по диким, безлюдным землям. Яхве держал их в пустыне сорок лет, «чтобы смирить вас… заставить понять, что не одним хлебом живет человек»[140 - Втор 8:3.]. Не следует соблазняться молоком и медом хананейской цивилизации; нужно держаться в стороне от безопасной, упорядоченной жизни земледельцев, ибо не для нее они предназначены:
Когда же введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства[141 - Втор 6:10–12.].
Для угнетенного, маргинализованного народа память о годах, проведенных в пустыне, должна была стать формой сопротивления[142 - Assmann, Cultural Memory, 191–193.]. За пугающей непримиримостью Второзакония просвечивают страшные воспоминания об уничтожении царства Израиль, о массовых убийствах и жестокой депортации.
Борьба Иосии за национальную независимость подошла к трагическому концу в 609 г. до н. э., когда царь был убит в военном столкновении с фараоном Нехо. К этому времени за контроль над этим регионом боролась с Египтом новая Вавилонская империя, заменившая Ассирию. Несколько лет Иудея выживала, лавируя между двумя державами, хотя Иеремия предупреждал о тщетности и опасности такой политики. Яхве приказал Иеремии подготовить письменный текст всех своих прорицаний, чтобы будущие поколения помнили: снова и снова он настаивал, что Израиль должен покориться Вавилону[143 - Иер 36:29.]. Иеремия диктовал свои слова писцу Варуху. Царь Иоаким, сын Иосии, приказал предать это писание огню. Иеремия надиктовал еще одну копию, а сожженный свиток стал пророческим знамением судьбы Иерусалима[144 - Niditch, 104–105.]. В 597 г. до н. э. Навуходоносор II, царь Вавилонский, покарал восстание в Иудее, депортировав восемь тысяч иудейских аристократов, военных и искусных ремесленников. В 586 г. до н. э., после еще одного тщетного мятежа, Навуходоносор сравнял с землей Соломонов храм. Но некоторые изгнанники последовали примеру авторов Второзакония – использовали воспоминания, чтобы сопротивляться уничтожению своего народа. В изгнании они нашли замену ритуалам утраченного храма в новом писании, преобразившем разрозненные устные предания их народа в единое Пятикнижие, первые пять книг Еврейской Библии. Однако теперь, в годы национального бедствия, послужившего революционному преображению писания, оставим Израиль и обратимся к Индии.
2. Индия: звук и молчание
Около 1500 г. до н. э. небольшие группы скотоводов, покинув степи Причерноморья, двинулись на юг через Афганистан и наконец обосновались в Пенджабе на территории современного Пакистана. Эта миграция не была ни массовым движением, ни военным вторжением – скорее, постепенным, на протяжении столетий, проникновением небольших арийских племен на юг[145 - Edwin Bryant, The Quest for the Origins of Vedic Culture: The Indo-Aryan Debate (Oxford, 2001); S. C. Kak, ‘On the Chronology of Ancient India’, Indian Journal of History and Science, 22, 3 (1987); Colin Renfrew, Archaeology and Language: The Puzzle of Indo-European Origins (London, 1987).]. Другие арии к этому времени уже отправились на запад, в Европу – в Грецию, Италию, Германию и Скандинавию – и принесли с собой свой язык и мифологию. Арии не были четко определенной этнической группой – скорее, свободным союзом племен, разделяющих общую культуру и язык, в наше время названный «индоевропейским», поскольку он дал начало нескольким европейским и азиатским языкам. Арийские поселенцы в Пенджабе уже говорили на ранней форме санскрита, священного языка, на котором написано одно из древнейших мировых писаний.
Приблизительно триста лет спустя жреческая элита ариев начала создавать массивную антологию гимнов на санскрите, позднее названную Ригведой («Знание в стихах») и ставшую самым прославленным и уважаемым текстом в огромном корпусе Вед («Знаний») – индийских священных писаний. Древнейшие из этих гимнов были открыты в далеком прошлом семи великим риши («провидцам») и с тех пор с непогрешимой точностью передавались из поколения в поколение их потомками. В семи жреческих семьях каждое поколение заучивало наизусть гимны, созданные боговдохновенным предком, а затем устно передавало их детям[146 - Holdrege, 229–230.]. И в наше время, когда древний санскрит уже практически непонятен, брамины повторяют эти гимны, не ошибаясь ни в одном ударении, ни в одном повышении или понижении тона, сопровождая каждое слово ритуально предписанными жестами рук и пальцев[147 - Klostermaier, Survey of Hinduism, 68.]. Звук для ариев всегда имел священное значение – намного более важное, чем смысл этих гимнов – так что, запоминая их и читая наизусть, жрецы ощущали себя в присутствии божества.
Мысль, что звучание священного текста может быть важнее заключенных в нем истин, немедленно бросает вызов современным представлениям о «писании» – которые, как нетрудно догадаться, подразумевают именно письменный текст. Но в Индии письмо долго оставалось неизвестным, а когда появилось – около 700 г. до н. э., – было воспринято как некая грязь и порча. Один поздний ведический текст устанавливает правило: «Ученик не должен читать Веды после того, как вкушал мясо, смотрел на кровь, совокуплялся с женщиной или занимался письмом»[148 - «Аитерейя Араньяка» 5.5.3, в пер. J. G. Staal, ‘The Concept of Scripture in Indian Tradition’, in Juergensmeyer and Barrier, eds., 122–123; Coburn, 104.]. Подобно «идолам» в Израиле времен Иосии, письменность воспринималась как нечто унизительное и опасное для божества. Поэтому даже после явления письменности ведические гимны по-прежнему заучивались наизусть и передавались из уст в уста. В XVIII–XIX веках, когда в Индию прибыли европейцы, их поразило, что Веды, несомненно, существуют, но на письме их просто нет. На все вопросы жрецы-брамины твердо отвечали: «Веды относятся к религии; в книгах им не место»[149 - Wilfred Cantwell Smith, What Is Scripture?, 139.].
В наше время мы на Западе склонны воспринимать писание как Последнее Слово, канон, запечатанный на все времена, священный, неизменный и ненарушимый. Но, как мы уже видели, в мире до Нового времени писание постоянно изменялось. Древние чтили свои писания, но не превращали их в окаменелости: писания должны были отвечать на постоянно меняющиеся обстоятельства – и в процессе часто радикально преображались. Это, несомненно, верно и для Ригведы. Древнейшие собрания, известные как «Семейные книги», мы находим со Второй по Седьмую книгу ныне существующей Ригведы; книги Восьмая и Девятая составлены поэтами-жрецами другого поколения, однако имеют тот же статус, что и гимны изначальных семи риши; наконец, гимны Первой и Десятой книг, составленные жрецами с явственно иным мировоззрением, были включены в Ригведу еще позже[150 - Carpenter, 20.]. Американский ученый Брайан К. Смит описывает Ригведу как «канон особого рода… постоянно пересматриваемый и вечно неизменный»[151 - Brian K. Smith, 20–26.].
На современный взгляд, арии были не слишком похожи на создателей священного писания; жизнь их с нашей точки зрения можно назвать какой угодно, но не благочестивой. Жили они похищением скота у соседних племен и разграблением селений коренных жителей, которых презрительно именовали дасас («варвары»). Ничего дурного они в этом не видели: на их взгляд, только такой образ жизни приличествовал арья — благородному человеку. Такой взгляд на вещи они разделяли с аристократами земледельческих цивилизаций, присваивавшими себе плоды труда крестьян[152 - Kautsky, Aristocratic Empires.]. Только сражаясь, грабя и уничтожая, арии чувствовали, что по-настоящему живут. Миролюбивых йогов среди них не было: это были грубые пастухи-разбойники, бродяги и пьяницы, неудержимо рвущиеся на восток в поисках новых пастбищ и скота[153 - Doniger, The Hindus, 114.].
Такой этос прославляет Ригведа. Герой ее древнейших гимнов – Индра, бог войны и заклятый враг чудовищного дракона Вритры, символизирующего все, что мешало арийской миграции: имя его происходит от «ВР», индоевропейского корня, имеющего значение «преграждать, заключать, окружать». Арии представляли Вритру огромным змеем, который в начале времен так туго обвился вокруг космической горы, что преградил течение животворных источников, и земля превратилась в пустыню. Тогда Индра поразил змея своей сверкающей молнией, затем отрубил ему голову, и мир вновь стал пригоден для жизни. Этот воинственный миф прямо указывает на предназначение ариев. Они тоже чувствовали, что должны прорубать себе путь через кольцо врагов, стремящихся запереть их в одном месте, не дать двигаться вперед, лишить скота, лошадей и пищи, необходимых для выживания. В каждом писании есть центральная тема или мотив, отражающая представления о предназначении человека. Далее мы увидим, что жажда освобождения (мокша) стала центральной темой индийской мысли: Вритра был уже практически забыт, а жители Индии страстно желали вырваться из капкана краткой и тленной жизни. Противоположность мокша – амхас («плен»), индоевропейское слово, родственное английскому anxiety и немецкому Angst, словам, означающим стеснение, тоску, тревогу, глубокое и тягостное ощущение несвободы. Следующие поколения развивали медитативные и этические техники, позволяющие вырваться из тенет жизни; древние арии прорубали себе путь на волю мечом.
Риши принимали в набегах и грабежах самое активное участие: неверно думать, что они благочестиво отсиживались в сторонке[154 - Whitaker, 24–28.]. В своих гимнах эти поэты-жрецы описывали, как врываются в битву вместе с Индрой[155 - Ригведа (РВ) 4.22.9; 8.100.1.], и уверяли, что именно их ритуальное пение придало Индре сил, чтобы разбить стены горной пещеры, где еще один демон, Вала, заточил солнце и скот, лишив землю света, тепла и пищи[156 - РВ 4.1.15.]. В других гимнах рассказывается, как Маруты, спутники Индры, укрепляют его силы в битве пением гимнов[157 - РВ 1.166.7; 6.66.10.]; эти звуки не только поддерживают Индру, но и уничтожают все препятствия на его пути[158 - РВ 9.111.3; 8.66.9; 2.25.24.]. Как видим, эти стихи оказывались важнейшими элементами военного дела, скотоводческой экономики, условиями благополучия воинов и выживания народа ариев. Более поздние индийские писания развивают учение об ахимсе (ненасилии), однако пока что вдохновенные слова риши, произнесенные с правильными интонациями, несут врагам ариев неминуемую гибель.
Если бы кто-нибудь спросил ариев, происходили ли эти яростные космические битвы на самом деле, или есть ли у них доказательства существования Индры или Вритры – они не сразу поняли бы, о чем их спрашивают. Индра, Вритра и Вала принадлежат к реальности мифа – языка писания, – который обращается к первобытным временам и открывает в них постоянное, важнейшее для человеческой жизни. Для воинственных ариев Вритра и Вала не были ни фантастическими, ни историческими фигурами; они воплощали в себе постоянную реальность – смертельную, безжалостную борьбу, лежащую в основе бытия. Вритру и Валу они видели в дасас, окружающих их становища. Знали, что животные постоянно охотятся друг на друга в беспрерывной борьбе за выживание. Страшные бури, землетрясения и засухи угрожают всему живому. Каждый вечер силы тьмы пленяют солнце – и каждое утро оно, не иначе как чудом, вновь поднимается на небеса.
Опасность постоянно угрожала и общине[159 - Renou, Religions of Ancient India, 65–66.]. Даже имена более мирных арийских богов – Митра («союз», «сплоченность»), Варуна («покрывать», «связывать») – не только сакрализовали верность, связывающую племена вместе, но и предполагали существование вездесущего врага[160 - Там же, 19.]. Сами постоянно под угрозой, арии проецировали свое неустойчивое положение на всю вселенную, где, как они верили, их боги, дэвы, ведут постоянную войну с асурами — старшими, первозданными божествами, обратившимися в демонов. В некоторых гимнах описаны злые силы, рыщущие вокруг становищ по ночам[161 - РВ 10.4.3–5.]. Другие посвящены постоянному присутствию в жизни голода и болезней[162 - РВ 3.7.2; 8.18.10; 8.91.5–6.]. По мере развития ведической мысли начинало казаться, что конечное преображение невозможно без предшествующей угрозы и разрушения – для того, чтобы Варуна принес мир и порядок, вначале должен победить Вритра[163 - Mahony, 11–13.]. Ведическая мифология рассказывала о первозданном единстве, раздробленном на множество частей; о том, как вселенная возникла из расчлененного тела бога; о том, как божественное Слово пало с небес и разбилось на множество слогов, которые теперь риши снова пытаются сложить вместе[164 - РВ 10.90; 1.164.41.].
Человек, в отличие от всех остальных животных, не может принимать мир как должное. Смысл своей жизни арии искали в мифе, однако, желая улучшить свою жизнь, полагались на практический логос. Чтобы племя процветало, приходилось тщательно планировать набеги, обучаться воинскому делу и умело вести скотоводческое хозяйство. Но, как и все воины, арии говорили себе, что их военные операции призваны вернуть мир на правильный путь. Арийская мифология не конфликтовала с деятельностью, направляемой логосом – скорее, охватывала ее, подкрепляла и вдохновляла. Перед набегом жрецы пели гимн, прославляющий победы Индры, а воины, запрягая коней в боевые колесницы, выпивали – как и сам Индра перед битвой – по глотку галлюциногенного напитка сомы. Торжественные песнопения Ригведы придавали образу жизни, который иначе мог бы показаться жестоким, бессмысленным и ужасным, значение и достоинство.
И это окупалось. К Х в. до н. э. арии, серьезно продвинувшись на восток, осели в Доабе между реками Ямуной и Гангом – в регионе, получившем название Арьяварта («Страна ариев»). Каждый год, с наступлением сезона дождей, военные отряды отправлялись в поход, чтобы продвинуться еще чуть дальше на восток, подчинить себе местных жителей и основать новые поселения. Чтобы освятить это постепенное продвижение, создавались новые ритуалы[165 - Heesterman, ‘Ritual, Revelation and the Axial Age’, 403.]. Теперь героем ариев стал еще один дэва — Агни, бог огня, поскольку первопроходцам приходилось расчищать место для лагерей, поджигая непроходимые джунгли. Дэвы для ариев не были «иными» существами; они воспринимались скорее как некое сакральное измерение самого человека. Агни не только символизировал способность поселенца подчинить себе новые земли, но и являлся его альтер-эго, его лучшим, сокровеннейшим «я» («атманом»), также священным и божественным[166 - Heesterman, Broken World, 126.].
Не следует смешивать дэва с нашим современным западным представлением о «Боге». Слово дэва означает «сияющий» или «возвышенный» – эпитеты, которые можно применить к чему угодно: к гимну, чувству, реке, буре или горе – ко всему, в чем арии прозревали отсвет трансцендентного[167 - Klostermaier, Survey of Hinduism, 130.]. Божественное не было заперто в собственной метафизической сфере: оно пронизывало всю реальность, так что дэвы воплощали в себе и силы природы, и те человеческие страсти, например, любовь или экстаз битвы, что, кажется, на мгновение переносят нас из обыденности в какое-то более насыщенное бытие. Современная западная наука отделила материальное от психологического и духовного; но для Вед, вдохновленных холистическим правополушарным видением, не было ничего чисто материального – все было напоено трансцендентным потенциалом[168 - Griffiths, 58–59.].
Итак, Агни отождествлялся со священным огнем, составлявшим сердцевину арийского культа жертвоприношений: говорили, что солнце, огонь, поддерживающий жизнь, снизошло в наш мир и скрылось под толщей земли. Но, когда мы ударяем друг о друга камни или трем деревянные палочки, Агни выходит из укрытия, вспыхивает и переносит дары, бросаемые в жертвенный огонь, прямиком на небеса. Кроме того, Агни – это «огонь» сознания, исходящий из таинственных глубин нашего бытия и явленный в мышлении. Опьяняющее растение сома – тоже дэва, ибо она наделяет воина отвагой; а кроме того, это источник откровения, ибо она обостряет интуицию риши и на несколько мгновений возносит его до божества[169 - Elizarenkova, 19.]. Один из риши так описывал это чувство беспредельной широты и свободы от тягот повседневного существования:
Мы выпили сомы; мы стали бессмертны; мы взошли к свету; мы нашли богов. Ненависть и злокозненность смертных что сделают нам ныне, о бессмертный?..
Ушли слабость и болезни; в ужасе бежали силы тьмы. Сома восходит в нас и распространяется. Мы нашли место, в котором сможем жить вечно[170 - РВ 8.48.3, 11; пер. Doniger.].
Дэва звалось все, что расширяло сознание ариев и приближало их к священному, все, что помогало ощутить себя в мире как дома. В Ригведе и Агни, и Сома именуются «сострадательными друзьями» ариев. Митра, властитель дня, пробуждал ария на рассвете; имя его также означает «друг»[171 - РВ 3.59.1.]. Один риши представлял себе, как Митра и Варуна, повелитель ночи, сидят на площадке для жертвоприношений бок о бок с ариями, как их друзья и товарищи[172 - РВ 8.48.9; 3.5.3; 1.26.2–4; пер. Doniger.].
У ариев не было ни организованного пантеона, ни высшего божества, «Верховного Бога», поскольку все эти дэвы являлись частью некоей предельной, безличной, всеобъемлющей силы. «Ее называют Индрой, Митрой, Варуной, Агни, – объяснял один риши. – А мудрец по-разному говорит о том, что Едино»[173 - РВ 1.164.46; пер. Doniger.]. Каждый дэва восхваляется как создатель и хранитель вселенной, ибо каждый из них – лишь стекло, сквозь которое можно увидеть отблески реальности, одна из возможных точек зрения на Абсолютное. Но реальность – не какое-то высшее, всемогущее, самодовлеющее «существо»; она вообще не «существует» в смысле, знакомом нам по существованию здешних хрупких, смертных вещей. Скорее, эта всеобъемлющая и предельно таинственная реальность и есть Бытие как таковое.
Взирая на сложное устройство вселенной, арии поражались и восхищались ее соразмерностью и целенаправленностью. Ежеутренний восход солнца казался им каждодневным чудом: как солнце, луна и звезды не падают с небес? Реки постоянно впадают в океан: почему же океан не выходит из берегов и не поглощает землю? Как с такой регулярностью сменяют друг друга времена года? На эти вопросы отвечает современная наука: но арии искали ответов не в логосе, а в священном мифе. Созерцая жизнь вселенной, они догадывались, что какая-то сила свела воедино все эти потенциально враждебные друг другу стихии. Сила эта не была ни дэва, ни современным Богом-Творцом. Скорее, это была некая трансцендентная и безличная сила, которую арии именовали рта — ритм вселенной. Они замечали, что космические стихии, кажется, всегда возвращаются к своему источнику – и пытались подражать этому в своем культе, где Агни возносил жертвоприношения назад, на небеса. Любое действие, направленное на разделение, присвоение, попытку придать чему-то самоценность, было «ложью» – изменой рта. Так поступали Вритра и Вала, когда пленяли и запирали бескрайнюю красоту природного мира, раскалывали целостную вселенную – и создавали мир тьмы, бесплодия и смерти[174 - РВ 1.11.9; 5.41.17; 6.74.2; Mahony, 102–104.].
Хоть риши и не уставали подчеркивать, что предельная реальность невыразима словами, иногда им все же удавалось «увидеть» ее в словесной форме. В одном из поздних гимнов Ригведы Речь (Вак) описывает себя как трансцендентную реальность, заключающую в себе и дэвов, и все земное:
Я иду с Рудрами, с Васами, с Адитьями и всеми богами. Я несу Митру и Варуну, Индру и Агни, и обоих Ашвинов…
Я породила отца во главе этого мира. Чрево Мое – в водах океана, оттуда распространяются все мои создания. Венец на главе Моей касается небес.
Я Та, что дует, подобно ветру, охватывающему все создания. Выше неба и ниже земли простирается Мое величие[175 - РВ 10.125.1, 7–8; пер. Doniger. Ашвины – божественные близнецы, священные хранители плодородия.].
И Еврейская Библия, и Новый Завет называют творящей силой «Слово» Божье: «Через Него все начало быть»[176 - Ин 1:1–2.]. Эта почти повсеместная метафора Слова выражает истину о положении человека. Мы создаем свой мир посредством речи. Ребенок окунается в стихию языка и создает «космос» – упорядоченный мир – играя со словами; чем лучше он владеет речью, тем лучше понимает окружающую среду[177 - Sloek, 63–67.]. Язык придает значение нашей реальности – но спотыкается, пытаясь выразить то, что лежит за ее пределами.
Арии рассказывали, что Веда звучала целую вечность, но риши первыми сумели ее услышать[178 - Wilfred Cantwell Smith, What Is Scripture?, 234.]. С помощью сомы и, возможно, древнейшей йоги они ощутили таинственную силу, связывающую космос воедино. Сообщений о том, как это происходило, они не оставили – но, вполне возможно, культивировали этот процесс сознательно. Слово «мистицизм» происходит от греческого мюо — «закрывать». Созерцатели позднейших времен объясняли, что «закрывают» или «выключают» аналитическую, рассудочную деятельность, характерную, как мы теперь знаем, для левого мозгового полушария. Фламандский мистик Иоганн Рюйсбрук (1293–1381) так описывал эту практику в христианской терминологии:
Откровение Отца возносит душу над разумом, к безо?бразной наготе. Там душа проста, чиста и непорочна, пуста от всего; и в этом состоянии абсолютной пустоты Отец изливает на нее свое божественное сияние. Это сияние недоступно ни разуму, ни чувствам, ни замечанию, ни различению: все это должно остаться внизу[179 - Johannes Ruysbroek, De Spiegel dar Ensige Sulichpichest, цит. по Duprе, 454 (курсив автора).].
«Опустошив» таким образом сознание, мы открываем путь холистическому правополушарному восприятию. Рюйсбрук полагает, что правополушарную активность вызывает то, что он называет «Отцом»; индийские мистики считали, что инициатива здесь исходит от человека. Контроль дыхания – важнейший, как мы увидим далее, элемент йоги – также был разработан именно для того, чтобы научиться «уходить в свой внутренний мир»[180 - Johnston, 33, 55–57.]. В гимнах Ригведы отражено правополушарное восприятие мира как целого, разрозненные части которого скреплены тысячами таинственных связей. С самых древних времен истины, сообщаемые писанием, отличались от фактического знания, которое мы черпаем из обычной, левополушарной работы мозга, лишь очень приблизительно отражающей намного более сложную реальность.
Гимны Ригведы рассказывают, что риши слышали «Вак», священное звучание, не связанное с человеческой речью, так же, как «видели» его – путем дхи («внутреннего зрения», «прозрения»). Они говорят о «внутреннем оке», который каким-то образом «визуализирует» «знание» (веда), лежащее за пределами обыденного языка и имеющее мало отношения к нашим обычным методам усвоения и обработки информации[181 - РВ 6.9.6; пер. Doniger.]. Что же «видели» риши? По-видимому, мимолетные отблески рта, воплощенные в блистательных образах дэвов, скачущих на своих колесницах или восседающих на золотых небесных престолах. Тщетно пытались они выразить эти «видения», приходившие к ним в виде отдельных статичных картин, на грубом и неточном человеческом языке: «Поистине, видели мы силою видения [дхи] нашего нечто золотое на престолах – умом нашим, чрез очи наши, очами нашими благодаря соме»[182 - РВ 1.139.2; пер. Gonda, Vision, 69; ср. 1.18.5; 1.139.2; 1.22.]. «Нечто золотое» – здесь невозможно подобрать сравнения ни с каким обыденным предметом. Нет и попыток описать действия дэвов в ясном, последовательном повествовании. Нет: Слово врывается в разум риши как быстро сменяющие друг друга «мгновенные снимки», в которых нет ни временной, ни логической последовательности. То, что он видит, превосходит само время и может с равной вероятностью относиться к прошлому, настоящему, будущему – или ко всему вместе[183 - Elizarenkova, 16–17.]. Так что гимны Ригведы представляют собой цепь мгновенных прозрений, порой облаченных в форму загадок и парадоксов, не имеющих ясного и однозначного смысла или «морали»[184 - Gonda, ‘The Indian Mantra’.]. Жители Индии и сейчас верят, что истинное знание нельзя постичь одним лишь разумом, ибо божественное превосходит и интеллект, и догматы, и опыт.
Однако это откровение не было «личным делом»: оно посылалось риши ради блага общины. В Индии говорят, что визионер всегда должен «возвращаться на рынок». Это означает, что ему следует вернуться к «нормальности» и передать посетившие его мистические озарения другим – в такой форме, которую смогут понять и обычные люди. Так риши, «провидцу» неминуемо приходится стать и кави – «поэтом». Ему необходимо каким-то образом отыскать «словесную формулу» (брахман), выражающую несказанное на повседневном человеческом языке. Иногда он просит о помощи в этом кого-то из дэвов[185 - Michael Witzel, ‘Vedas and Upanisads’, in Flood, ed., Blackwell, Companion to Hinduism, 69, 71; Holdrege, 278; Gonda, Vision, 39, 42–50.]. Слово «брахман» происходит от корня, означающего «распухать» или «расти». Должно быть, поэты ощущали, как нечто могущественное поднимается в них и распирает изнутри. По их собственным словам, они слагали гимны так же, как портной кроит «прекрасное, хорошо сшитое одеяние… как умелый ремесленник мастерит колесницу»[186 - РВ 5.29.15; пер. Griffith.], прилаживая одну к другой уже существующие части и создавая из них нечто новое[187 - Mahony, 216–218.].
Риши был в состоянии передать свое неописуемое видение лишь потому, что каким-то образом воплотил его в себе[188 - Elizarenkova, 15–16.]: его называли випра, поскольку он «дрожал» или «вибрировал» от ритмов рта[189 - Gonda, Vision, 27–34, 56–57.]. Его трансцендентное видение было не просто встречей с иной формой существования: он и сам в каком-то смысле становился божеством. Весь смысл стремления к трансцендентному был в том, чтобы достичь этого личного преображения. Правое полушарие открывает нам глубокую взаимосвязь всех вещей: мы понимаем, что между сакральным и профанным, между божественным и человеческим нет непреодолимой пропасти. Это мир метафор, связывающий воедино, по-видимому, различные вещи, так что каждую из них мы начинаем видеть иначе; сказав, что человек есть бог, мы начинаем по-новому смотреть и на природу человека, и на божественность. В Индии и сейчас верят, что истина переживается прежде всего в человеке – в мужчине или женщине, каким-то образом воплотивших в себе божественную мудрость[190 - Wilfred Cantwell Smith, What Is Scripture?, 138.].
Декламируя гимны риши во время ритуалов жертвоприношений, арии возвращали их, в духе рта, тем дэвам, которые помогали их создавать. Истинно слышащие писание должны отдавать что-то взамен. Наблюдая в видениях дэвов за их небесными трудами, риши пришли к выводу, что все они принесли священный обет (врата) поддерживать порядок во вселенной. Каждое утро Митра и Варуна выводят в небеса солнце[191 - РВ 4.13.2–3.], а Варуна поддерживает небо над землей, позволяя дождю литься и оплодотворять почву[192 - РВ 6.70.1.]. Дэвы творят космическое священнодействие, поддерживающее мир в бытии – а арии, предлагая им пищу и сому, которую Агни переносит на небеса, поддерживают их и подкрепляют их силы в этой задаче[193 - Elizarenkova, 17–18.]. Миф и сопровождающий его ритуал помогали ариям культивировать в себе чувства благоговения и признательности, отказа принимать мир как должное. Вместо того чтобы эксплуатировать природный мир ради своей выгоды, они следовали дхарме — принципу «моральной ответственности», помогающему поддерживать в бытии вселенную. Олицетворяя незримые силы природы, связывая с ветром, солнцем, морем и звездами определенных дэвов, они выражали ощущение своей причастности космической тайне[194 - РВ 10.54.2.].
Таким образом, с самого начала индуистское писание было неотделимо от ритуала. Наши знания о ведических ритуалах на столь ранней стадии ограничены, но есть некоторая информация о праздновании Нового года – поворотного пункта, когда, как считалось, космосу грозила опасность вернуться в первозданный хаос[195 - Renou, Religions of Ancient India, 5, 11.]. Чтобы укрепить рта в борьбе с силами тьмы, арии отчаянно состязались друг с другом в ритуализованных соревнованиях: гонках колесниц, стрельбе в цель, демонстрации боевых приемов, игре в кости и инсценированных сражениях[196 - Elizarenkova, 26–28.]. Одним из этих соревнований было состязание поэтов, где риши импровизировали, полагаясь на вдохновение от своих покровителей-дэвов, так агрессивно схватываясь друг с другом, что один поэт сравнил это состязание с боем Индры и Вритры[197 - РВ 7.23.]. Смерть старого года напоминала о человеческой смертности и наполняла ариев глубокой тревогой; задача поэтов состояла в том, чтобы создать брахман, «словесную формулу», выражающую прозрение, способное прогнать этот ужас при мысли о смерти[198 - Findly, 32–44.].
В одном гимне молодой, неопытный поэт, стоящий на возвышении рядом со своими противниками, признается, что полон страха. Необходимое прозрение у него есть: он знает, что в критический момент, на повороте от старого года к новому, Агни, «подобно царю, отгонит тьму своим светом»[199 - РВ 6.9.1; пер. Findly.]. Но хватит ли у него мастерства создать брахман, который усмирит страхи слушателей? Беспокоит его и то, что состязаться приходится со старшими. Однако, дойдя до третьей строфы своего гимна, он вдруг понимает: не он, а сам Агни сложит и изречет брахман, ибо в момент откровения он и Агни становятся едины:
Он знает, как спрясти нить и соткать одежду,
Он правильно произнесет верные слова.
Кто понимает эту [мудрость], тот защитник бессмертия:
Он ходит внизу, но видит выше остальных[200 - РВ 6.9.3; пер. Findly (пояснение в скобках мое. – Прим. пер.).].
Агни – не далекое божество, в которое этому юноше приходится верить; Агни и есть переживание трансцендентного, наполняющее его сердце и ум светом видения, лежащего далеко за пределами обычной человеческой речи. «Что мне говорить? – восклицает он. – Что думать?»[201 - Там же.]
Ведическое общество было построено на состязательности. Этот молодой поэт, так взволнованный тем, что может опозорить своих учителей, знал, что поэтическое соревнование часто заканчивается катастрофической потерей лица: показавшись амати («тупоумным») в этот критический момент, можно было лишиться статуса жреца[202 - РВ 3.53.15–16.]. Но еще один гимн настаивает: поэзия призвана не разделять, а соединять общину. В этом величайшее достижение первых семерых риши:
Когда они положили начало речи и стали давать имена, самая чистая, самая тщательно охраняемая их тайна была открыта им через любовь.
Когда мудрецы начали складывать речь, просеивая мысли, словно муку сквозь сито, друзья их познали их дружбу. Так речь их была осенена добрым знаком[203 - РВ 10.71.1–2; пер. Doniger.].
Создание стихов Ригведа уподобляет ритуальному процеживанию сомы, очищающему священный напиток. Очень сложно пропустить через ограниченный человеческий ум поэта божественное Слово; если поэтом движет лишь себялюбие, у него ничего не выйдет, ибо вдохновение рождается из любви. Священная Речь (Вак) «открывает себя так, как любящая жена в прекрасном наряде открывает свое тело мужу»[204 - Там же, ст. 4.]. Так что откровение должно соединять людей. Риши порицает поэта, который «становится неловок и тяжел в дружбе», ибо истинное просветление несовместимо с враждой[205 - Там же, ст. 5.]: «Человек, покинувший друга своего, учившегося вместе с ним, более не имеет своей части в Речи»[206 - Там же, ст. 6.].
В течение Х в. до н. э. арии развивали и уточняли свои представления о высшей реальности, которую теперь называли Брахманом. Изначально, как мы помним, это слово относилось к поэтической формуле, но теперь стало применяться к энергии, пронизывающей мир: это Брахман дает возможность всему на свете расти, развиваться и процветать, ибо он есть сама жизнь[207 - Gonda, Change and Continuity, 200.]. Как и рта, Брахман – не дэва: это сила выше, глубже, фундаментальнее богов[208 - Renou, ‘Sur la notion de brahman’.]. Ее невозможно определить или описать, ибо она всеобъемлюща: человек не может выйти за ее пределы, чтобы увидеть ее целиком. Но драма ритуала позволяет ощутить ее интуитивно. Теперь обряд жертвоприношения часто завершался ритуальным состязанием, так называемым брахмодья, в котором поэты-жрецы пытались найти словесную формулу («брахман») для выражения невыразимого Брахмана. Тот, кто бросал вызов, задавал сложный вопрос, а его соперник старался дать на него столь же темный и загадочный ответ. Состязание продолжалось, пока один из соперников не задавал такой вопрос, который всех заставлял умолкнуть. Этого человека и объявляли победителем – но не за талант, мастерство или остроту ума, а за то, что он помог участникам состязания приблизиться к невыразимому. Молчание, наступавшее вслед за этим, быть может, чем-то напоминало тишину в концертном зале после того, как отзвучат последние ноты симфонии. Это была торжественная, благоговейная тишина, полная значения – и присутствия Брахмана. Мудрые мысли и ученые изречения жрецов меркли, вечно занятой ум останавливал свое коловращение – и на несколько мгновений они ощущали себя едиными с таинственной силой, которой живет и движется все сущее. Брахман, превосходящий все человеческие категории, можно было ощутить лишь в такие минуты – когда с изумлением понимаешь бессилие речи[209 - Heesterman, Inner Conflict, 70–72, 73.].