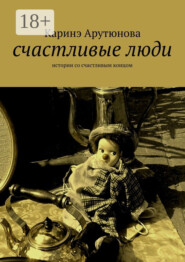По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Свет Боннара. Эскизы на полях
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Свет Боннара. Эскизы на полях
Каринэ Арутюнова
«Свет Боннара» – условная величина, не поддающаяся анализу, расщеплению, постижению. Так называется сборник эссе и новелл Каринэ Арутюновой, объединенных «воспоминанием о невозможном», извечным стремлением к тому, что всегда за линией горизонта, брезжит и влечет за собой. Попытка определения в системе координат (время плюс пространство), постижение формулы движения и меры красоты в видимом, слышимом, воображаемом.Часть текста ранее была опубликована в книгах «Дочери Евы» и «Счастливые люди».
Свет Боннара
Эскизы на полях
Каринэ Арутюнова
Литературное бюро Натальи Рубановой
На обложке: Каринэ Арутюнова, картина из серии
«Явление цвета»
Редактор проекта Наталья Рубанова
Корректор Надежда Винштейн
Дизайнер обложки Артур Даниелян
Художник Каринэ Арутюнова
© Каринэ Арутюнова, 2021
© Артур Даниелян, дизайн обложки, 2021
ISBN 978-5-0053-8954-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Вместо пролога
Вы открываете конверт с письмом, адресованным лично вам: оно, судя по обратному адресу, написано гением, вашим кумиром, оно о вас, о вашем редком и несравненном даровании. Вспомнили? Что-то подобное было, обязательно было, потому что вы родились когда-то на свет божий, в его краски, запахи и звуки. Вы родились в жизнь – она и есть тот гений, автор письма, с которым вы не расстаетесь, которое проборматываете вновь и вновь, на которое мысленно отвечаете, но не можете найти слов благодарности, равных счастливому потрясению, испытанному при первом прикосновении к нему – драгоценному письму, которое, как оказалось, пишет вас.
Есть композиторы, создающие клавир, а затем – последовательно – раскладывающие его на инструменты, и есть другие, моментально слышащие всю симфонию разом. Мне кажется, так слышит Каринэ Арутюнова, пытаясь совершить прекрасное в своем героизме действие: вместить ежесекундный гениальный диктант жизни в каждую крупицу своего сочинения, – и потому читать ее – большая и незабываемая радость.
Владимир Гандельсман
Если бежать долго-долго вслед за солнечным лучом, говорят, можно дойти до кастильского короля или даже до Мадагаскара.
Чутье подсказывает, что это одно и то же.
Желто-лимонное Лимпопо, сине-золотая пряная Индия и суровая малахитовая Кастилия.
Ах, я бы дошел, но что-то меня держит.
Некие обстоятельства.Надеюсь, временные!
Свет далеких окон
С новыми порядками мой прежний образ жизни почти не изменился, но тем не менее появилось странное – наряду с захлопывающимися дверками (пространств) – ощущение внезапно подаренного (отнятого?) времени.
Вдумайтесь только – если по мановению волшебной палочки можно замедлить темп большинства живущих на этой планете, то почему нереальным кажется возвращение непрожитого отрезка жизни?
Закроешь глаза и видишь, как вырывается из-под стражи замедленное время, как, будто огромный муравейник, оживает затихший мир, как взрывается миллионом огней, петард, как это все происходит – момент прорыва, выздоровления, – как торжествует былая небрежность, возвращается легкость сближения, касаний, свободы.
Заполненные до отказа ячейки памяти не дают уснуть окончательно. Напротив, все более явственными и отчетливыми становятся воспоминания. Ныряешь в них, будто в волшебный подводный мир, фильтруя и отбрасывая ненужное.
Когда заканчиваются сюжеты, снимки, слова, – на помощь приходят запахи.
Вот так пахнет лак, которым вскрыли паркет в новой квартире. Вот так пахнет рубашка моей первой любви. А это запах августа, густой, глубокий, насыщенный, с легкой горчинкой, – так пахнет зрелая, знающая себе цену, охваченная поздней страстью женщина. О, как хороша она, как беспощадно прекрасна в своей отчаянной смелости накануне долгой зимы.
А это запах нагретого солнцем старого дома, а это аромат моих пятнадцати. А так пахнет выстиранная накануне красная майка – она очень идет мне, восемнадцатилетней, кроме всего прочего, другой майки у меня нет – как и других джинсов, впрочем, но ничего иного мне и не нужно – майка, джинсы, ускользающий август, полупустая платформа метро. А это горечь (разрыва, расставания, отъезда, ухода) двадцати, тридцати – слышишь, как ветви стучат в окно? Как ускоряется шаг?
Шабат, другой, третий, двадцатый – пятнадцати лет как не бывало – кажется, только раскидал все по полкам, только нашел квартиру, только подписал договор, только оплатил – дни, будто вырванные листки чековой книжки банка «Леуми».
Долгие часы (о, уныние, помноженное на знание) в ульпане, дорога домой, низкие потолки, жалюзи, лимонное дерево во дворе, свора голодных котов, сосед сверху, наблюдающий в бинокль.
Как пахнет тоска, как уголком загибается лист недочитанной книжки, как время пролистывает самое себя, застревая на годы. Что там, вдали? Окна казенных корпусов? Запахи страха, напускной бодрости, отчаянья, надежды.
Свет далеких окон, нежность скомканных слов (дай силы не забыть эти лица, ладони, глаза), сопровождающих на каждом ухабе…
Как привычно склоняется к плечу разморенная светом голова, как смягчаются черты, обостренные знанием.
Как пахнет жизнь, подаренная… господи, ни за что, просто так, еще одна.
Новая, неизношенная, целая.
Вот эта женщина, бредущая под раскаленными лучами с прижатой к уху трубкой (я слышу голос, сорванный отчаяньем, – мне тридцать пять, понимаешь? а я ничего не успела) – я вижу ее отсюда, из глубины карантинных (проживаемых один за другим дней) – и слышу запах надвигающейся беды, которую не спутаю с унынием или, допустим, тревогой, – он нарастает, точно снежный ком, и время идущей по пустынной улице (о, гулкость каждого шага в колодце двора!) уж никак не сравнить с сегодняшним, лишенным запаха и вкуса, похожим на бессрочное ожидание то ли начала новой жизни, то ли конца предыдущей.
* * *
Ее ты проживаешь наспех, второпях, не успевая распробовать, – как оно там, за всеми стенами, окнами, рамами, – как же там дышится, как живется.
Вначале была река. Вокруг нее вырос город. Да нет же. Города не было. Ничего еще не было. Ни рыночных площадей, ни тюрем, ни школ, ни соборов, ни таверн.
Вначале была она. Река. Женщина. Мальчик. Дорога. Что-то, видимое только двоим, там, за линией горизонта.
Зеркало. Женщина в нем
Из удивительного в старом австрийском доме – полукруглая ванна, в которой хочется провести остаток жизни. Разумеется, в неге и роскоши. При такой ванне сами собой образуются туфельки, чулки, пояс, пузырьки с золочеными головками, обходительные мужчины с уложенными (один к одному) волосами, крахмальные манишки, развернутые салфетки, дамские шляпки, кучер, бокал из богемского хрусталя, полбутылки лафита, щипчики для кускового сахара, сам, собственно, сахар, да не это быстрорастворимое недоразумение, а такой, знаете ли, чтобы играл на зубах. Образуются неспешные беседы при свечах, бал у румынского посла, перебои с водой и электричеством, конки, трамваи, здание ратуши, томик Шиллера, Брамс, имперский размах и увядание, осыпающаяся штукатурка и проступающая сквозь нее плинфа, византийская вязь и латиница, румыны, венгры, австрияки, немцы, поляки, свиные ребрышки, вымоченные в вине, острый соус, серебряный соусник, красные крыши домов, разбитое сердце, пыль времен, высокие потолки, канделябры, старые фотографии, кружевные перчатки, синагога, костел, улица Эминеску, Штейнберга и Гете, кофе по—венски, скрип половиц, витые решетки, балкон, огромное зеркало, женщина в нем.
Там иначе распорядились пространством, – не мы с вами, а те, кто был здесь до. Точно в старинной шкатулке, выдвигаются секретные ящички, расступаются анфилады, проступают барельефы, вязь решеток и кружево балконов, прохлада и тишина подъездов, кладка стен, подробность лестниц и коридоров, – все перечисленное тесно связано друг с другом, одно бессмысленно без другого, как слова, обращенные в пустоту, речь, лишенная подтекста, теряет богатство эпитета и обертона, становится скудной и топорной, так сквозь сложно устроенный механизм человеческой природы прорывается клекот и лай, мычание и хрип, – как, однако, любовно творил нас создатель, вкладывая речь в уста, даря диапазон, силу, глубину, нежность, страстность, холодность, вежливость, куртуазность, мешая «возвышенное и земное», плоское и рельефное, плотское и чувственное, узкое и широкое, – по мере отдаления возрастает значительность всякой подробности, из которой складывается ткань бытия и, стало быть, многомерность сознания, которое тянется ввысь, разворачивается вслед за горизонтом, устремляется и гаснет, точно лампочка, вкрученная в плафон еще при Франце Иосифе, – гаснут лампочки, тускнеют паркеты, останавливаются часовые механизмы, даже они изнашиваются от соприкосновения с хроносом, что говорить о содержимом выдвинутых ящичков, о париках и камзолах, туфельках и чулках, фраках и перчатках, подъезды не выдают воспоминаний, скрывают сюжеты, оберегают тайны, – они распахиваются перед всяким новым жильцом, пугая темнотой и затхлостью, признаками и призраками многократно возрождающейся жизни, уже никак не связанной с тем, кто жил здесь до, – разворачивается лист-вкладыш, являя внутренний дворик второго этажа, – огромные окна, стертые ступеньки, велосипед со спущенной рамой, кожаный нос собаки в окне, белье сохнет, качели скрипят, женщины в цветастом затрапезном по-прежнему заполняют пространство новыми жизнями, а вот и детская кроватка, в глубине, на дне ее, тюфячок, вдруг примиряющий с ходом времен и чередой событий, – всему свое время, вздыхает часовщик, откладывая в сторону изношенный механизм, нежно позвякивают шестеренки, пружинки и винтики, и чистый детский голос, захлебываясь, смеется чему-то безудержно, и тут же другой, множественный, то старый, складчатый, надорванный, то вновь юный, то женский, то мужской, то скрежет и лязг, то перезвон мельхиоровых ложечек, то кадиш, то вальс, то «верою пали стены иерихонские», – матка боска, геброхт золзен верн, а мохайе, – им вторит орган, колокольная рябь, молитва раввина, высокий голос кантора, и маленький доктор с потрепанным саквояжем вновь идет через двор, на крик ребенка и стон роженицы.
Танжер
До сих пор жалею, что не купила эти картины. Совсем небольшие, – на картонках и дощечках написанные, – нет, достаточно грубо намалеванные, – однако грубость эта – от мастерства – это грубость профессионала, который имеет право на вольность, размах, небрежность.
Каринэ Арутюнова
«Свет Боннара» – условная величина, не поддающаяся анализу, расщеплению, постижению. Так называется сборник эссе и новелл Каринэ Арутюновой, объединенных «воспоминанием о невозможном», извечным стремлением к тому, что всегда за линией горизонта, брезжит и влечет за собой. Попытка определения в системе координат (время плюс пространство), постижение формулы движения и меры красоты в видимом, слышимом, воображаемом.Часть текста ранее была опубликована в книгах «Дочери Евы» и «Счастливые люди».
Свет Боннара
Эскизы на полях
Каринэ Арутюнова
Литературное бюро Натальи Рубановой
На обложке: Каринэ Арутюнова, картина из серии
«Явление цвета»
Редактор проекта Наталья Рубанова
Корректор Надежда Винштейн
Дизайнер обложки Артур Даниелян
Художник Каринэ Арутюнова
© Каринэ Арутюнова, 2021
© Артур Даниелян, дизайн обложки, 2021
ISBN 978-5-0053-8954-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Вместо пролога
Вы открываете конверт с письмом, адресованным лично вам: оно, судя по обратному адресу, написано гением, вашим кумиром, оно о вас, о вашем редком и несравненном даровании. Вспомнили? Что-то подобное было, обязательно было, потому что вы родились когда-то на свет божий, в его краски, запахи и звуки. Вы родились в жизнь – она и есть тот гений, автор письма, с которым вы не расстаетесь, которое проборматываете вновь и вновь, на которое мысленно отвечаете, но не можете найти слов благодарности, равных счастливому потрясению, испытанному при первом прикосновении к нему – драгоценному письму, которое, как оказалось, пишет вас.
Есть композиторы, создающие клавир, а затем – последовательно – раскладывающие его на инструменты, и есть другие, моментально слышащие всю симфонию разом. Мне кажется, так слышит Каринэ Арутюнова, пытаясь совершить прекрасное в своем героизме действие: вместить ежесекундный гениальный диктант жизни в каждую крупицу своего сочинения, – и потому читать ее – большая и незабываемая радость.
Владимир Гандельсман
Если бежать долго-долго вслед за солнечным лучом, говорят, можно дойти до кастильского короля или даже до Мадагаскара.
Чутье подсказывает, что это одно и то же.
Желто-лимонное Лимпопо, сине-золотая пряная Индия и суровая малахитовая Кастилия.
Ах, я бы дошел, но что-то меня держит.
Некие обстоятельства.Надеюсь, временные!
Свет далеких окон
С новыми порядками мой прежний образ жизни почти не изменился, но тем не менее появилось странное – наряду с захлопывающимися дверками (пространств) – ощущение внезапно подаренного (отнятого?) времени.
Вдумайтесь только – если по мановению волшебной палочки можно замедлить темп большинства живущих на этой планете, то почему нереальным кажется возвращение непрожитого отрезка жизни?
Закроешь глаза и видишь, как вырывается из-под стражи замедленное время, как, будто огромный муравейник, оживает затихший мир, как взрывается миллионом огней, петард, как это все происходит – момент прорыва, выздоровления, – как торжествует былая небрежность, возвращается легкость сближения, касаний, свободы.
Заполненные до отказа ячейки памяти не дают уснуть окончательно. Напротив, все более явственными и отчетливыми становятся воспоминания. Ныряешь в них, будто в волшебный подводный мир, фильтруя и отбрасывая ненужное.
Когда заканчиваются сюжеты, снимки, слова, – на помощь приходят запахи.
Вот так пахнет лак, которым вскрыли паркет в новой квартире. Вот так пахнет рубашка моей первой любви. А это запах августа, густой, глубокий, насыщенный, с легкой горчинкой, – так пахнет зрелая, знающая себе цену, охваченная поздней страстью женщина. О, как хороша она, как беспощадно прекрасна в своей отчаянной смелости накануне долгой зимы.
А это запах нагретого солнцем старого дома, а это аромат моих пятнадцати. А так пахнет выстиранная накануне красная майка – она очень идет мне, восемнадцатилетней, кроме всего прочего, другой майки у меня нет – как и других джинсов, впрочем, но ничего иного мне и не нужно – майка, джинсы, ускользающий август, полупустая платформа метро. А это горечь (разрыва, расставания, отъезда, ухода) двадцати, тридцати – слышишь, как ветви стучат в окно? Как ускоряется шаг?
Шабат, другой, третий, двадцатый – пятнадцати лет как не бывало – кажется, только раскидал все по полкам, только нашел квартиру, только подписал договор, только оплатил – дни, будто вырванные листки чековой книжки банка «Леуми».
Долгие часы (о, уныние, помноженное на знание) в ульпане, дорога домой, низкие потолки, жалюзи, лимонное дерево во дворе, свора голодных котов, сосед сверху, наблюдающий в бинокль.
Как пахнет тоска, как уголком загибается лист недочитанной книжки, как время пролистывает самое себя, застревая на годы. Что там, вдали? Окна казенных корпусов? Запахи страха, напускной бодрости, отчаянья, надежды.
Свет далеких окон, нежность скомканных слов (дай силы не забыть эти лица, ладони, глаза), сопровождающих на каждом ухабе…
Как привычно склоняется к плечу разморенная светом голова, как смягчаются черты, обостренные знанием.
Как пахнет жизнь, подаренная… господи, ни за что, просто так, еще одна.
Новая, неизношенная, целая.
Вот эта женщина, бредущая под раскаленными лучами с прижатой к уху трубкой (я слышу голос, сорванный отчаяньем, – мне тридцать пять, понимаешь? а я ничего не успела) – я вижу ее отсюда, из глубины карантинных (проживаемых один за другим дней) – и слышу запах надвигающейся беды, которую не спутаю с унынием или, допустим, тревогой, – он нарастает, точно снежный ком, и время идущей по пустынной улице (о, гулкость каждого шага в колодце двора!) уж никак не сравнить с сегодняшним, лишенным запаха и вкуса, похожим на бессрочное ожидание то ли начала новой жизни, то ли конца предыдущей.
* * *
Ее ты проживаешь наспех, второпях, не успевая распробовать, – как оно там, за всеми стенами, окнами, рамами, – как же там дышится, как живется.
Вначале была река. Вокруг нее вырос город. Да нет же. Города не было. Ничего еще не было. Ни рыночных площадей, ни тюрем, ни школ, ни соборов, ни таверн.
Вначале была она. Река. Женщина. Мальчик. Дорога. Что-то, видимое только двоим, там, за линией горизонта.
Зеркало. Женщина в нем
Из удивительного в старом австрийском доме – полукруглая ванна, в которой хочется провести остаток жизни. Разумеется, в неге и роскоши. При такой ванне сами собой образуются туфельки, чулки, пояс, пузырьки с золочеными головками, обходительные мужчины с уложенными (один к одному) волосами, крахмальные манишки, развернутые салфетки, дамские шляпки, кучер, бокал из богемского хрусталя, полбутылки лафита, щипчики для кускового сахара, сам, собственно, сахар, да не это быстрорастворимое недоразумение, а такой, знаете ли, чтобы играл на зубах. Образуются неспешные беседы при свечах, бал у румынского посла, перебои с водой и электричеством, конки, трамваи, здание ратуши, томик Шиллера, Брамс, имперский размах и увядание, осыпающаяся штукатурка и проступающая сквозь нее плинфа, византийская вязь и латиница, румыны, венгры, австрияки, немцы, поляки, свиные ребрышки, вымоченные в вине, острый соус, серебряный соусник, красные крыши домов, разбитое сердце, пыль времен, высокие потолки, канделябры, старые фотографии, кружевные перчатки, синагога, костел, улица Эминеску, Штейнберга и Гете, кофе по—венски, скрип половиц, витые решетки, балкон, огромное зеркало, женщина в нем.
Там иначе распорядились пространством, – не мы с вами, а те, кто был здесь до. Точно в старинной шкатулке, выдвигаются секретные ящички, расступаются анфилады, проступают барельефы, вязь решеток и кружево балконов, прохлада и тишина подъездов, кладка стен, подробность лестниц и коридоров, – все перечисленное тесно связано друг с другом, одно бессмысленно без другого, как слова, обращенные в пустоту, речь, лишенная подтекста, теряет богатство эпитета и обертона, становится скудной и топорной, так сквозь сложно устроенный механизм человеческой природы прорывается клекот и лай, мычание и хрип, – как, однако, любовно творил нас создатель, вкладывая речь в уста, даря диапазон, силу, глубину, нежность, страстность, холодность, вежливость, куртуазность, мешая «возвышенное и земное», плоское и рельефное, плотское и чувственное, узкое и широкое, – по мере отдаления возрастает значительность всякой подробности, из которой складывается ткань бытия и, стало быть, многомерность сознания, которое тянется ввысь, разворачивается вслед за горизонтом, устремляется и гаснет, точно лампочка, вкрученная в плафон еще при Франце Иосифе, – гаснут лампочки, тускнеют паркеты, останавливаются часовые механизмы, даже они изнашиваются от соприкосновения с хроносом, что говорить о содержимом выдвинутых ящичков, о париках и камзолах, туфельках и чулках, фраках и перчатках, подъезды не выдают воспоминаний, скрывают сюжеты, оберегают тайны, – они распахиваются перед всяким новым жильцом, пугая темнотой и затхлостью, признаками и призраками многократно возрождающейся жизни, уже никак не связанной с тем, кто жил здесь до, – разворачивается лист-вкладыш, являя внутренний дворик второго этажа, – огромные окна, стертые ступеньки, велосипед со спущенной рамой, кожаный нос собаки в окне, белье сохнет, качели скрипят, женщины в цветастом затрапезном по-прежнему заполняют пространство новыми жизнями, а вот и детская кроватка, в глубине, на дне ее, тюфячок, вдруг примиряющий с ходом времен и чередой событий, – всему свое время, вздыхает часовщик, откладывая в сторону изношенный механизм, нежно позвякивают шестеренки, пружинки и винтики, и чистый детский голос, захлебываясь, смеется чему-то безудержно, и тут же другой, множественный, то старый, складчатый, надорванный, то вновь юный, то женский, то мужской, то скрежет и лязг, то перезвон мельхиоровых ложечек, то кадиш, то вальс, то «верою пали стены иерихонские», – матка боска, геброхт золзен верн, а мохайе, – им вторит орган, колокольная рябь, молитва раввина, высокий голос кантора, и маленький доктор с потрепанным саквояжем вновь идет через двор, на крик ребенка и стон роженицы.
Танжер
До сих пор жалею, что не купила эти картины. Совсем небольшие, – на картонках и дощечках написанные, – нет, достаточно грубо намалеванные, – однако грубость эта – от мастерства – это грубость профессионала, который имеет право на вольность, размах, небрежность.