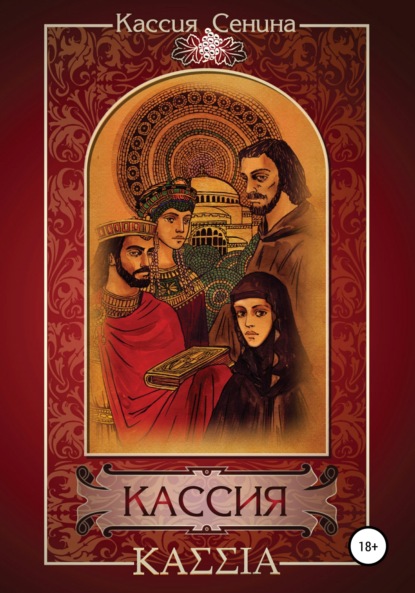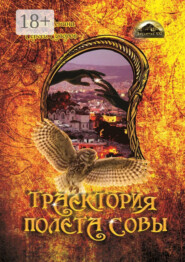По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кассия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, не так, – сказал один из спафарокандидатов. – Христос есть не только человек, но и Бог, а потому изобразить его всё же нельзя, потому что в таком случае вы изображаете одну только плоть, отделяя ее от божества, а это – несторианство!
– Ты ошибаешься, господин, – тихо и немного хрипло проговорил брат Иперехий; простудившись в сырой холодной камере, он то и дело кашлял. – Мы изображаем не плоть Христа, а Его ипостась, а она неделима.
– Да, ведь и на кресте страдала только плоть, а не божество, но мы говорим, что Бог пострадал во плоти! – сказал монах Аммон.
– Совершенно верно, – улыбнулся Антоний. – Когда Христа распинали, божество Его было неотлучно от плоти. Но на иконе присутствует не Сам Христос, а только Его изображение, и нельзя сказать, что это изображение Бога, поскольку божество неизобразимо и не присутствует в иконе.
– Божество в ней присутствует! – ответил Евфимий. – Как в любом церковном символе. Во Христе всё свято, свят и Его характир, а значит, и поклоняем, когда изображается на иконе. А что его можно изобразить, это очевидно.
– Вовсе это не очевидно, – возразил епископ. – Бог-Слово воспринял в Свою ипостась человеческую природу, но если, как вы говорите, у нее есть еще и свой особенный характир, то таким образом вы вводите вторую ипостась. А это – опять ересь Нестория!
– Если Бог воспринял природу без ипостасных особенностей отдельного человека, – сказал монах Игисим, – то как могли бы Христа узнавать те, кто видел Его в земной жизни, и отличать от других людей? Это нелепо.
– Конечно, нелепо, – кивнул Парфений, самый юный из десяти студитов; у него еще даже борода не росла. – Бог-Слово принял в Свою ипостась человеческую природу со всеми ее особенностями, в том числе и с описуемостью.
– Вот еще, и этот молокосос туда же! – асикрит расхохотался. – Да ты-то что понимаешь в догматах? Как ты докажешь свои слова?
– Да он, скорее всего, и не понимает, что говорит! – усмехнулся Арсафий. – Заучил с чужого голоса и повторяет, как попугай!
– Ну же, богослов, скажи нам, почему это, по-твоему, Слово приняло в Свою ипостась природу с характиром? – ядовито спросил асикрит. – Да ты хоть знаешь, что такое характир?
– Знаю не хуже тебя, господин! – ответил Парфений запальчиво, но тут же взял себя в руки и продолжал уже спокойно. – И почему я так сказал, отвечу. Господь воплотился, чтобы спасти человека. Значит, Он должен был стать точно таким же по человечеству, как и мы, потому что, как объясняют отцы, «что не воспринято, то и не уврачевано», то и не спасено. Поэтому Он должен был воспринять плоть со всеми ее особенностями, в том числе с такими, которые отличали его от других людей. А если, по-вашему, у него была плоть без характира и неописуемая, то это какая-то другая плоть, не такая как у нас. Но если так, то Он никого из нас и не спас, и «вы еще во грехах ваших». Если же вы верите, что Он спас нас, то должны верить и в то, что плоть Его была такая же, как у нас, то есть описуемая. Видишь, господин, – монах взглянул на асикрита и улыбнулся, – всё очень просто.
Асикрит вскочил и в гневе воскликнул:
– Он еще учить тут нас будет! Довольно! Мы по горло сыты этими бреднями!
– Тихо, тихо, господин Петр, – сказал Антоний, слегка поморщившись. – Не надо так горячиться. Итак, отцы и братия, – обратился он к монахам, – вы не желаете вступить в общение со святейшими Феодотом?
– Не желаем! – ответил Евфимий. – Мы имеем законного патриарха, святейшего Никифора, и с ним состоим в общении, иного патриарха не знаем и знать не хотим. А тебе, и всем, кто держится с тобой одной ереси, – анафема!
Силейский епископ переглянулся с начальником Претория и встал.
– Жаль мне вас, братия! – вздохнул он, обводя взглядом монахов. – Вы такой же «жестоковыйный род», как и древние иудеи, и так же гневите Бога нечестивым идолопоклонством, как они. За то и пожнете теперь, что посеяли! – и он вышел из помещения, за ним последовали и его спутники.
Арсафий повернулся к одному из стратиотов, охранявших двери и произнес:
– Бичи!
Тот вышел и вскоре вернулся еще с двумя дюжими стратиотами, которые несли несколько бичей из скрученных воловьих жил – высыхая, они становились острыми, как бритвы. Начальник Претория взял их и положил рядом с собой на стол, глаза монахов невольно приковались к ним.
– Ну, – угрожающе сказал патрикий, – последний раз спрашиваю: никто не передумал? Все решительно полагают, что их спина недостаточно хороша без отметин от бичей?
– Эти отметины будут нам лучшим украшением! – ответил Евфимий.
– Вот как? В таком случае, раздевайся! Тебя первого и украсят! – и Арсафий кинул один из бичей плечистому стратиоту.
Тот размахнулся и лихо щелкнул страшным орудием. От этого звука все монахи вздрогнули. Начальник Претория с усмешкой смотрел на них. Посреди комнаты поставили две сдвинутые скамьи, стратиоты схватили Евфимия, который только успел снять мантию и параман, стащили с него хитон и, растянув на скамьях, привязали за руки и ноги толстыми веревками.
– Давай! – кивнул Арсафий стратиоту с бичом. – Пятьдесят!
Бич взлетел и опустился на спину монаха, на ней тут же вспухла красная полоса. Евфимий не издал ни звука. Удары следовали один за другим. Арсафий считал вслух. Вскоре кровь закапала на пол. Братия смотрели молча, почти у всех по лицам текли слезы. Симеон, монастырский больничник, схваченный при попытке тайно передать заключенным в Студийской обители братиям лекарства, которые сам изготовил, с ужасом думал о том, как долго будут заживать эти раны, тем более в тех условиях, в каких содержались заключенные. Парфений после двадцатого удара не выдержал и, зажмурив глаза, ткнулся носом в плечо стоявшему рядом Дорофею. Тот погладил его по голове и подумал: «Господи, если нас сейчас всех так будут бить, выдержит ли этот мальчик?! Господи, помоги Евфимию, помоги всем нам!..»
– Пятьдесят! – наконец, произнес начальник Претория.
Стратиот опустил бич и, отойдя к стене, сел на лавку отдышаться. Лицо его совершенно ничего не выражало, словно бы он выполнял рутинную работу, ничем не примечательную и даже весьма скучную. «Как кирпич какой-то», – подумал Иперехий, исподтишка глядя на него. «Мясник!» – прошептал Афродисий.
Евфимия между тем отвязали от скамеек. Кожа на спине его висела клочьями, кровь лилась ручьями. Он с трудом поднялся, и один из стратиотов кинул ему хитон.
– Ну, что, понравилось? – зло усмехнулся Арсафий и взглянул на остальных монахов. – Кто следующий?
И тут Евфимий, еще не надев хитона, повернулся к студитам, улыбнулся и проговорил:
– Не бойтесь, братия, это ничего не значит!
Лицо его в этот миг было таким светлым, что монахи ахнули. Арсафий, услышав эти слова, на мгновение опешил, а потом лицо патрикия исказилось яростью.
– Ах, ничего не значит? – заорал он. – Ну, так я тебе сейчас добавлю, еретическая гадина, идолопоклонник треклятый!
Схватив со стола новый бич, он хлестнул Евфимия, метя в лицо, но попал по плечу. Монах покачнулся и выронил хитон. Следующий удар сбил его с ног; Арсафий принялся хлестать, не разбирая, куда – по груди, по животу, по ногам; лицо Евфимий старался прикрыть руками. Наконец, патрикий отбросил бич и, подойдя, пнул исповедника носком сапога:
– Вставай, мерзкая тварь!
Евфимий попытался встать, но не смог. Арсафий хотел было опять пнуть его, но тут монах Ефрем не выдержал и крикнул:
– Оставь его, кровопийца! У тебя еще есть, над кем поиздеваться!
Патрикий повернулся к нему, сверкая глазами.
– А, так ты следующий? – он кивнул стратиотам. – Привязывайте этого!
Те схватили Ефрема, сорвали с него одежду и растянули на скамейках. Симеон с Дорофеем помогли Евфимию подняться и одеться, после чего два стратиота увели его; он едва передвигал ноги. За его спиной уже раздавался свист бича; первого стратиота сменил другой и бил сильнее, с оттяжкой, так что почти каждый удар вырывал из тела кусочки плоти.
– Пять! Шесть! Семь! – считал начальник Претория.
Весть о том, что десять братий предали анафеме Антония Силейского и были бичеваны, заключены, а затем изгнаны вон из столицы с запретом приближаться к Городу и переписываться с кем-либо об иконах под угрозой нового бичевания, некоторое время спустя дошла до Саккудиона, а оттуда в Метопу, но не только: рассказ об исповедничестве студийской братии передавался из уст в уста и распространялся все дальше. Иконопочитатели повторяли слова Евфимия: «Не бойтесь, братия, это ничего не значит!» – и воодушевлялись на дальнейшую борьбу. Феодор был потрясен и тут же написал письма всем десятерым, каждому отдельно.
«О, возвышенный твой ум! – писал он Евфимию. – О, твердость твоего сердца! Ты первый был бичуем за Христа и со Христом и после ударов поднялся окровавленный, с растерзанной плотью. Ты не испустил жалобного вопля, не пал на лицо свое, а произнес слова, которые повторяют все…» Подобные письма с похвалами игумен послал и остальным бичеванным, увещевая их в то же время не забываться, но жить трезвенно, чтобы как-нибудь не пасть и не сделать тщетным свое мученичество. Подвиг братий воодушевил игумена, и он стал писать смелее, убеждал не вступать в общение с еретиками, приводил в пример исповедников, призывал к мужеству. В первых числах июня было перехвачено одно из писем Феодора к епископу Халкидонскому Иоанну, изгнанному далеко от Константинополя. Епископ сильно страдал с непривычки к суровым условиям жизни – от природы болезненный, в ссылке он вынужден был перемогаться почти без врачебного ухода, – но не переставал при всяком удобном случае убеждать верующих не общаться с еретиками и разъяснял вопрошавшим догмат иконопочитания. В письме к Иоанну игумен называл иконоборческую ересь «подготовкой к пришествию антихриста» и ободрял епископа: «Чем больше сила нечестия у христоборцев, тем пышнее у нас торжество исповедников, совершенно не уступающих древним Христовым мученикам. Их венец да получишь и ты, треблаженный».
Прочтя это письмо, раздраженный император показал его патриарху, а потом и Грамматику. Иоанн в очередной раз пожалел про себя, что лишен возможности побеседовать со Студийским игуменом: раз отправив Феодора в ссылку, Лев не хотел возвращать его – он слишком боялся влияния Феодора, и чем дальше Студит находился от Константинополя и двора, тем спокойнее чувствовали себя император с патриархом.
– Этого увещевать бесполезно! – сказал Мелиссин в разговоре с василевсом. – В тюрьме ему самое место! А что, августейший, не сослать ли его еще подальше? А то он слишком ретиво пишет свои послания, и они слишком быстро расходятся…
…Вассиан проснулся оттого, что кто-то дотронулся до его плеча. Он открыл глаза, но с таким же успехом мог бы и не делать этого: вокруг была кромешная тьма. Снаружи доносился шум дождя, ливень был сильный. Больше ничего не было слышно, и монах уже решил, что ему почудилось, как вдруг кто-то прикоснулся к его щеке, словно ощупывая. Молниеносным движением Вассиан схватил незнакомца за руку, ощутив, что одежда пришельца была мокрой насквозь; тот молча попытался вырваться, но не смог.
– Люди добрые! – раздался жалобный шепот. – Ради Христа, не губите скитающегося монаха!
– Вот так-так! – тихо проговорил Вассиан, выпуская гостя. – Кто это к нам пожаловал, да еще в такую погоду? Погоди, брат, я зажгу огонь.