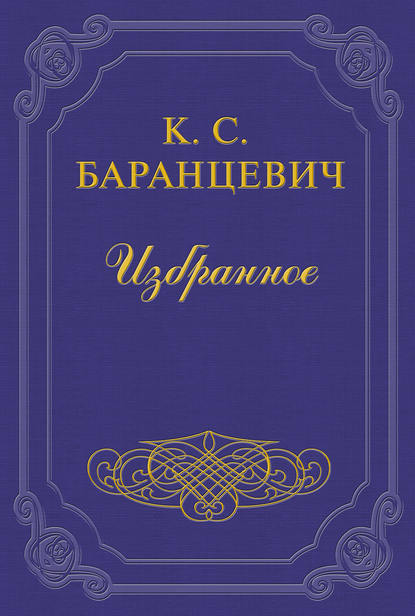По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Котел
Год написания книги
1888
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Котел
Казимир Станиславович Баранцевич
«По кочковатому полю, поросшему мелкой, негодной травой, медленно шел мужчина средних лет, в золотых очках. Солнце было на закате и отбрасывало длинные, узкие тени от чахлой ольхи, возвышавшейся кое-где по краям поля, и от высокой фигуры мужчины. Кругом не было ни души; только ястреб, широко расставив крылья, попискивал в вышине да ворона сидела на кочке и с меланхолическим удивлением смотрела на человека. Казалось, и сам Иван Александрович, врач одной из городских больниц, тоже был немало удивлен своим присутствием в глухом месте: он приостанавливался, смотрел по сторонам, как бы ища дороги, но никакой дороги не было, а было одно унылое поле, окаймленное вдали едва заметной черточкой леса. Через несколько минут Иван Александрович дошел до опушки и в изнеможении опустился на траву. Худощавое лицо его с остроконечной бородкой и морщинами у переносья было злое и расстроенное, воспаленные, сухие глаза хмуро косились из-под очков, а губы судорожно подергивались от несдерживаемого волнения…»
Казимир Станиславович Баранцевич
Котел
По кочковатому полю, поросшему мелкой, негодной травой, медленно шел мужчина средних лет, в золотых очках. Солнце было на закате и отбрасывало длинные, узкие тени от чахлой ольхи, возвышавшейся кое-где по краям поля, и от высокой фигуры мужчины. Кругом не было ни души; только ястреб, широко расставив крылья, попискивал в вышине да ворона сидела на кочке и с меланхолическим удивлением смотрела на человека. Казалось, и сам Иван Александрович, врач одной из городских больниц, тоже был немало удивлен своим присутствием в глухом месте: он приостанавливался, смотрел по сторонам, как бы ища дороги, но никакой дороги не было, а было одно унылое поле, окаймленное вдали едва заметной черточкой леса. Через несколько минут Иван Александрович дошел до опушки и в изнеможении опустился на траву. Худощавое лицо его с остроконечной бородкой и морщинами у переносья было злое и расстроенное, воспаленные, сухие глаза хмуро косились из-под очков, а губы судорожно подергивались от несдерживаемого волнения.
– Экая подлость! – произнес он почти вслух и бывшей в руках палкой с набалдашником из слоновой кости с размаха ударил по земле. Было тихо. Легкий ветерок чуть налетал от леса и приносил неясный, грустный шум деревьев. Далеко на горизонте, в сероватой дымке обрисовывались контуры городских зданий, церквей и фабрик с их высокими, черными трубами, из некоторых узкой лентой лениво тянулся дымок.
Иван Александрович злобно смотрел туда, где был город. Что-то не давало покоя врачу, подмывало встать и идти, и он пересиливал свое желание: откидывался назад, ложился то на один локоть, то на другой, беспрестанно перекидывал ноги одну через другую. Палка мешала ему – он отбросил ее; потом сел, облокотился на придвинутые к груди колени и обеими ладонями закрыл лицо. Так прошло несколько минут. Наконец он отнял руки, и они, как плети, бессильно упали вдоль туловища.
– Изменяет! Женя изменяет! – сказал он сам себе и с удивлением посмотрел вокруг, как бы ища живое лицо, которое бы разделило его недоумение. – Милая, любящая жена… Черт знает что!
Он почувствовал, как от злости кровь бросается ему в голову, и сделал усилие сдержать себя. Но образ предполагаемого любовника не давал ему покоя… Не кто другой, как Карпышев!.. Глупый фатишка, всегда неприлично щегольски одет…
«И на такого… на такое умственное убожество променять меня! – внутренно воскликнул Иван Александрович, чувствуя необыкновенную жалость к самому себе. – Ну, как бы там ни было, а в… письме ясно говорится… Досадно ужасно, что я его изорвал… Следовало бы тщательно рассмотреть… Может быть…»
Мысль о том, что полученная им утром анонимная записка могла быть написана из злобы каким-нибудь отвергнутым воздыхателем и оказаться клеветой, вздором и столь любимый им покой семейного счастья мог бы вернуться снова, – на минуту приятно оживила Ивана Александровича. Он приосанился, поправил очки и уже намеревался идти обратно в город, но внезапно новый прилив злобы овладел им.
«Утешился! Словно малый ребенок? – подумал он. – Эдак все можно оправдать! Как же! И как будто в письме дело! Э, дело-то уж давно… давно… только я не замечал, или… черт… у нас не принято замечать!..»
Иван Александрович вспомнил, что мысль об измене жены давно приходила ему в голову, но он не давал разрастаться подозрениям, боясь выдать себя и прослыть ревнивцем, – ревнивцы отвратительны и смешны. А рогатые мужья? В тысячу раз смешнее! Может быть, над ним уже смеялись, а он не замечал? Припомнился ему журфикс у Гомзиных, где что-то было в этом роде. Читали что-то подходящее, потом начались споры, и кто-то насмешливо посмотрел на него. Кто, бишь, это был? А, да чуть ли не Карпышев? Мерзавец!
Иван Александрович сцепил пальцы обеих рук так что суставы хрустнули.
Солнце становилось все ниже и ниже. Безоблачное небо подернулось дымкой, тонкой, как кисея, и в этой дымке солнце казалось медным шаром. Густые тени ложились по скатам холмов, на которых раскинулся город, тонувший в сероватом налете; только в одном месте, далеко на взгорье, крошечное окно, освещенное лучом света, горело и переливалось как алмаз. В тишине слышно было, как от города слабо доносился непрестанный шум, похожий на тот, который слышится на заводах от действия парового котла: то был шум от дрожек, от движения пешеходов, от нестройного хора звонков, носившихся над нестихающим городом.
«Как, однако, похоже на котел», – подумал Иван Александрович.
Он задумался по поводу этого сравнения. Сотни тысяч людей – сытых и голодных, счастливых и обиженных судьбою, скученных в каменных стенах, людей с самыми разнообразными стремлениями, страстями, пороками, – казались брошенными в один громадный котел, который бурлил и кипел и будет кипеть бесконечное число лет, сколько бы ни сменилось в нем поколений. Иван Александрович стал вспоминать, как он очутился в «котле»… Юношей приехал он в город, поступил в университет. Профессора, лекции, товарищи – полная умственного интереса, яркая полоска жизни только мелькнула в воспоминании и потонула в темной бездне прошедших лет, а эпизод первой встречи с Женей припомнился во всех мелочах, как будто он произошел только вчера. Иван Александрович служил уже врачом при больнице и имел кое-какую практику. На журфиксе у Гомзиных (единственных знакомых в городе) появилась девица, обратившая внимание Ивана Александровича. Она была очень недурна собою, держалась без обычного всем девицам принуждения и болтала свободно, предпочитая общество мужчин. Ее суждения были метки и оригинальны, манера выражаться сжато и определенно выделяла ее из общества. Иван Александрович захотел поближе познакомиться с Евгенией Михайловной и добился приглашения от мамаши. Мамаша ему не понравилась, но, проведя весь вечер в веселой, оживленной болтовне с дочерью, он ушел, почувствовав себя влюбленным… В первые дни женитьбы Иван Александрович чувствовал себя на седьмом небе. Сколько глубокого тихого счастья сулила ему жизнь с любящей женой!
«За что, за что мне это? – думалось ему, когда по вечерам он отдыхал в кабинете, а Женя, примостившись на скамеечке у его ног, склоняла голову ему на колени, – за что мне такое счастье?»
Однако в течение первого же года он подметил в характере жены неприятно поразившую его черту – кокетство. Но так как в том среднем круге, в котором он вращался, маленькое кокетство являлось как бы необходимым украшением женщины, Иван Александрович постарался убедить себя, что это не только не беда, а что это очень мило, придает особенную прелесть молодой женщине, и случалось, возвратясь из больницы, спрашивал, был ли кто у них.
– Да, был, – простодушно отвечала жена, – Карпышев заходил.
– Кокетничала?
Евгения Михайловна опускала глазки и молчала…
«Точно сам толкал ее на эту дорогу, – думал Иван Александрович. – Точно нравилось, что за ней ухаживают, а она позволяет. А какое нравилось! Просто с волками жить, приходилось по-волчьи выть!»
Поочередно припоминались Ивану Александровичу все, с кем они были знакомы. Деньков, товарищ по больнице, ревностный врач, весь ушедший в хирургию, вечно со скальпелем, зарыт в книжках; жена, пустая, легкомысленная бабенка, читает глупые романы с убийствами; полковник Пузырев – весельчак, душа общества, чего бы, кажется, – а про жену, Анну Павловну, под сурдинку рассказываются невозможные вещи; правитель канцелярии Дерибасов только что женился, а барынька каждый день по клубам!..
Вот это и был тот «котел», в котором гибла всякая чистая, свежая натура, в котором тонущие топили других и на поверхность которого по временам выплывала накипь в виде грязной истории какой-нибудь Анны Павловны, вовремя не успевшей спрятать концы. Тогда все общество внезапно проникалось бог весть откуда взявшимся благородным негодованием и с каким-то особенным остервенением клеймило позором несчастную жертву.
Иван Александрович сидел неподвижно, сложив руки на коленях, и думал, думал, стараясь объяснить себе причину всех этих «падений», этой ржавчины, разъедающей строй современной семейной жизни, и никак ни до чего додуматься не мог. Подобно тучкам в непогоду, которые плывут и сталкиваются в разных направлениях, сцепляются, разъединяются и гонятся одна за другой, – мысли его так же беспорядочно неслись одна за другой и сцеплялись в какое-то подобие выводов, из которых, однако, ровно ничего не выходило.
«Дурное воспитание? Отсутствие чувства долга? Праздность? – перебирал в уме Иван Александрович. – Кто знает! А может быть, все вместе? Может быть, уж такова атмосфера, которой мы дышим? Вся мужья рогаты – отчего же не быть рогатым и мне? О жене, поди-кась, теперь соболезнуют. Бедная Евгения Михайловна: муж увалень, нелюдим, держал ее чуть не под замком! Никаких развлечений, а если куда и пойдет – все одна, одна! Ну, понятно, бедняжка увлеклась… Кем? Карпышевым! Ничтожеством в модном цилиндре! Ха!»
Иван Александрович судорожно, с омерзением повел плечами.
«Карпышев пуст, неразвит, – думал он через минуту, – но этот идиот сумел провести меня, а я считаю себя человеком неглупым. Как же это случилось? Зачем я его принимал? Подозрений не было, что ли? Подозрения были, и отделаться от Карпышева хотелось, да нельзя было, – это уж был бы скандал. Ну, и приходилось смотреть сквозь пальцы на ухаживания шалопая, боясь, чтобы это не зашло далеко! Экая мерзость, фальшь!»
Иван Александрович вспомнил последний эпизод с письмом… Сделано цинически-просто: по почте посылается письмо с предупреждением следить за молодым человеком, судя по намекам – Карпышевым, дескать: «Действуй, а мы будем любоваться муками ревности, смеяться исподтишка». Прочитав письмо, Иван Александрович растерялся, не знал, что делать; чуть было не бросился к жене требовать объяснений. Что-то удержало его от этого шага, но он уже не мог ни выжидать, ни прикинуться спокойным, ни даже оставаться на одном месте. Его потянуло на воздух, где бы он мог оставаться один. Он нанял извозчика и поехал за город, просто куда глаза глядят, потом расплатился с извозчиком и пришел на это поле.
Иван Александрович еще раз окинул взглядом окрестность. Небо потемнело, облачка из розовых превратились в серовато-лиловые. В влажном воздухе стлался белый туман; сумерки совершенно окутали город; только прежний, непрерывный шум доносился оттуда да в разных местах появлялись огоньки фонарей.
«Что же дальше? – думал Иван Александрович, закрывая лицо руками. – Вызвать Карпышева? Кто же теперь стреляется? И наконец, зачем же я, врач, стану подставлять лоб под пулю… черт знает кого? Да он и не примет вызова! Плюнуть на них и уйти, уехать в другой город? Это, конечно, самое лучшее…» Иван Александрович встал, отыскал в траве свою палку и, помахивая ею, в раздумье прошелся несколько раз взад и вперед.
«Так сразу уйти нельзя! – думал Иван Александрович. – Нужно подать прошение об отставке, сдать больных, найти новое место… Ну, и Женю надо обеспечить…»
Он вспомнил, что с неделю только назад заказал жене шикарное пальто. Пальто это должны были принести на днях, и за него нужно было отдать порядочную сумму денег.
«Экой вздор какой лезет в голову, – поймал себя Иван Александрович: – на карте вся последующая жизнь, а я о пальто! Ну, принесут, ну и черт с ним! Нужно придумать, как и что… Объясниться с Женей? Опять слезы, жалобы, игра в благородное негодование и дутье на целую неделю… Да и на что мне, если я сам вижу?.. А что я вижу? Какому-то негодяю вздумалось оклеветать жену, а я и поверил. Положим, я не поверил… А что же нужно, чтобы поверить? Нужно прикинуться незнающим, а между тем следить… Тьфу, какая мерзость! Да и зачем? Ведь не развода же я добиваюсь… Достаточно потерять веру в человека… Но вот что: люблю ли я ее или нет? Черт знает, – кажется, люблю больше, чем прежде. Это какая-то особая, ревнивая любовь: любишь и ненавидишь, и хочется быть там, подле!..»
В состоянии полнейшей умственной апатии, в каком бывает человек много думавший и не пришедший ни к какому решению, Иван Александрович, не замечая того, шел по направлению к городу. Лес и поле остались далеко позади, по дороге начали встречаться дачи, постоялые дворы, трактиры, замелькали ряды фонарей, задребезжали дрожки. Звонок конно-железки, раздавшийся над самым ухом Ивана Александровича в то время, когда он заносил ногу на подножку пролетки, заставил его вздрогнуть и прийти в себя.
– Что же это я делаю? – спрашивал он себя, откинувшись в глубину поднятого верха пролетки и рассеянно глядя в спину извозчику. – Зачем я еду? Я мог переночевать в гостинице, а утром…
Но мысль о том, что и как нужно сделать утром, плелась лениво и бессвязно.
«Буду думать о другом! – решил он. – Вот я приеду и застану их вместе. О, тогда руки развязаны, тогда можно кончить все разом!»
Он с усилием придумывал слова и строил речи, которые будет говорить. Ему припомнился акт французской пьесы, где муж застает жену с любовником. Чрезвычайно умно, с достоинством говорил муж, и его речи производили сильное впечатление на зрителей. Вот так же будет вести себя и он… «Евгения Михайловна, – скажет он, – вам угодно было…» или: «Вы решились изменить долгу…»
И вдруг мысли Ивана Александровича приняли крутой оборот.
– Э, черт! – воскликнул он, – что мы за маркизы XVIII столетия! Я простой, русский человек, труженик, работающий по четырнадцати часов в сутки, стану еще деликатничать! Недаром крещусь двухпудовой гирей: он у меня своим медным лбом… А этой дряни… Дряни? – укоризненно заметил он себе. – Эх, Иван Александрыч, Иван Александрыч!.. Извозчик! – крикнул он, дрожа от злости, – как ты едешь, черт тебя побери?! Пошел скорее!
«Ах, боже мой, боже мой, что же это со мною? И зачем я читал проклятое письмо?»
Извозчик медленно подъехал к подъезду. Иван Александрович медленно, как старик, сошел с пролетки и медленно стал взбираться по лестнице. У дверей квартиры он постоял в раздумье и нерешительно позвонил; потом, войдя в переднюю, снял пальто на руки горничной и медленно прошел в кабинет.
Опустившись в кресло перед письменным столом, Иван Александрович сжал ладонями оба виска и долго, бессмысленно смотрел на порт-папье – подарок жены, потом медленно перевел глаза на портрет жены. Тонкая, воздушная фигура молодой женщины словно выступала из бархатной рамки портрета; вздернутый носик и смеющиеся глаза точно поддразнивали, говоря: «Вот какая я веселая! Хочу смеяться, любить, жить не задумываясь, а ты… ты – рабочая лошадь!»
– У ней губы чересчур пухлые! – пробормотал Иван Александрович. – Признак чувственности! А я не замечал раньше!
Он встал, с громом откатил кресло и, отойдя в слабо освещенный угол, лег на диван. Он лежал долго, ни о чем не думая, рассматривая рисунок обоев. Рисунок был нелеп, да и все, вся жизнь была нелепа!..
В тишине монотонно стучали каминные часы; из дальних комнат, где была прислуга, слабо доносился шорох и отрывочные слова. Иван Александрович поднялся с дивана, отошел в угол и нажал пуговку звонка.
Вошла горничная. Ивану Александровичу показалось, что она бросила на него любопытный взгляд.
– Дома барыня? – спросил он.
Казимир Станиславович Баранцевич
«По кочковатому полю, поросшему мелкой, негодной травой, медленно шел мужчина средних лет, в золотых очках. Солнце было на закате и отбрасывало длинные, узкие тени от чахлой ольхи, возвышавшейся кое-где по краям поля, и от высокой фигуры мужчины. Кругом не было ни души; только ястреб, широко расставив крылья, попискивал в вышине да ворона сидела на кочке и с меланхолическим удивлением смотрела на человека. Казалось, и сам Иван Александрович, врач одной из городских больниц, тоже был немало удивлен своим присутствием в глухом месте: он приостанавливался, смотрел по сторонам, как бы ища дороги, но никакой дороги не было, а было одно унылое поле, окаймленное вдали едва заметной черточкой леса. Через несколько минут Иван Александрович дошел до опушки и в изнеможении опустился на траву. Худощавое лицо его с остроконечной бородкой и морщинами у переносья было злое и расстроенное, воспаленные, сухие глаза хмуро косились из-под очков, а губы судорожно подергивались от несдерживаемого волнения…»
Казимир Станиславович Баранцевич
Котел
По кочковатому полю, поросшему мелкой, негодной травой, медленно шел мужчина средних лет, в золотых очках. Солнце было на закате и отбрасывало длинные, узкие тени от чахлой ольхи, возвышавшейся кое-где по краям поля, и от высокой фигуры мужчины. Кругом не было ни души; только ястреб, широко расставив крылья, попискивал в вышине да ворона сидела на кочке и с меланхолическим удивлением смотрела на человека. Казалось, и сам Иван Александрович, врач одной из городских больниц, тоже был немало удивлен своим присутствием в глухом месте: он приостанавливался, смотрел по сторонам, как бы ища дороги, но никакой дороги не было, а было одно унылое поле, окаймленное вдали едва заметной черточкой леса. Через несколько минут Иван Александрович дошел до опушки и в изнеможении опустился на траву. Худощавое лицо его с остроконечной бородкой и морщинами у переносья было злое и расстроенное, воспаленные, сухие глаза хмуро косились из-под очков, а губы судорожно подергивались от несдерживаемого волнения.
– Экая подлость! – произнес он почти вслух и бывшей в руках палкой с набалдашником из слоновой кости с размаха ударил по земле. Было тихо. Легкий ветерок чуть налетал от леса и приносил неясный, грустный шум деревьев. Далеко на горизонте, в сероватой дымке обрисовывались контуры городских зданий, церквей и фабрик с их высокими, черными трубами, из некоторых узкой лентой лениво тянулся дымок.
Иван Александрович злобно смотрел туда, где был город. Что-то не давало покоя врачу, подмывало встать и идти, и он пересиливал свое желание: откидывался назад, ложился то на один локоть, то на другой, беспрестанно перекидывал ноги одну через другую. Палка мешала ему – он отбросил ее; потом сел, облокотился на придвинутые к груди колени и обеими ладонями закрыл лицо. Так прошло несколько минут. Наконец он отнял руки, и они, как плети, бессильно упали вдоль туловища.
– Изменяет! Женя изменяет! – сказал он сам себе и с удивлением посмотрел вокруг, как бы ища живое лицо, которое бы разделило его недоумение. – Милая, любящая жена… Черт знает что!
Он почувствовал, как от злости кровь бросается ему в голову, и сделал усилие сдержать себя. Но образ предполагаемого любовника не давал ему покоя… Не кто другой, как Карпышев!.. Глупый фатишка, всегда неприлично щегольски одет…
«И на такого… на такое умственное убожество променять меня! – внутренно воскликнул Иван Александрович, чувствуя необыкновенную жалость к самому себе. – Ну, как бы там ни было, а в… письме ясно говорится… Досадно ужасно, что я его изорвал… Следовало бы тщательно рассмотреть… Может быть…»
Мысль о том, что полученная им утром анонимная записка могла быть написана из злобы каким-нибудь отвергнутым воздыхателем и оказаться клеветой, вздором и столь любимый им покой семейного счастья мог бы вернуться снова, – на минуту приятно оживила Ивана Александровича. Он приосанился, поправил очки и уже намеревался идти обратно в город, но внезапно новый прилив злобы овладел им.
«Утешился! Словно малый ребенок? – подумал он. – Эдак все можно оправдать! Как же! И как будто в письме дело! Э, дело-то уж давно… давно… только я не замечал, или… черт… у нас не принято замечать!..»
Иван Александрович вспомнил, что мысль об измене жены давно приходила ему в голову, но он не давал разрастаться подозрениям, боясь выдать себя и прослыть ревнивцем, – ревнивцы отвратительны и смешны. А рогатые мужья? В тысячу раз смешнее! Может быть, над ним уже смеялись, а он не замечал? Припомнился ему журфикс у Гомзиных, где что-то было в этом роде. Читали что-то подходящее, потом начались споры, и кто-то насмешливо посмотрел на него. Кто, бишь, это был? А, да чуть ли не Карпышев? Мерзавец!
Иван Александрович сцепил пальцы обеих рук так что суставы хрустнули.
Солнце становилось все ниже и ниже. Безоблачное небо подернулось дымкой, тонкой, как кисея, и в этой дымке солнце казалось медным шаром. Густые тени ложились по скатам холмов, на которых раскинулся город, тонувший в сероватом налете; только в одном месте, далеко на взгорье, крошечное окно, освещенное лучом света, горело и переливалось как алмаз. В тишине слышно было, как от города слабо доносился непрестанный шум, похожий на тот, который слышится на заводах от действия парового котла: то был шум от дрожек, от движения пешеходов, от нестройного хора звонков, носившихся над нестихающим городом.
«Как, однако, похоже на котел», – подумал Иван Александрович.
Он задумался по поводу этого сравнения. Сотни тысяч людей – сытых и голодных, счастливых и обиженных судьбою, скученных в каменных стенах, людей с самыми разнообразными стремлениями, страстями, пороками, – казались брошенными в один громадный котел, который бурлил и кипел и будет кипеть бесконечное число лет, сколько бы ни сменилось в нем поколений. Иван Александрович стал вспоминать, как он очутился в «котле»… Юношей приехал он в город, поступил в университет. Профессора, лекции, товарищи – полная умственного интереса, яркая полоска жизни только мелькнула в воспоминании и потонула в темной бездне прошедших лет, а эпизод первой встречи с Женей припомнился во всех мелочах, как будто он произошел только вчера. Иван Александрович служил уже врачом при больнице и имел кое-какую практику. На журфиксе у Гомзиных (единственных знакомых в городе) появилась девица, обратившая внимание Ивана Александровича. Она была очень недурна собою, держалась без обычного всем девицам принуждения и болтала свободно, предпочитая общество мужчин. Ее суждения были метки и оригинальны, манера выражаться сжато и определенно выделяла ее из общества. Иван Александрович захотел поближе познакомиться с Евгенией Михайловной и добился приглашения от мамаши. Мамаша ему не понравилась, но, проведя весь вечер в веселой, оживленной болтовне с дочерью, он ушел, почувствовав себя влюбленным… В первые дни женитьбы Иван Александрович чувствовал себя на седьмом небе. Сколько глубокого тихого счастья сулила ему жизнь с любящей женой!
«За что, за что мне это? – думалось ему, когда по вечерам он отдыхал в кабинете, а Женя, примостившись на скамеечке у его ног, склоняла голову ему на колени, – за что мне такое счастье?»
Однако в течение первого же года он подметил в характере жены неприятно поразившую его черту – кокетство. Но так как в том среднем круге, в котором он вращался, маленькое кокетство являлось как бы необходимым украшением женщины, Иван Александрович постарался убедить себя, что это не только не беда, а что это очень мило, придает особенную прелесть молодой женщине, и случалось, возвратясь из больницы, спрашивал, был ли кто у них.
– Да, был, – простодушно отвечала жена, – Карпышев заходил.
– Кокетничала?
Евгения Михайловна опускала глазки и молчала…
«Точно сам толкал ее на эту дорогу, – думал Иван Александрович. – Точно нравилось, что за ней ухаживают, а она позволяет. А какое нравилось! Просто с волками жить, приходилось по-волчьи выть!»
Поочередно припоминались Ивану Александровичу все, с кем они были знакомы. Деньков, товарищ по больнице, ревностный врач, весь ушедший в хирургию, вечно со скальпелем, зарыт в книжках; жена, пустая, легкомысленная бабенка, читает глупые романы с убийствами; полковник Пузырев – весельчак, душа общества, чего бы, кажется, – а про жену, Анну Павловну, под сурдинку рассказываются невозможные вещи; правитель канцелярии Дерибасов только что женился, а барынька каждый день по клубам!..
Вот это и был тот «котел», в котором гибла всякая чистая, свежая натура, в котором тонущие топили других и на поверхность которого по временам выплывала накипь в виде грязной истории какой-нибудь Анны Павловны, вовремя не успевшей спрятать концы. Тогда все общество внезапно проникалось бог весть откуда взявшимся благородным негодованием и с каким-то особенным остервенением клеймило позором несчастную жертву.
Иван Александрович сидел неподвижно, сложив руки на коленях, и думал, думал, стараясь объяснить себе причину всех этих «падений», этой ржавчины, разъедающей строй современной семейной жизни, и никак ни до чего додуматься не мог. Подобно тучкам в непогоду, которые плывут и сталкиваются в разных направлениях, сцепляются, разъединяются и гонятся одна за другой, – мысли его так же беспорядочно неслись одна за другой и сцеплялись в какое-то подобие выводов, из которых, однако, ровно ничего не выходило.
«Дурное воспитание? Отсутствие чувства долга? Праздность? – перебирал в уме Иван Александрович. – Кто знает! А может быть, все вместе? Может быть, уж такова атмосфера, которой мы дышим? Вся мужья рогаты – отчего же не быть рогатым и мне? О жене, поди-кась, теперь соболезнуют. Бедная Евгения Михайловна: муж увалень, нелюдим, держал ее чуть не под замком! Никаких развлечений, а если куда и пойдет – все одна, одна! Ну, понятно, бедняжка увлеклась… Кем? Карпышевым! Ничтожеством в модном цилиндре! Ха!»
Иван Александрович судорожно, с омерзением повел плечами.
«Карпышев пуст, неразвит, – думал он через минуту, – но этот идиот сумел провести меня, а я считаю себя человеком неглупым. Как же это случилось? Зачем я его принимал? Подозрений не было, что ли? Подозрения были, и отделаться от Карпышева хотелось, да нельзя было, – это уж был бы скандал. Ну, и приходилось смотреть сквозь пальцы на ухаживания шалопая, боясь, чтобы это не зашло далеко! Экая мерзость, фальшь!»
Иван Александрович вспомнил последний эпизод с письмом… Сделано цинически-просто: по почте посылается письмо с предупреждением следить за молодым человеком, судя по намекам – Карпышевым, дескать: «Действуй, а мы будем любоваться муками ревности, смеяться исподтишка». Прочитав письмо, Иван Александрович растерялся, не знал, что делать; чуть было не бросился к жене требовать объяснений. Что-то удержало его от этого шага, но он уже не мог ни выжидать, ни прикинуться спокойным, ни даже оставаться на одном месте. Его потянуло на воздух, где бы он мог оставаться один. Он нанял извозчика и поехал за город, просто куда глаза глядят, потом расплатился с извозчиком и пришел на это поле.
Иван Александрович еще раз окинул взглядом окрестность. Небо потемнело, облачка из розовых превратились в серовато-лиловые. В влажном воздухе стлался белый туман; сумерки совершенно окутали город; только прежний, непрерывный шум доносился оттуда да в разных местах появлялись огоньки фонарей.
«Что же дальше? – думал Иван Александрович, закрывая лицо руками. – Вызвать Карпышева? Кто же теперь стреляется? И наконец, зачем же я, врач, стану подставлять лоб под пулю… черт знает кого? Да он и не примет вызова! Плюнуть на них и уйти, уехать в другой город? Это, конечно, самое лучшее…» Иван Александрович встал, отыскал в траве свою палку и, помахивая ею, в раздумье прошелся несколько раз взад и вперед.
«Так сразу уйти нельзя! – думал Иван Александрович. – Нужно подать прошение об отставке, сдать больных, найти новое место… Ну, и Женю надо обеспечить…»
Он вспомнил, что с неделю только назад заказал жене шикарное пальто. Пальто это должны были принести на днях, и за него нужно было отдать порядочную сумму денег.
«Экой вздор какой лезет в голову, – поймал себя Иван Александрович: – на карте вся последующая жизнь, а я о пальто! Ну, принесут, ну и черт с ним! Нужно придумать, как и что… Объясниться с Женей? Опять слезы, жалобы, игра в благородное негодование и дутье на целую неделю… Да и на что мне, если я сам вижу?.. А что я вижу? Какому-то негодяю вздумалось оклеветать жену, а я и поверил. Положим, я не поверил… А что же нужно, чтобы поверить? Нужно прикинуться незнающим, а между тем следить… Тьфу, какая мерзость! Да и зачем? Ведь не развода же я добиваюсь… Достаточно потерять веру в человека… Но вот что: люблю ли я ее или нет? Черт знает, – кажется, люблю больше, чем прежде. Это какая-то особая, ревнивая любовь: любишь и ненавидишь, и хочется быть там, подле!..»
В состоянии полнейшей умственной апатии, в каком бывает человек много думавший и не пришедший ни к какому решению, Иван Александрович, не замечая того, шел по направлению к городу. Лес и поле остались далеко позади, по дороге начали встречаться дачи, постоялые дворы, трактиры, замелькали ряды фонарей, задребезжали дрожки. Звонок конно-железки, раздавшийся над самым ухом Ивана Александровича в то время, когда он заносил ногу на подножку пролетки, заставил его вздрогнуть и прийти в себя.
– Что же это я делаю? – спрашивал он себя, откинувшись в глубину поднятого верха пролетки и рассеянно глядя в спину извозчику. – Зачем я еду? Я мог переночевать в гостинице, а утром…
Но мысль о том, что и как нужно сделать утром, плелась лениво и бессвязно.
«Буду думать о другом! – решил он. – Вот я приеду и застану их вместе. О, тогда руки развязаны, тогда можно кончить все разом!»
Он с усилием придумывал слова и строил речи, которые будет говорить. Ему припомнился акт французской пьесы, где муж застает жену с любовником. Чрезвычайно умно, с достоинством говорил муж, и его речи производили сильное впечатление на зрителей. Вот так же будет вести себя и он… «Евгения Михайловна, – скажет он, – вам угодно было…» или: «Вы решились изменить долгу…»
И вдруг мысли Ивана Александровича приняли крутой оборот.
– Э, черт! – воскликнул он, – что мы за маркизы XVIII столетия! Я простой, русский человек, труженик, работающий по четырнадцати часов в сутки, стану еще деликатничать! Недаром крещусь двухпудовой гирей: он у меня своим медным лбом… А этой дряни… Дряни? – укоризненно заметил он себе. – Эх, Иван Александрыч, Иван Александрыч!.. Извозчик! – крикнул он, дрожа от злости, – как ты едешь, черт тебя побери?! Пошел скорее!
«Ах, боже мой, боже мой, что же это со мною? И зачем я читал проклятое письмо?»
Извозчик медленно подъехал к подъезду. Иван Александрович медленно, как старик, сошел с пролетки и медленно стал взбираться по лестнице. У дверей квартиры он постоял в раздумье и нерешительно позвонил; потом, войдя в переднюю, снял пальто на руки горничной и медленно прошел в кабинет.
Опустившись в кресло перед письменным столом, Иван Александрович сжал ладонями оба виска и долго, бессмысленно смотрел на порт-папье – подарок жены, потом медленно перевел глаза на портрет жены. Тонкая, воздушная фигура молодой женщины словно выступала из бархатной рамки портрета; вздернутый носик и смеющиеся глаза точно поддразнивали, говоря: «Вот какая я веселая! Хочу смеяться, любить, жить не задумываясь, а ты… ты – рабочая лошадь!»
– У ней губы чересчур пухлые! – пробормотал Иван Александрович. – Признак чувственности! А я не замечал раньше!
Он встал, с громом откатил кресло и, отойдя в слабо освещенный угол, лег на диван. Он лежал долго, ни о чем не думая, рассматривая рисунок обоев. Рисунок был нелеп, да и все, вся жизнь была нелепа!..
В тишине монотонно стучали каминные часы; из дальних комнат, где была прислуга, слабо доносился шорох и отрывочные слова. Иван Александрович поднялся с дивана, отошел в угол и нажал пуговку звонка.
Вошла горничная. Ивану Александровичу показалось, что она бросила на него любопытный взгляд.
– Дома барыня? – спросил он.