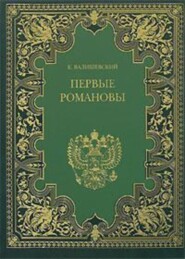По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сын Екатерины Великой. (Павел I)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Рижский цензурный комитет, в котором председательствовал Туманский – имя известное в литературном мартирологе страны, – выделялся своим усердием. Пастор в Рандене, в Лифляндии, некто Зейдер, устроил читальню. Однажды путем объявления, помещенного в местной газете, он требовал назад книгу, возвращения которой тщетно ожидал. Это сочинение Власть любви, принадлежавшее перу знаменитого немецкого романиста Лафонтена, было совершенно невинно. В Риге однако судили иначе. Туманским был послан донос в Петербург. Государь приказал арестовать «виновного» и подвергнуть его «телесному наказанию». Не было ни дознания, ни следствия, ни допроса, ни защиты. Несчастный пастор предстал перед судьями лишь для того, чтобы выслушать решение суда, приговорившего его к наказанию кнутом и каторжным работам в Сибири!
Это совершенно то же судопроизводство, какое велось в Революционном суде в том виде, в каком он действовал незадолго до того в Париже.
Пощаженный палачом, которому он отдал за это свои часы, но отправленный в кандалах в Нерчинские рудники, Зейдер томился там недолго. Он был сослан в июне 1800 года, а в следующем году, по восшествии на престол Александра I, вернулся в Петербург. В честь его возвращения был устроен банкет, и ему передали деньги, собранные в его пользу. Кроме того он получил приход в самой Гатчине, где и умер в 1834 году, уже в преклонных летах. Постигшее его испытание, хотя и непродолжительное, было однако жестоко – и так мало заслужено!
В том же 1800 году, в апреле, был дан именной указ императора Павла, запрещавший привозить из-за границы всякого рода печатные произведения, – не исключая даже музыкальных! А между тем, в то же самое время, этот человек аплодировал знаменитому произведению Капниста «Ябеда», сатирической картине правосудия и бюрократизма его родины, представление которой не было разрешено Екатериной.
Царь принял посвященные ему пьесы, не потрудившись, правда, ее прочесть. Появившись на сцене, вместе с энтузиазмом у большинства зрителей, она возбудила и негодующие протесты чиновников и судей, выставленных на позор. Тогда Павел возмутился и решил ознакомиться с тем, что он одобрил. Он присутствует, в обществе только своего сына, на представлении в театре Эрмитажа и, против всякого ожидания, выносит впечатление благоприятное для автора. Так как собственная гордость не давала ему почувствовать себя лично задетым сатирой, направленной против его подчиненных, то его презрение к ним нашло себе в ней удовлетворение. Капнист получил поздравления, чин статского советника и щедрую награду.
Теоретически Павел оставался в сущности еще и теперь либеральным и гуманным, как в идеях, которые он проповедовал, так и в реформах, посредством которых он старался их проводить. Только, как в той революционной Франции, от которой он собирался отделить свою империю китайской стеной, его идеал, такой же независимый, как тот, который она сама стремилась воплотить в факты, переходя в область действительности, вырождался в насилие и жестокость.
Прежде чем сделать убийство обычным явлением, французские революционеры тоже принимали облик гуманности и даже религиозности. Они участили обращение к Высшему Существу, как и призывы ко всеобщему братству. Даже сделавшись открыто поставщиком гильотины, Фукье-Тенвиль остался в своей частной жизни самым благодушным из людей, хорошим отцом семейства и честным гражданином. Более неуравновешенный, Павел не сумел оградить даже свою домашнюю жизнь от несдержанности своего ума и характера; но в тот момент, когда отечество Фукье-Тенвиля вырывалось из объятий террористов, он хотел организовать в России террор, как основу своего управления.
VI
Вдали от Парижа, вдали также от старой Москвы и ее лобного места, где гнев мстительных царей и ярость бунтующей толпы сменяли друг друга в течение веков, Петербург, вскоре после Термидора, увидел свою «Гревскую площадь», менее кровопролитную, но все же достаточно зловещую.
На «плац-параде» Павел подражает Фридриху. Он отдает приказания, принимает служебные рапорты, велит представлять себе новых офицеров, объявляет награды и наказания и, как и прусский король, но еще подробнее, делает смотры своим полкам. Он исследует отдельно прическу каждого солдата, измеряет длину кос, проверяет качество и количество пудры в волосах. Он следит за учением; «окруженный своими сыновьями и адъютантами, стуча ногами, чтобы согреться, с непокрытой и лысой головой, с вздернутым носом, одну руку заложив за спину, – как тот великий человек, – а другой поднимая и опуская в такт палку, он отбивает шаг: раз, два! раз, два! и создает себе славу, как говорит Массон, тем, что все это делает без шубы, невзирая на пятнадцать или двадцать градусов мороза». Шубы не разрешаются даже старым, страдающим ревматизмом, генералам! Нет пощады солдатам, недостаточно ловко поднимающим в такт ногу, или офицерам, неловко владеющим эспонтоном: ругань и удары! Павел находит недостатки даже в произнесении команды. Слова ее тоже изменены: источник роковых недоразумений. Напрасно император напрягает свой гнусливый голос, крича: марш! «на немецкий» лад, как бы ему хотелось, а вернее на «французский», так как слова, заимствованные им из прусского устава, большей частью французские; солдаты, привыкшие к русскому ступай! не двигаются с места: брань и удары.
Но как бы ни были утомительны эти занятия, Павел создает себе на том же плац-параде еще много других. Он делает из него любимое место для всякой работы, канцелярию, аудиенц-зал и судилище. Там он совещается; там назначает свидания разным лицам, с которыми ему нужно переговорить, и там же постановляет решения. Весь военный персонал, от генерала до подпоручика, должен туда являться каждое утро, и всякий приходит с замиранием сердца, не зная, что его ожидает; внезапное повышение или ссылка в Сибирь, постыдное исключение из службы или производство в следующий чин. Шансов на скверное несравненно больше. Неверный шаг, минута невнимания, или даже без всякой причины, раз малейшее подозрение промелькнет в уме государя, человек погиб. Офицеры приходят в сопровождении слуг или вестовых, несущих чемоданы, так как стоящие всегда наготове кибитки тут же на месте забирают тех, кого одно слово императора отправило в крепость, или ссылку, а по уставу мундиры настолько узки, что нет возможности положить в карманы даже маленькую сумму денег.
Таким образом одна за другой подкашиваются жизни, полные блестящих надежд, ежедневно гибнут почтенные семьи, и для производства этой короткой расправы страшный судья не ограничивается одним плац-парадом. Вернувшись в свой кабинет, он произносит новые приговоры, где вслед за военными получают свою долю и гражданские чины и где судопроизводство нисколько не отличается от практиковавшегося за несколько лет до того под председательством господ вроде Фукье-Тенвиля и Флерио-Леско на берегах Сены.
«Ссылки и аресты пощадили едва ли несколько семей, которые не плакали хотя бы над одним из своих членов… Горе, беспокойство стали скоро единственными чувствами, охватившими всех… Муж, отец, дядя видел в жене, в сыне, в наследнике доносчика, из-за которого он мог погибнуть в тюрьме. Ужас испытывался всеми».
Строки эти не были написаны во Франции в 1793 году, как можно было бы предполагать, но и многие другие из соотечественников княгини Дашковой, мысленно сходясь с ней, почти в тех же выражениях описывают время, когда, по словам одного из них, «страшно было жить в России».
Вот свидетельство одного любимца Павла, относящееся ко времени; когда он был в силе:
«Тот страх, в котором мы здесь пребываем, – пишет князь Кочубей в апреле 1799 года, – нельзя описать. Все дрожат… Доносы, верные или ложные, всегда выслушиваются. Крепости переполнены жертвами. Черная меланхолия охватила всех людей. Никто не знает что такое развлечение. Оплакивать родственника – преступление. Посетить несчастного друга – значит сделаться ненавистным человеком. Все мучаются невероятным образом».
В октябре князь Кочубей был заменен Паниным в коллегии Иностранных Дел и в письме нового вице-канцлера, адресованном через несколько месяцев тому же лицу, мы читаем следующее:
«В России нет никого, в буквальном смысле слова, кто был бы избавлен от притеснений и несправедливостей. Тирания достала своего апогея».
Составляя свои «Воспоминания» вместе с императрицей Елизаветой и вынужденная вследствие этого выражаться осторожно, что впрочем внушала ей также ее горячая преданность престолу, госпожа Головина сама говорит о «трусах» и «трусихах», замечаемых ею всюду. К этому наблюдению она прибавляет однако черту, общую для всех стран и времен в кризисах подобного рода:
«Когда не дрожали от страха, то впадали в безумную веселость. Никогда так не смеялись; но часто также приходилось видеть, как саркастический смех сменялся выражением ужаса (terreur)».
Только что подчеркнутое мною слово выходит из-под пера каждого.
Госпожа Виже-Лебрён, которая могла лично быть вполне довольна своим пребыванием в России и отношением к ней Павла, уверяет, что для иностранцев и в особенности для иностранок ее сорта, петербургская полиция смягчала свои строгости, а между тем она прибавляет:
«Не имея возможности предвидеть, куда приведет безумие связанное с произволом, все жили в постоянном страхе. Дошли до того, перестали принимать у себя гостей. Если принимали нескольких друзей, то заботились закрыть ставни и в дни балов было условлено отсылать кареты домой».
Эта подробность находит подтверждение в донесениях одного из членов петербургского дипломатического корпуса. Мы читаем в депеше барона Стединга:
«Небольшое число оставшихся еще домов герметически закупорены, в особенности для иностранцев, из страха навлечь подозрения, могущие иметь неприятные последствия».
Само появление Павла на улицах столицы было сигналом ко всеобщему бегству. Один современник рассказывает, как, завидев издали императора, он совершенно инстинктивно побежал спрятаться за редкой решеткой, окружавшей строящийся Исаакиевский собор. Там он встретил инвалида, на обязанности которого лежало сторожить ограду, и последний сказал:
– Вот наш Пугачев!
Народ, называя так Павла, делал двойной намек, и на имя лже-Петра III, и на слово пугать.
Осыпанный благодеяниями царя, после трудного, но довольно кратковременного пребывания в Сибири, Коцебу ограничивается уверением, что в самом Петербурге жизнь была еще сноснее, чем в провинции. В непосредственном соседстве с новым Пугачевым кончили тем, что привыкли к опасности; в провинции, напротив, прислушиваясь издали к реву бури, все пребывали в постоянной тревоге. Первое соприкосновение знаменитого немецкого писателя с установленным Павлом режимом противоречило однако свидетельству госпожи Виже-Лебрён по поводу внимания, которым пользовались в то время почетные иностранцы в России. Арестованный при своем приезде в Ригу, разлученный с женой и детьми, только потому, что он был иностранец и писатель, Коцебу был отправлен в окрестности Тобольска. Правда, год спустя гонец вез его обратно в Петербург, где вместе с имением в 4000 душ и всякого рода почестями и милостями его ожидало место директора немецкого театра в столице. В чем же опять причина этого внезапного поворота судьбы? Император случайно просмотрел рукописи сосланного, конфискованные в Риге, и, заметив между ними маленькую пьеску, названную: «Кучер Петра III», нашел ее очень лестной для памяти убитого в Ропше.
Будучи сам наблюдателем очень внимательным, если не догадливым, Павел знал о производимом им впечатлении страха и, с обычной своей непоследовательностью, иногда находил в этом удовольствие, введя в систему привычку вызывать этот страх, иногда же жаловался:
«Меня выставляют за ужасного, невыносимого человека, – говорил он Стедингу в мае 1800 г., – а между тем я не хочу никому внушать страха». За несколько лет перед тем его невестка слышала из его уст совершенно противоположные слова. Сообщая своей матери об отъезде императора в Ревель, она писала:
«Это уже кое-что – иметь честь его не видеть. Правда, мама, этот человек мне ulderwaertig (противен), даже когда о нем только говорят, а его общество мне еще противнее, когда каждый, кто бы он ни был, сказавший в его присутствии что-нибудь, что имело несчастье не понравиться Его Высочеству, может ожидать получить от него грубость, которую надо терпеть. Поэтому, я вас уверяю, что, за исключением нескольких офицеров, народ в массе его ненавидит… Представьте себе, мама, он велел бить однажды офицера, наблюдавшего за припасами на императорской кухне, потому что вареная говядина за обедом была нехороша! Он приказал бить его у себя на глазах, и еще выбрал палку потолще! Он велит посадить человека под арест; мой муж ему доказывает, что он невиновен, а виноват другой! Он ему отвечает: «Все равно! Они поладят между собой». Вот образчик всяких мелких историй, происходящих ежедневно. Потому-то я невестка самая почтительная, но в действительности вовсе не нежная. Впрочем, ему безразлично, любят ли его, лишь бы его боялись. Он это сам сказал».
В словах, как и в действиях Павла, было многое, что противоречило одно другому. Конечно, он заботился о том, чтоб быть любимым, как хотел быть и справедливым, а между тем в летопись его столь короткого царствования внесена, по его же вине, страница, отвратительности и гнусности которой не превзошла ни одна подробность в истории самого Грозного: это дело Грузиновых. Из-за смутных подозрений, или в силу ложных улик, которые не оправдались при разборе дела, два офицера, носившие эту фамилию, полковники гвардии, пользовавшиеся недавно благоволением и даже особым доверием государя, выданы палачам, вместе со многими мнимыми сообщниками. Один подвергся наказанию кнутом, после какого-то подобия судебного следствия; другой гибнет еще даже до окончания разбирательства его дела, сраженный приговором, представляющим просто указ императора, обрекавший вчерашнего любимца на то же наказание кнутом без пощады. Одаренный исключительной силой, несчастный доводит до изнеможения одного за другим трех палачей и умирает лишь после нескольких часов мучений. Вслед за этим одному из его дядей и трем казакам, впутанным в дело, отрубили головы.
Друг Новикова и покровитель Капниста не замедлил и на этот раз почувствовать угрызения совести – и потребность отомстить кому-нибудь другому за оскорбление, нанесенное правосудию по его же собственной вине. Казнь происходила в Новочеркасске, в области войска Донского. Потребовав губернатора, князя Горчакова, в Петербург, Павел нагло взял его в свидетели своей невиновности. Чтобы лучше ее доказать, он уволил в отставку генерала Репина, который, распоряжаясь этой бойней, исполнял лишь полученные приказания, так как, выражаясь «наказать нещадно кнутом», царь знал, что говорит.
Подобно дочери Петра Великого, которая в момент своего восшествия на престол поклялась никогда не произносить смертного приговора, сын Екатерины стремился к тому же. Но, по рассказу Массона, правдоподобность которого подтверждается свидетельством великой княгини Елизаветы, заставив в своем присутствии за какую-то безделицу сечь солдата, он повторял: «Сильнее! Еще сильнее!» И так как несчастный вскрикивал под ударами: «Проклятая лысая голова!» он приказал его прикончить. Подобно своей двоюродной бабушке, он, мстя за эпиграмму, свободно приказывал отрезать уши и вырывать язык. Такая судьба постигла поэта, капитана Акимова, автора известного двустишия, относящегося к постройке Исаакиевского собора. Роскошно начатая Екатериной, она была продолжена ее сыном по более скромному плану:
Des deux r?gnes void l’image allеgorique:
La base est d’un beau marbre et le sommet de brique.
Если принять в расчет нравы и привычки того времени, почти ежедневно повторяемое императором распоряжение: «бить нещадно кнутом» – равнялось на практике, в большинстве случаев, смертному приговору, отягченному продолжительным истязанием. Для большинства осужденных простая ссылка в Сибирь не являлась более легким наказанием. Если ссыльных не отправляли пешком, заставляя влачить за собой цепи, причем они падали от изнеможения на каждой остановке, чтобы снова подняться под ударами конвойных, то они совершали свой путь в кибитке, герметически закупоренной, с двумя только маленькими отверстиями: одним наверху, через которое им давали пищу, – фунт черного хлеба в день и несколько глотков воды раз или два в сутки, – другим внизу, для удовлетворения их естественных потребностей. Конвойные обычно не знали имен узников и не смели с ними разговаривать и отвечать на их вопросы.
А Павел наблюдал за тем, чтобы ссыльные не избежали ни одного жестокого испытания в этом ужасном путешествии; он строго следил, чтобы их страдания не получали облегчения. В апреле 1800 г. за разрешение, данное при проезде через Тверь, двум знатным ссыльным, князю Сибирскому, бывшему генерал-комиссару, и его помощнику Турчанинову, перевязать их покрытые ранами ноги, истертые цепями, губернатор города, Тейльс, подвергся заключению в крепость и только вмешательство его друга генерал-прокурора Обольянинова спасло его от более строгого наказания. В том же году по приговору военного суда, утвержденному Павлом, капитан генерального штаба Кирпичников был прогнан сквозь строй и получил тысячу ударов.
Следующая подробность, взятая из хроники того времени издателями апокрифических мемуаров Чичагова,[1 - Издания этих мемуаров необыкновенно многочисленны. Последнее, 1910 года, представляющее собой лишь перепечатку издания 1862 г., дает не больше гарантии в истине.] представляет собой, конечно, чистый вымысел. Между тем она верно передает представление современников о манере государя. Разговаривая со Строгановым об одном из своих давнишних друзей, император сказал: «Этого человека я очень любил; он часто жертвовал собой ради меня, и я смотрел на него, как на преданного друга; жаль, что он плохо кончил…» Строганов наводит справки и узнает, что в минуту гнева Павел велел отвезти в крепость и сечь «нещадно» кнутом верного и преданного друга, умершего от жестокого наказания!
А вместе с тем, этот самый человек начал свою деятельность с того, что разбил цепи Новикова и Костюшки и в промежуток между проявлениями гнева и жестокости он выказывает доброту и великодушие, примеры которых можно привести в большом числе. Не столько грозный, сколько строптивый, Павел в сущности не имеет ничего общего с Иоанном IV, и если, желая подражать Фридриху II, он стал скорее походить на членов французского конвента, то его неистовства придают ему иногда некоторое сходство с Дон-Кихотом. Хотя он об этом и мало заботился, это дает ему некоторое оправдание.
VII
Случаю с тверским губернатором, наказанным за проявленное им вполне понятное сострадание, можно противопоставить случай с подполковником Лаптевым, родственником княгини Дашковой, который осмелился продлить срок своего отпуска, чтобы проводить несчастную до места ее ссылки. Павел выразил ему одобрение:
– Вот, по крайней мере, один настоящий мужчина!
Так как полк этого офицера был упразднен, он дал ему другой и в скором времени пожаловал ему Мальтийский командорский крест.
Не обращая внимания на распоряжения, обрекавшие княгиню на уединение в Коротове, другие родственники и друзья отправились туда ее навестить. Павел не рассердился и на это.
– Для тех, кто способен питать чувства дружбы и благодарности к этой женщине, это самый подходящий момент их выразить, сказал он.
Выговаривая подчиненному за упущение по службе, один полковник, гатчинец, крикнул ему следующее:
– Да ты все еще думаешь служить этой старой….
Тот ответил пощечиной и плюнул в лицо оскорбителю. Он разжалован, но через несколько дней Павел его позвал, поцеловал, произвел в чин подполковника и поблагодарил за то, что он постоял за свою государыню.