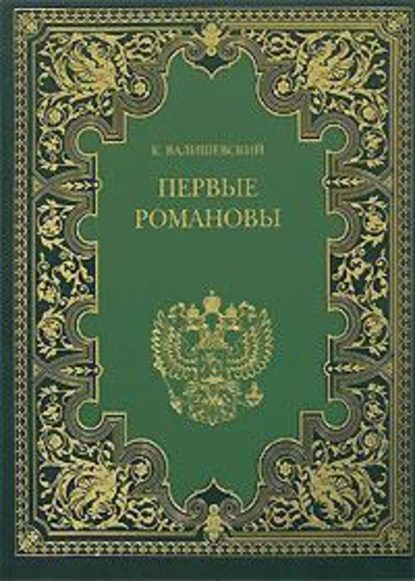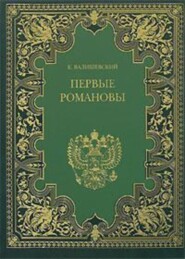По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Первые Романовы
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Для того чтобы найти труд, лишенный этих странностей, нужно взять Историю России, составленную в 1727 г. князем Куракиным. Она напоминает собою Сен-Симона, но этот опыт так и остался единственным.
Главным предметом научной работы в семнадцатом веке и главным изданием того времени является грамматика. Православные ригористы не признавали почти ничего другого. Начиная с 1648 г. по 1651 г. азбука выдержала четыре издания. То был самый большой и даже единственный успех тогдашней книжной торговли. В 1648 году московская типография напечатала грамматику Смотрицкого, по оригиналу, напечатанному в Вильне в 1619 году, но это издание так и осталось единственным до 1721 года. Что касается двух других частей тривиума латинской школы, диалектики и риторики, то об этом даже не было вопроса.
Прибыв из Греции в 1685 г., братья Лихуды, Иоанникий и Софроний, первые сделали почин введения жителей Москвы в область философии. Они излагали логику и физику по Аристотелю, но учение показалось тотчас же слишком смелым, и потому навлекло на себя немилость начальников. Добрые москвитяне любили называть такие изыскания «измерением аршином хвоста звезд».
При первых Романовых особенное развитие получили старые азбуковники, ставшие из простых словариков энциклопедическими словарями и окончательно сместившие со сцены как Козьму Индикоплавта, так и византийских писателей. Они черпали преимущественно свой материал в латинской или польской литературе, пользуясь также авторитетами древности и средних веков, Плинием и Альбертом Великим.
С помощью образовательных очагов Афонской горы и Киева, это все, что старой Московии удалось получить из всего того, что она считает своим собственным фондом. Эти знания на деле получились с одной стороны из Византии, а с другой из средневековой Европы, но она действительно вновь обретает там первоначальные источники своей цивилизации и не перестает черпать их оттуда до появления Петра Великого, колеблясь, ввиду последовательного торжества то одного, то другого влияния, между этими полюсами своей эволюции: восточным и западным.
III. Две школы
Торжество церковной реформы и апелляция против Никона к юрисдикции восточных патриархов, казалось, должны были вначале утвердить главенство эллинизма. Он на самом деле надолго воцарился в религиозной области. Но греки этой эпохи, деморализованные и огрубевшие от рабства, не были способны работать над моральным и интеллектуальным возрождением, которое давала чувствовать, как нечто необходимое, сама реформа и возбужденный ею раскол. Наука и дисциплина ученых, вроде Максима или Арсения, ограничивались мелочами в тексте или в форме, – тем, что родило раскол. Учителя этого рода главным образом старались, как мы это уже видели, по возможности дороже продать свои услуги или содействие, которое требовалось от них.
Обладая более современным знанием, киевские монахи показали себя более честными, и с первой половины семнадцатого века их отличают и в Москве, куда они переносят основание культуры, которую проводили неуклонно в своей стране Голятовские, Радивиловские и Барановичи. То была культура исключительно польская, начиная особенно с Могилы. Она пробивала дорогу более прямой ассимиляции с западом, откуда она и вышла. Алексей со своими приближенными вскоре подчинился ее все растущему влиянию. Духовник царя Андрей Савинов переписывает космографию поляка Бельского. У самого Никона были поляки среди его домашних, между ними Николай Ольшевский. С 1668 г. по 1670 г. Все работы по скульптуре, рисованию и позолоте во дворце государя производились поляками. Несколько позже роскошный отель Василия Голицина был выстроен и украшен артистами той же национальности. Польские кисти и резцы работали даже в московской иконографии. В больших московских домах, у Ордын-Нащокина, у Матвеева, воспитание детей сосредоточилось в тех же руках. Польское влияние чувствуется в эту эпоху даже в народной поэзии.
Начиная с 1649 года, школа грека Арсения нашла себе сильного конкурента в Преображенском монастыре, где завербованные Ртищевым Епифаний, Славенецкий и другие малороссы обрели большое количество учеников. Сохраняя характер исключительно духовный, ни то, ни другое из этих двух учреждений не соответствовало светским требованиям общества. Но в 1665 году белорусский беглец Симеон Полоцкий основывает школу Св. Спасителя, и там молодые чиновники департамента внешних сношений, получают светские знания, необходимые для их службы, получают потом среднее и даже высшее образование по некоторым предметам.
В 1672 году, когда Полоцкий сделался воспитателем царевича, школа эта исчезла и в этот момент опыты мирного разрешения этого вопроса вылились в проекте, который должен был в один прекрасный день создать Славяно-Греко-Латинскую Академию, а пока началом этого осуществления служила приходская школа Св. Иоанна Богослова.
Алексею не суждено было довести до прочного конца эти начатки. Обстоятельства мало способствовали этому. Консервативная партия сохраняла еще очень прочное положение, поддерживая будущий тезис славянофилов, выработанный в начале этого века Иваном Вишнею, воспрещая на основании этого принципа всякую светскую науку, как могущую уничтожить самое существование страны. Наука порождает лишь только гордость, от которой погиб первый Рим; третий должен поэтому держаться только одной веры.
Старший сын второго Романова, Феодор, не оказался более счастливым в этом отношении. В 1679 году его царствование знаменует собою скорее регресс, чем прогресс основанием новой типографии, которая, казалось, представляла собой зародыш все еще будущей Академии, в котором снова отражается влияние Греции. Вплоть до просвещенных кругов самые серьезные представители науки, малорусские или белорусские учителя, стали теперь предметом живейшей вражды. Можно при этом отметить, что они совершенно не владели той книжной традицией, которая составляла когда-то гордость московских ученых. Самого Симеона Полоцкого считают невежественным человеком, так как он очень мало был знаком с литературою и языком греческих отцов.
Он и его соотечественники имеют, однако, право на более справедливую оценку. На деле они были, мы это знаем, лишь архаическими передатчиками устарелой культуры; они бродят в схоластических заблуждениях, почти недоступны новым течениям, совершенно переработавшим, начиная с протестантской реформы, европейский ум. У них даже нет собственного языка, так как пишут они по-церковнославянски, по-латыни и по-польски. Но части документов они остаются данниками польской литературы.
В своих богословских работах и в речах, как и в начинаниях светских, в прозе и в стихах, Полоцкий шокирует старых московитов не только употреблением форм и утилизированием источников чуждых их умственному кругозору: он берет цитаты из классической мифологии, из Св. Августина или из Беллармина. Он не только подрывает их веру католическими тенденциями, в чем его часто обвиняли. Даже с точки зрения Запада этот язык и эта эрудиция являлись уже вышедшими из моды. Малорусская группа, сорганизовавшись прочно с помощью братства Чудова Монастыря, где ей удалось создать центр интеллектуальной жизни, не была впрочем однообразна. Полоцкий представляет в ней Киевскую Академию с тем направлением, которое дал ей Могила, т. е. с ориентацией почти исключительно польскою и латинскою. Его ученик, Сильвестр Медведев, держится того же направления. Епифаний Славеницкий, напротив, предан по-прежнему более старым традициям той же Академии: эллинским и более строго православным. В этом направлении он развивает большую активность, переводя на славянский не только отрывки из Священного Писания, но также несколько светских произведений греческой литературы, трактаты по географии и истории, по политике и педагогики. Не забывая филологии, он обнародовал греко-латино-славянский словарь, другой словарь сравнительной литературы. Он безусловно более образован, чем его соперник, и некоторые из его оригинальных сочинений, как например его трактат о милостыне, с выдающимся проектом общественной помощи бедным, обнаруживают в нем благородство и большую проницательность.
После его смерти его ученик, монах Евфимий, следует тому же направленно, и еще подчеркивает в нем восточную тенденцию. Полоцкий, напротив, еще больше удаляется от нее. Учитель царских детей, поэт и драматург двора, стараясь ввести даже в литургию элементы поэзии и драматического искусства, напыщенный, наконец, проповедник, – он разменивается на занятия, которые должны в нем показаться фривольными. Он сеет в них прекрасные мысли, проповедуя необходимость образования, как главного орудия нравственного перерождения, указывая на невежество, как на главную причину раскола, нападая на самый Домострой, в той его части, где он слишком сурово трактует о домашней жизни, и особенно об отношении к женщине. Будучи священником, он на деле работает на пользу перехода к светской науки и литературе. Но к этому плодотворному семени, которое возрастет, дав полезный плод, он примешивает и довольно бесплодные и нелепые мысли, как например рассуждение о том, мог ли Христос говорить сразу же после своего рождения, или почему он был пригвожден к кресту тремя, а не четырьмя гвоздями. Он говорит о трех небесных сферах, из которых одна кристальная. Он спрашивает себя, возродимся ли мы при последнем суде с ногтями, и приходит к положительному выводу; но ногти будут обрезаны.
Во всем этом не было ничего достаточно заманчивого, достаточно захватывающего, чтобы побороть сопротивления, которые эта пропаганда латинского и польского происхождения, следовательно вдвойне подозрительная, должна была встретить в православных и консервативных кругах. Патриарх Иоаким терпел Полоцкого лишь благодаря расположению, которым этот иностранец пользовался у государя. В 1673 году смерть украинофила Ртищева, а в 1675 крутицкого митрополита Павла, которому Полоцкий помогал в составлении речей, отняли у малорусской группы могущественных покровителей, и греческая партия взяла верх. Полоцкий вынужден был основать в Кремле частную типографию, где его издания ускользали от цензуры патриарха. Малороссами же продолжали пользоваться в качестве церковных певчих, но когда в 1681 году знаменитый проект академии стал приближаться к окончательному его осуществлению, Медведев стал думать, что не найдет себе места в этом учреждении и стал мечтать о создании другой, в которой он мог бы приложить к делу программу, принятую им в наследство от его учителя.
Вскоре между тем обе партии оказались перед лицом общего противника. То был профессор философии и богословия, Иван Белобродский, объединивший теперь вокруг себя всех непримиримых националистов, решительных врагов всякого иностранного влияния. Между ними произошло соглашение, и плодом его явилась построенная, наконец, Славяно-Греко-Латинская Академия. Там царили греки, и в статутах учреждения фигурировало даже формальное порицание уже умершему в 1680 г. Полоцкому и самому Медведеву. Но, тем не менее, программа проектируемых занятий была составлена в духи украинских идей, и Медведеву в 1685 году была предоставлена честь представить эти статуты на утверждение царевны Софии. Напротив, выбор профессоров был поручен константинопольскому патриарху Досифею, который рекомендовал братьев Лихудов.
Таким образом Москва, казалось, вернулась к традициям девятого века, возродила те отдаленные дни, когда другой иерусалимский патриарх послал ей «двух фессалоникийских братьев», чтобы приобщить ее к истинам веры. И, в общем, греческая партия господствовала в этом институте, владевшем огромными привилегиями и, между прочим, очень широким правом цензуры. Утверждение Академии стало необходимым хотя бы для того, чтобы иметь у себя на дому учителей иностранных языков. Изучение всех свободных наук было подчинено ее надзору и ее юрисдикции, которая пользовалась даже правом осудить виновных на ссылку в Сибирь или даже на костер! Эта школа обратилась в трибунал инквизиции, о чем замечает прибывший в Москву в 1689 году ученик Якова Бёме, Кольман. Завоевав себе нескольких адептов в немецком квартале, он был осужден Академией и сожжен.
С научной точки зрения это учреждение только прозябало. В старом разрушенном доме братья Лихуды нашли всего семь учеников и, несмотря на все их усилия применить Аристотеля к принципам самого чистого православия, они не избежали подозрений в ереси. То были впрочем очень посредственные ученые и, как большинство их соотечественников, главным образом искатели карьеры. Так как они учились в Падуе, то несмотря на все усилия с их стороны держаться подальше от латинизма, он вторгся в их лекции, незаметно возбудив против них законные подозрения. Чисто греческая программа высшего образования являлась в эту эпоху неосуществимой химерой. В своем возбуждении против своих противников, Медведев стал сам, чтобы погубить их, играть в игру старой московской партии. В 1694 году, наконец, константинопольский патриарх дезавуировал им же выбранных учителей. Они были отставлены, и Академия, предоставленная двум из их учеников, Николаю Семенову и Феодору Поликарпову, еще не окончившим своего ученья, доведенная до преподавания одной только грамматики, почти совсем не действовала несколько лет.
Так еще раз непримиримость защитников старого режима доказала свою бесплодность, подготовив радикальную работу Петра Великого.
Являясь по происхождению своему греческими или латинскими, малорусскими или польскими, элементы науки и культуры, перенесенные в эту страну в тех условиях, в которых она находилась, не соответствовали самым настоятельным ее нуждам. Тут дело шло не о том, чтобы делать выбор между Аристотелем и св. Иоанном Златоустом, или Плинием и Беллармином, а чтобы завести у себя армию, флот, дипломатию, весь аппарат европейской державы; мануфактуру, фабрики, мастерские, все продуктивные ремесла Запада; жилища удобно или даже артистически устроенные как там, и поучительные или развлекающие зрелища, на подобие немецких, французских или итальянских театров, весь комфорт и роскошь цивилизованных народов. Даже такой националист, как Крыжанич, тоже хвалил преимущество западного костюма, со стороны его легкости, удобства и экономии.
Становилось ясно также, что в тех узких рамках, где так горячо боролись приверженцы Полоцкого и Славеницкого, латинисты и эллинисты, – они должны будут замениться в ближайшее время теми западниками нового типа, офицерами, инженерами, ремесленниками, коммерсантами, которыми окружил уже себя Алексей и которые сделались истинными воспитателями его родины.
IV. Приобщение к европейской жизни
Приобщение к европейской жизни должно было создаться здесь через их посредство, и прошло оно как-то плохо, вкривь и вкось, потому что старая Москва в них нашла только довольно посредственных в этом смысле учителей и людей с очень плохой репутацией во многих других отношениях. Какими мы их видим на работе, это были последние кондотьеры Европы, люди предприимчивые, деятельные, иногда очень одаренные, но всегда очень сомнительной нравственности.
Шотландец Патрик Гордон был одним из лучших, и уже по нему можно судить об остальных. Самый младший в младшей линии своей фамилии, воспитанник иезуитской коллегии в Браунсберге, он поступил в 1655 году на службу к Карлу Х Шведскому и отправился на войну с Польшей. Взятый в плен поляками, он поступил к ним на службу, а когда его взяли в плен шведы, он без малейшего колебания вступил снова в их ряды. Очевидно, он был совершенно индифферентен в этом отношении и готов был продать свою шпагу кому угодно, так как в 1658 году мы его видим снова в польском лагере, а через два года он назначен майором московитов. Едва прибыв в Москву, он требует отставки, так как, по обычаю страны, вербовщик, который должен был выдать ему аванс из жалованья, вздумал удержать часть из него. Тогда вновь прибывшему объяснили, что, уходя, он рискует не попасть ни в Польшу, ни в Швецию, а добыть себе паспорт в Сибирь. Он решает тогда остаться, и в области пьянства и палочных ударов, раздаваемых своим высшим и низшим служащим, он вполне освоился с обычаями страны. В этом отношении он взял на себя роль инициатора, и его соотечественники усиливают скорее, чем ослабляют порчу местных нравов.
В других областях те, которые таким образом учат его жить, не много могут усвоить от этого иностранца. Он видел войну, и у шведов по крайней мере прошел хорошую школу, но ни приобретенная им опытность, ни его природные способности не сделали из него мастера этого искусства. Впрочем, бессильные понять его настоящие способности, его новые хозяева требуют от него других, ему несвойственных, как например инструкторской роли, поручая ему обучать солдата управление копьем и мушкетом!
Результаты, полученные с помощью вывезенных из заграницы мануфактуристов, оказались не лучше, почти ничтожными в деле национального воспитания, по различным, но одинаково решительным причинам. Приток этих инициаторов увеличивается. По соседству с Олонецом, один голландец Денис Ховис, начинает эксплуатацию медной руды. Два предприятия того же рода поручаются очень предприимчивому и богатому Пьеру Марселису, датского происхождения, у которого были также железные кузницы в окрестностях Тулы, конкурировавшие с кузницами устроенными одним немцем Тильманем Акемой, в окрестностях Калуги. Таким же образом возникли фабрики пороха и селитры, стеклянные заводы.
Француз Миньо управлял стеклянною фабрикою, существовавшей на личные средства государя. Еще один немец, Ганс Фальк из Нюрнберга, организовал в Москве литейню пушек и колоколов. Но технический персонал их был, как и они сами, исключительно иностранного происхождения.
Если они и утилизируют кое-кого из туземных рабочих, они стараются скрыть от них самый процесс фабрикации. И довольно долго им это удавалось без особенного труда. Крыжанич, действительно, сделал такое наблюдение, что одаренные большою сметливостью и такой же способностью все быстро усваивать, русские, в их сношениях с иностранцами, колебались между почти суеверным уважением к знаниям этих своих учителей и таким же к ним недоверием, заставлявшим их быть с ними настороже. Они смотрели на них как на колдунов и были склонны думать, что могут больше потерять, чем выиграть от их выучки. Тут рискуешь прежде всего скомпрометировать ту чистоту веры, которой Москва сделалась ответственной хранительницею, и в глазах диакона Феодора различные попытки запада войти в сношения с третьим Римом граничат с усилиями злого духа установить свое царство в очаге истинной христианской веры!
Некоторые продукты западной литературы, широко распространенные в эту эпоху, способствуют сами распространенно подобных идей. Из чтения одной «космографии», переведенной для их обихода, – москвитяне узнают например, что в третьей части света отданной сыну Ноя, Иафету, называемому здесь Афетом, люди очень ученые и очень искусные во всех отраслях промышленности, устроили многочисленные школы, большая часть из которых находится в Галлии, в городе, называемом Парижем. Там долго изучали все науки, грамматику, философию и астрономию. Но однажды 80 000 учеников возмутились против государя, по подстрекательству папы, и все они были убиты в один час. И в то же время, верная некогда истинной православной вере, эта страна была охвачена всеми родами ересей, между прочим среди других ересью Кольвина (sic) и Мелентова (Меланхтона).
Способы, употребляемые для набирания экзотических воспитателей, способствуют такому направлению умов. Они не руководятся никаким методом, и серьезные занятия у них перемешиваются с самыми фривольными стремлениями. Посланный в 1675 году заграницу с миссией подобного рода, голландец Ван-Стаден был уполномочен привезти оттуда рудокопов, трубачей и комедиантов. И на деле западная цивилизация стала проникать и прививаться в центре старой Московии прежде всего и особенно при помощи развлечений. Если Петр Великий и мог хвалиться, что он ударом топора пробил окно в Европу, то слуховое окно было уже проделано в нее до него, и чрез него прошел европейский театр. Посредством этой первой бреши, проломив строгие рамки Домостроя, новые идеи и нравы проникли до нерушимой ограды терема, как струя свежего воздуха, как оживляющий и будящий свет. В той парадоксальной кривой, которой следовала здесь интеллектуальная эволюция, Славяно-Греко-Латинская Академия предшествовала устройству первоначальных школ, но комедианты появились еще раньше, чем академики.
Они также пришли из заграницы. Под тяжестью режима, основывавшегося на беспощадном отрицании всякой независимости в области искусства, как и в области мысли, сам Табарин не мог найти в этой стране дерева для своего балагана. Шутки скоморохов, шуточные фарсы вожаков медведей заключали уже в себе некоторые элементы национальной комедии; принципиально запрещенные, часто преследуемые, находясь постоянно под строгим наблюдением, они не доставляли материала для оригинального искусства, способного развиваться.
V. Развитие литературы
С 1660 года, Алексей был живо заинтересован описаниями, которые, по возвращении из Италии и из Польши, делал ему обо всем виденном им при посещенных им дворах – его посланец Лихачев. Занявшись несколько позже и быть может под влиянием других впечатлений, полученных из этого же источника, украшением своей резиденции в Коломенском, государь, кажется, попытался воспроизвести там сценические феерии Флоренции и Варшавы. Присутствие при нем очень строгой Марьи Ильинишны между тем являлось препятствием для осуществления таких стремлений. Но в 1668 году Потемкин привез, на этот раз уже из Франции, еще более заманчивые сенсационные новинки. Он видел представление «Ударов любви и судьбы», с чудесною переменою декораций и поразительным балетом. Он присутствовал на представлении Амфитриона, данном Мольером с его труппой, и был охвачен полным восторгом, особенно, следует думать, благодаря некоторым интермедиям, о которых Рифмованная Газета упоминает таким образом:
La troupe o? prеside Moli?re
Par une ch?re toute enti?re
Leur donna son Amphitrion
Avec ample collation,
Pas de ballet et symphonie
Sans aucune cacophonie.
Амфитрион удостоился вскоре чести быть переведенным на русский язык и, хотя Лихачев в своем рапорте благоразумно не упоминает ни о Мольере, ни о его произведении, распространяясь только об упражнениях в вольтижировке, устроенных в его присутствии в Сен-Жерменском парке, но уже близок был момент, когда его государь мог свободно предаться своим давнишним желаниям. В январе 1672 года живая и веселая Наталия Нарышкина вошла в Кремль, и к концу того же года, за несколько месяцев до рождения Петра Великого, немецкие комедианты устроились уже в Москве.
Предполагают, что воспитатель Наталии Матвеев вызвал их, но он не посмел бы это сделать без согласия царя. Увидев их представление в доме своего любимца, Алексей пригласил комедиантов играть при его дворе. Их появление не возбуждало беспокойства, так как режиссер труппы, Иоганн Годфрид Грегори, соединял свои функции с должностью пастора в европейской слободе! Но государь все-таки еще несколько смущался на этот счет.
Пусть уж комедия, но музыка! Церковь особенно осуждала скрипки и флейты, считая их диавольской выдумкой. Комедия? Грегори вероятно еще не осмеливался поставить на сцену пьесы, сюжеты для которых были взяты из Священной Истории и которые он играл уже в Германии. Церковь считала бы это святотатством! Для начала у него были в программе лишь дивертисменты, между которыми фигурировал поющий и танцующий Орфей между двумя движущимися пирамидами. Но как танцевать или петь без музыки? Алексей кончил тем, что уступил, и Наталия сыграла в этом, конечно, некоторую роль. Она присутствовала на спектакле в ложе, закрытой решеткою, и уже это было целою революцией.
Такое событие произвело, конечно, скандал, но спустя немного великий пост прекратил все светские удовольствия. Этот дебют ничего не обещал. Но между тем то, что последовало за этим, трудно было предвидеть. В июне 1673 года, обрадованный рождением сына, царь приказал выстроить специальную залу, где давали Есфирь еще до появления пьесы Расина. Сюжет ее представлял некоторую аналогию с романической интригой, которая возвела на трон дочь Кирилла Нарышкина; следует допустить, что это сходство предопределило выбор, или даже служило главным мотивом составления пьесы, автором, которой мог быть Полоцкий, и отсюда видно, какие горизонты открывались зарождавшемуся искусству таким смелым вторжением в область современности. Эта страна всегда была родиной гипербол.
Из предосторожности новая зала была заложена в селе Преображенском, в будущей колыбели всех реформ Петра Великого; но в следующем году вторая зала была устроена уже в самом Кремле, и отныне спектакли сменялись в этих двух залах, смотря по сезону, с правильными промежутками. Переносили из одной в другую декорации, нарисованные Энгельсом; Грегори сформировал учеников, набранных сначала среди прихожан слободы, он не боялся больше воспроизводить здесь свой обычный репертуар, уже давно популяризированный в Польше: Товит следовал на сцене за Есфирью и Юдифью; возмущение национального или религиозного чувства понемногу затихало. Театр одержал верх.
В Польше представления этого рода, победоносно бравируя оппозицию клира, относятся к двенадцатому веку. В более близкую эпоху они приняли форму «диалогических сцен», составленных по образцу старинных немецких мистерий с тем же господством комического элемента. Когда иезуиты приняли этот репертуар для своих коллегий, он проскользнул этим путем в киевскую академию Могилы и был очень близок Полоцкому и его украинским собратьям. В Преображенском или в Кремле он сохранял тот же средневековый колорит, но подчеркивая комическую сторону для зрителей, которых расхолодил бы их прежний серьезный стиль. То был комизм довольно грубый, как и следовало ожидать: перед трупом, например, Олоферна, служанка рассуждает о затруднении, в котором должен был очутиться вождь, когда увидел, что Юдифь уносит его голову. Пораженный в затылок лисьим хвостом, как пьяный монах при допросе Аввакума, солдат воображает, что ему отрубили голову и поэтому начинает бесноваться. Язык этих глупых шуток пестрел тривиальными выражениями и обычно был так затемнен, что становился непонятным.
Ни по форме, с другой стороны, ни по существу своему этот репертуар не являлся здесь результатом национального духа; он даже не был связан с теми символами Священной Истории, которые вводила иногда в свою службу национальная церковь, сопровождая их диалогами и соответствующими песнопениями. Представляя собой некоторое сходство с западными мистериями, эти священные драмы отличались от них между тем и своим духом и своим стилем, сохраняя всегда ритуальный характер. Этот театр, в тех условиях, при которых он был насажден на берегах Москвы-реки, не представлял собой ничего народного и не обращался к народу. В начале он являлся лишь развлечением для двора, привилегией царя, его семьи и его приближенных. Подражание иностранным образцам в них было абсолютно рабским, обнаруживая лишь в нескольких чертах влияние окружающей среды. Но это не могло долго продолжаться. Вскоре, – и очень быстро, если считаться с теми волнениями, которые после смерти Алексея временно уничтожили интерес, возбужденный к этой сфере в московской публике, – национальный дух завоевал себе в них место. К концу века уже попадаются типы, взятые из местной жизни, в драматических произведениях Св. Димитрия Ростовского, а несколько лет спустя появляется одна трагедия, берущая свой сюжет из самой истории страны.
На определенной ступени умственного развития народы подобны малым детям: их можно заинтересовать, научить чему-нибудь и возбудить в них работу ума лишь посредством образов. Театр в Преображенском и в Кремле и был именно такою книгою изображений, сначала открытого перед замкнутым кругом избранных лиц, но не преминувшей распространить дальше свое возбуждающее и воспитательное влияние. Об этом свидетельствуют в ту эпоху литература страны и тоже ее народная поэзия.
В семнадцатом веке народная поэзия занимает еще в русской жизни довольно значительное место. Она охватывает два отдела: один светский, связанный с эпическим циклом Киева и переносимый из одного места в другое странствующими скоморохами, и другой, религиозный, черпавший свое вдохновение в христианских легендах на почве апокрифической, привитой переводами с сербского или с болгарского; посредниками здесь являются нищие, слепые, калики, как их здесь называют. Церковь одинаково их преследует и, так как в конце этого века почти совершенно исчезают барды первого типа, то их соперники смешивают оба репертуара, делая из Ильи Муромца святого, а из Соломона героя былины.
Дружинник Владимира между тем продолжает оставаться любимцем публики и все более обращается в казака. Часто он именно так квалифицируется и, уже игнорируя хронологию, его определенно называют «донским казаком». Он принял даже все характерные черты последнего: так, разгневанный за то, что его не пригласили на пир, Илья стреляет из своего мушкета в чудотворные иконы; он хочет убить Владимира с женою, и всегда является представителем вековой борьбы между кочевым и воинственным населением степи и оседлым и трудолюбивым населением деревень и городов. Он меняет лишь свое имя, не изменяя своего характера, и как Ермака начинают считать племянником Владимира, Илью заставляют сражаться в качестве есаула в шайке Стеньки Разина.
Но вот, пройдя через горнило польской литературы, другие исторические фигуры входят в область народной фантазии. «История Трои» Гвидо Мессинского появляется в русском переводе: уже устарелый для Запада, рыцарский роман сделался предметом легкого чтения в высших московских сферах, и под названием Бовы Королевича, Буово д'Антона, нашел себе страстных поклонников.
Несмотря на господство византийского элемента, римское влияние всегда чувствовалось в литературе страны, но теперь оно взяло верх. Местный поэтический фонд был им обесценен в то самое время, как движение против суеверия в борьбе с расколом пробило брешь в эпопее на почве чудесного у национальных поэтов. Чувствуется необходимость ввести в нее историческую правду, реалистическое течение бродит в умах, поэзия теряет свое значение перед прозою, и роман наследует театру.
Несколько местных писателей уже пробовали им заняться. Со второй половины этого века всюду циркулировали анекдотические рассказы, фантастически обрисовывающие факты и личности, близкие к еще живой современности. Не достигая своего образца, эти сказки однако напоминают собою Декамерон. В них чаще всего выведен Иван Грозный. Странствуя по своему государству в переодетом виде, подобно второму Гаруну Аль-Рашиду, он получает в подарок от крестьянина, для которого он остается незнакомцем, пару грубых лаптей и брюкву. Царь надевает лапти и, заставив всех бояр носить такие же, богато одаряет находчивого мужика. После этого один из бояр думает снискать милость государя великолепною лошадью, надеясь получить награду, соответственно подарку, но царь дарит ему в обмен сохраненною им брюкву. В другой раз мы видим Ивана Грозного уже в обществе разбойников, которым он поручает ограбить одну из государственных касс, как это делают экспроприаторы нашего времени. Но эти личности в семнадцатом веке оказываются, однако, более совестливыми. Один из них ударяет царя по лицу, говоря, что бесчестно грабить государя, которым не нахвалятся бедняки. Совсем другое дело нападать на бояр, которые сами обогащаются, грабя своего государя.
Главным предметом научной работы в семнадцатом веке и главным изданием того времени является грамматика. Православные ригористы не признавали почти ничего другого. Начиная с 1648 г. по 1651 г. азбука выдержала четыре издания. То был самый большой и даже единственный успех тогдашней книжной торговли. В 1648 году московская типография напечатала грамматику Смотрицкого, по оригиналу, напечатанному в Вильне в 1619 году, но это издание так и осталось единственным до 1721 года. Что касается двух других частей тривиума латинской школы, диалектики и риторики, то об этом даже не было вопроса.
Прибыв из Греции в 1685 г., братья Лихуды, Иоанникий и Софроний, первые сделали почин введения жителей Москвы в область философии. Они излагали логику и физику по Аристотелю, но учение показалось тотчас же слишком смелым, и потому навлекло на себя немилость начальников. Добрые москвитяне любили называть такие изыскания «измерением аршином хвоста звезд».
При первых Романовых особенное развитие получили старые азбуковники, ставшие из простых словариков энциклопедическими словарями и окончательно сместившие со сцены как Козьму Индикоплавта, так и византийских писателей. Они черпали преимущественно свой материал в латинской или польской литературе, пользуясь также авторитетами древности и средних веков, Плинием и Альбертом Великим.
С помощью образовательных очагов Афонской горы и Киева, это все, что старой Московии удалось получить из всего того, что она считает своим собственным фондом. Эти знания на деле получились с одной стороны из Византии, а с другой из средневековой Европы, но она действительно вновь обретает там первоначальные источники своей цивилизации и не перестает черпать их оттуда до появления Петра Великого, колеблясь, ввиду последовательного торжества то одного, то другого влияния, между этими полюсами своей эволюции: восточным и западным.
III. Две школы
Торжество церковной реформы и апелляция против Никона к юрисдикции восточных патриархов, казалось, должны были вначале утвердить главенство эллинизма. Он на самом деле надолго воцарился в религиозной области. Но греки этой эпохи, деморализованные и огрубевшие от рабства, не были способны работать над моральным и интеллектуальным возрождением, которое давала чувствовать, как нечто необходимое, сама реформа и возбужденный ею раскол. Наука и дисциплина ученых, вроде Максима или Арсения, ограничивались мелочами в тексте или в форме, – тем, что родило раскол. Учителя этого рода главным образом старались, как мы это уже видели, по возможности дороже продать свои услуги или содействие, которое требовалось от них.
Обладая более современным знанием, киевские монахи показали себя более честными, и с первой половины семнадцатого века их отличают и в Москве, куда они переносят основание культуры, которую проводили неуклонно в своей стране Голятовские, Радивиловские и Барановичи. То была культура исключительно польская, начиная особенно с Могилы. Она пробивала дорогу более прямой ассимиляции с западом, откуда она и вышла. Алексей со своими приближенными вскоре подчинился ее все растущему влиянию. Духовник царя Андрей Савинов переписывает космографию поляка Бельского. У самого Никона были поляки среди его домашних, между ними Николай Ольшевский. С 1668 г. по 1670 г. Все работы по скульптуре, рисованию и позолоте во дворце государя производились поляками. Несколько позже роскошный отель Василия Голицина был выстроен и украшен артистами той же национальности. Польские кисти и резцы работали даже в московской иконографии. В больших московских домах, у Ордын-Нащокина, у Матвеева, воспитание детей сосредоточилось в тех же руках. Польское влияние чувствуется в эту эпоху даже в народной поэзии.
Начиная с 1649 года, школа грека Арсения нашла себе сильного конкурента в Преображенском монастыре, где завербованные Ртищевым Епифаний, Славенецкий и другие малороссы обрели большое количество учеников. Сохраняя характер исключительно духовный, ни то, ни другое из этих двух учреждений не соответствовало светским требованиям общества. Но в 1665 году белорусский беглец Симеон Полоцкий основывает школу Св. Спасителя, и там молодые чиновники департамента внешних сношений, получают светские знания, необходимые для их службы, получают потом среднее и даже высшее образование по некоторым предметам.
В 1672 году, когда Полоцкий сделался воспитателем царевича, школа эта исчезла и в этот момент опыты мирного разрешения этого вопроса вылились в проекте, который должен был в один прекрасный день создать Славяно-Греко-Латинскую Академию, а пока началом этого осуществления служила приходская школа Св. Иоанна Богослова.
Алексею не суждено было довести до прочного конца эти начатки. Обстоятельства мало способствовали этому. Консервативная партия сохраняла еще очень прочное положение, поддерживая будущий тезис славянофилов, выработанный в начале этого века Иваном Вишнею, воспрещая на основании этого принципа всякую светскую науку, как могущую уничтожить самое существование страны. Наука порождает лишь только гордость, от которой погиб первый Рим; третий должен поэтому держаться только одной веры.
Старший сын второго Романова, Феодор, не оказался более счастливым в этом отношении. В 1679 году его царствование знаменует собою скорее регресс, чем прогресс основанием новой типографии, которая, казалось, представляла собой зародыш все еще будущей Академии, в котором снова отражается влияние Греции. Вплоть до просвещенных кругов самые серьезные представители науки, малорусские или белорусские учителя, стали теперь предметом живейшей вражды. Можно при этом отметить, что они совершенно не владели той книжной традицией, которая составляла когда-то гордость московских ученых. Самого Симеона Полоцкого считают невежественным человеком, так как он очень мало был знаком с литературою и языком греческих отцов.
Он и его соотечественники имеют, однако, право на более справедливую оценку. На деле они были, мы это знаем, лишь архаическими передатчиками устарелой культуры; они бродят в схоластических заблуждениях, почти недоступны новым течениям, совершенно переработавшим, начиная с протестантской реформы, европейский ум. У них даже нет собственного языка, так как пишут они по-церковнославянски, по-латыни и по-польски. Но части документов они остаются данниками польской литературы.
В своих богословских работах и в речах, как и в начинаниях светских, в прозе и в стихах, Полоцкий шокирует старых московитов не только употреблением форм и утилизированием источников чуждых их умственному кругозору: он берет цитаты из классической мифологии, из Св. Августина или из Беллармина. Он не только подрывает их веру католическими тенденциями, в чем его часто обвиняли. Даже с точки зрения Запада этот язык и эта эрудиция являлись уже вышедшими из моды. Малорусская группа, сорганизовавшись прочно с помощью братства Чудова Монастыря, где ей удалось создать центр интеллектуальной жизни, не была впрочем однообразна. Полоцкий представляет в ней Киевскую Академию с тем направлением, которое дал ей Могила, т. е. с ориентацией почти исключительно польскою и латинскою. Его ученик, Сильвестр Медведев, держится того же направления. Епифаний Славеницкий, напротив, предан по-прежнему более старым традициям той же Академии: эллинским и более строго православным. В этом направлении он развивает большую активность, переводя на славянский не только отрывки из Священного Писания, но также несколько светских произведений греческой литературы, трактаты по географии и истории, по политике и педагогики. Не забывая филологии, он обнародовал греко-латино-славянский словарь, другой словарь сравнительной литературы. Он безусловно более образован, чем его соперник, и некоторые из его оригинальных сочинений, как например его трактат о милостыне, с выдающимся проектом общественной помощи бедным, обнаруживают в нем благородство и большую проницательность.
После его смерти его ученик, монах Евфимий, следует тому же направленно, и еще подчеркивает в нем восточную тенденцию. Полоцкий, напротив, еще больше удаляется от нее. Учитель царских детей, поэт и драматург двора, стараясь ввести даже в литургию элементы поэзии и драматического искусства, напыщенный, наконец, проповедник, – он разменивается на занятия, которые должны в нем показаться фривольными. Он сеет в них прекрасные мысли, проповедуя необходимость образования, как главного орудия нравственного перерождения, указывая на невежество, как на главную причину раскола, нападая на самый Домострой, в той его части, где он слишком сурово трактует о домашней жизни, и особенно об отношении к женщине. Будучи священником, он на деле работает на пользу перехода к светской науки и литературе. Но к этому плодотворному семени, которое возрастет, дав полезный плод, он примешивает и довольно бесплодные и нелепые мысли, как например рассуждение о том, мог ли Христос говорить сразу же после своего рождения, или почему он был пригвожден к кресту тремя, а не четырьмя гвоздями. Он говорит о трех небесных сферах, из которых одна кристальная. Он спрашивает себя, возродимся ли мы при последнем суде с ногтями, и приходит к положительному выводу; но ногти будут обрезаны.
Во всем этом не было ничего достаточно заманчивого, достаточно захватывающего, чтобы побороть сопротивления, которые эта пропаганда латинского и польского происхождения, следовательно вдвойне подозрительная, должна была встретить в православных и консервативных кругах. Патриарх Иоаким терпел Полоцкого лишь благодаря расположению, которым этот иностранец пользовался у государя. В 1673 году смерть украинофила Ртищева, а в 1675 крутицкого митрополита Павла, которому Полоцкий помогал в составлении речей, отняли у малорусской группы могущественных покровителей, и греческая партия взяла верх. Полоцкий вынужден был основать в Кремле частную типографию, где его издания ускользали от цензуры патриарха. Малороссами же продолжали пользоваться в качестве церковных певчих, но когда в 1681 году знаменитый проект академии стал приближаться к окончательному его осуществлению, Медведев стал думать, что не найдет себе места в этом учреждении и стал мечтать о создании другой, в которой он мог бы приложить к делу программу, принятую им в наследство от его учителя.
Вскоре между тем обе партии оказались перед лицом общего противника. То был профессор философии и богословия, Иван Белобродский, объединивший теперь вокруг себя всех непримиримых националистов, решительных врагов всякого иностранного влияния. Между ними произошло соглашение, и плодом его явилась построенная, наконец, Славяно-Греко-Латинская Академия. Там царили греки, и в статутах учреждения фигурировало даже формальное порицание уже умершему в 1680 г. Полоцкому и самому Медведеву. Но, тем не менее, программа проектируемых занятий была составлена в духи украинских идей, и Медведеву в 1685 году была предоставлена честь представить эти статуты на утверждение царевны Софии. Напротив, выбор профессоров был поручен константинопольскому патриарху Досифею, который рекомендовал братьев Лихудов.
Таким образом Москва, казалось, вернулась к традициям девятого века, возродила те отдаленные дни, когда другой иерусалимский патриарх послал ей «двух фессалоникийских братьев», чтобы приобщить ее к истинам веры. И, в общем, греческая партия господствовала в этом институте, владевшем огромными привилегиями и, между прочим, очень широким правом цензуры. Утверждение Академии стало необходимым хотя бы для того, чтобы иметь у себя на дому учителей иностранных языков. Изучение всех свободных наук было подчинено ее надзору и ее юрисдикции, которая пользовалась даже правом осудить виновных на ссылку в Сибирь или даже на костер! Эта школа обратилась в трибунал инквизиции, о чем замечает прибывший в Москву в 1689 году ученик Якова Бёме, Кольман. Завоевав себе нескольких адептов в немецком квартале, он был осужден Академией и сожжен.
С научной точки зрения это учреждение только прозябало. В старом разрушенном доме братья Лихуды нашли всего семь учеников и, несмотря на все их усилия применить Аристотеля к принципам самого чистого православия, они не избежали подозрений в ереси. То были впрочем очень посредственные ученые и, как большинство их соотечественников, главным образом искатели карьеры. Так как они учились в Падуе, то несмотря на все усилия с их стороны держаться подальше от латинизма, он вторгся в их лекции, незаметно возбудив против них законные подозрения. Чисто греческая программа высшего образования являлась в эту эпоху неосуществимой химерой. В своем возбуждении против своих противников, Медведев стал сам, чтобы погубить их, играть в игру старой московской партии. В 1694 году, наконец, константинопольский патриарх дезавуировал им же выбранных учителей. Они были отставлены, и Академия, предоставленная двум из их учеников, Николаю Семенову и Феодору Поликарпову, еще не окончившим своего ученья, доведенная до преподавания одной только грамматики, почти совсем не действовала несколько лет.
Так еще раз непримиримость защитников старого режима доказала свою бесплодность, подготовив радикальную работу Петра Великого.
Являясь по происхождению своему греческими или латинскими, малорусскими или польскими, элементы науки и культуры, перенесенные в эту страну в тех условиях, в которых она находилась, не соответствовали самым настоятельным ее нуждам. Тут дело шло не о том, чтобы делать выбор между Аристотелем и св. Иоанном Златоустом, или Плинием и Беллармином, а чтобы завести у себя армию, флот, дипломатию, весь аппарат европейской державы; мануфактуру, фабрики, мастерские, все продуктивные ремесла Запада; жилища удобно или даже артистически устроенные как там, и поучительные или развлекающие зрелища, на подобие немецких, французских или итальянских театров, весь комфорт и роскошь цивилизованных народов. Даже такой националист, как Крыжанич, тоже хвалил преимущество западного костюма, со стороны его легкости, удобства и экономии.
Становилось ясно также, что в тех узких рамках, где так горячо боролись приверженцы Полоцкого и Славеницкого, латинисты и эллинисты, – они должны будут замениться в ближайшее время теми западниками нового типа, офицерами, инженерами, ремесленниками, коммерсантами, которыми окружил уже себя Алексей и которые сделались истинными воспитателями его родины.
IV. Приобщение к европейской жизни
Приобщение к европейской жизни должно было создаться здесь через их посредство, и прошло оно как-то плохо, вкривь и вкось, потому что старая Москва в них нашла только довольно посредственных в этом смысле учителей и людей с очень плохой репутацией во многих других отношениях. Какими мы их видим на работе, это были последние кондотьеры Европы, люди предприимчивые, деятельные, иногда очень одаренные, но всегда очень сомнительной нравственности.
Шотландец Патрик Гордон был одним из лучших, и уже по нему можно судить об остальных. Самый младший в младшей линии своей фамилии, воспитанник иезуитской коллегии в Браунсберге, он поступил в 1655 году на службу к Карлу Х Шведскому и отправился на войну с Польшей. Взятый в плен поляками, он поступил к ним на службу, а когда его взяли в плен шведы, он без малейшего колебания вступил снова в их ряды. Очевидно, он был совершенно индифферентен в этом отношении и готов был продать свою шпагу кому угодно, так как в 1658 году мы его видим снова в польском лагере, а через два года он назначен майором московитов. Едва прибыв в Москву, он требует отставки, так как, по обычаю страны, вербовщик, который должен был выдать ему аванс из жалованья, вздумал удержать часть из него. Тогда вновь прибывшему объяснили, что, уходя, он рискует не попасть ни в Польшу, ни в Швецию, а добыть себе паспорт в Сибирь. Он решает тогда остаться, и в области пьянства и палочных ударов, раздаваемых своим высшим и низшим служащим, он вполне освоился с обычаями страны. В этом отношении он взял на себя роль инициатора, и его соотечественники усиливают скорее, чем ослабляют порчу местных нравов.
В других областях те, которые таким образом учат его жить, не много могут усвоить от этого иностранца. Он видел войну, и у шведов по крайней мере прошел хорошую школу, но ни приобретенная им опытность, ни его природные способности не сделали из него мастера этого искусства. Впрочем, бессильные понять его настоящие способности, его новые хозяева требуют от него других, ему несвойственных, как например инструкторской роли, поручая ему обучать солдата управление копьем и мушкетом!
Результаты, полученные с помощью вывезенных из заграницы мануфактуристов, оказались не лучше, почти ничтожными в деле национального воспитания, по различным, но одинаково решительным причинам. Приток этих инициаторов увеличивается. По соседству с Олонецом, один голландец Денис Ховис, начинает эксплуатацию медной руды. Два предприятия того же рода поручаются очень предприимчивому и богатому Пьеру Марселису, датского происхождения, у которого были также железные кузницы в окрестностях Тулы, конкурировавшие с кузницами устроенными одним немцем Тильманем Акемой, в окрестностях Калуги. Таким же образом возникли фабрики пороха и селитры, стеклянные заводы.
Француз Миньо управлял стеклянною фабрикою, существовавшей на личные средства государя. Еще один немец, Ганс Фальк из Нюрнберга, организовал в Москве литейню пушек и колоколов. Но технический персонал их был, как и они сами, исключительно иностранного происхождения.
Если они и утилизируют кое-кого из туземных рабочих, они стараются скрыть от них самый процесс фабрикации. И довольно долго им это удавалось без особенного труда. Крыжанич, действительно, сделал такое наблюдение, что одаренные большою сметливостью и такой же способностью все быстро усваивать, русские, в их сношениях с иностранцами, колебались между почти суеверным уважением к знаниям этих своих учителей и таким же к ним недоверием, заставлявшим их быть с ними настороже. Они смотрели на них как на колдунов и были склонны думать, что могут больше потерять, чем выиграть от их выучки. Тут рискуешь прежде всего скомпрометировать ту чистоту веры, которой Москва сделалась ответственной хранительницею, и в глазах диакона Феодора различные попытки запада войти в сношения с третьим Римом граничат с усилиями злого духа установить свое царство в очаге истинной христианской веры!
Некоторые продукты западной литературы, широко распространенные в эту эпоху, способствуют сами распространенно подобных идей. Из чтения одной «космографии», переведенной для их обихода, – москвитяне узнают например, что в третьей части света отданной сыну Ноя, Иафету, называемому здесь Афетом, люди очень ученые и очень искусные во всех отраслях промышленности, устроили многочисленные школы, большая часть из которых находится в Галлии, в городе, называемом Парижем. Там долго изучали все науки, грамматику, философию и астрономию. Но однажды 80 000 учеников возмутились против государя, по подстрекательству папы, и все они были убиты в один час. И в то же время, верная некогда истинной православной вере, эта страна была охвачена всеми родами ересей, между прочим среди других ересью Кольвина (sic) и Мелентова (Меланхтона).
Способы, употребляемые для набирания экзотических воспитателей, способствуют такому направлению умов. Они не руководятся никаким методом, и серьезные занятия у них перемешиваются с самыми фривольными стремлениями. Посланный в 1675 году заграницу с миссией подобного рода, голландец Ван-Стаден был уполномочен привезти оттуда рудокопов, трубачей и комедиантов. И на деле западная цивилизация стала проникать и прививаться в центре старой Московии прежде всего и особенно при помощи развлечений. Если Петр Великий и мог хвалиться, что он ударом топора пробил окно в Европу, то слуховое окно было уже проделано в нее до него, и чрез него прошел европейский театр. Посредством этой первой бреши, проломив строгие рамки Домостроя, новые идеи и нравы проникли до нерушимой ограды терема, как струя свежего воздуха, как оживляющий и будящий свет. В той парадоксальной кривой, которой следовала здесь интеллектуальная эволюция, Славяно-Греко-Латинская Академия предшествовала устройству первоначальных школ, но комедианты появились еще раньше, чем академики.
Они также пришли из заграницы. Под тяжестью режима, основывавшегося на беспощадном отрицании всякой независимости в области искусства, как и в области мысли, сам Табарин не мог найти в этой стране дерева для своего балагана. Шутки скоморохов, шуточные фарсы вожаков медведей заключали уже в себе некоторые элементы национальной комедии; принципиально запрещенные, часто преследуемые, находясь постоянно под строгим наблюдением, они не доставляли материала для оригинального искусства, способного развиваться.
V. Развитие литературы
С 1660 года, Алексей был живо заинтересован описаниями, которые, по возвращении из Италии и из Польши, делал ему обо всем виденном им при посещенных им дворах – его посланец Лихачев. Занявшись несколько позже и быть может под влиянием других впечатлений, полученных из этого же источника, украшением своей резиденции в Коломенском, государь, кажется, попытался воспроизвести там сценические феерии Флоренции и Варшавы. Присутствие при нем очень строгой Марьи Ильинишны между тем являлось препятствием для осуществления таких стремлений. Но в 1668 году Потемкин привез, на этот раз уже из Франции, еще более заманчивые сенсационные новинки. Он видел представление «Ударов любви и судьбы», с чудесною переменою декораций и поразительным балетом. Он присутствовал на представлении Амфитриона, данном Мольером с его труппой, и был охвачен полным восторгом, особенно, следует думать, благодаря некоторым интермедиям, о которых Рифмованная Газета упоминает таким образом:
La troupe o? prеside Moli?re
Par une ch?re toute enti?re
Leur donna son Amphitrion
Avec ample collation,
Pas de ballet et symphonie
Sans aucune cacophonie.
Амфитрион удостоился вскоре чести быть переведенным на русский язык и, хотя Лихачев в своем рапорте благоразумно не упоминает ни о Мольере, ни о его произведении, распространяясь только об упражнениях в вольтижировке, устроенных в его присутствии в Сен-Жерменском парке, но уже близок был момент, когда его государь мог свободно предаться своим давнишним желаниям. В январе 1672 года живая и веселая Наталия Нарышкина вошла в Кремль, и к концу того же года, за несколько месяцев до рождения Петра Великого, немецкие комедианты устроились уже в Москве.
Предполагают, что воспитатель Наталии Матвеев вызвал их, но он не посмел бы это сделать без согласия царя. Увидев их представление в доме своего любимца, Алексей пригласил комедиантов играть при его дворе. Их появление не возбуждало беспокойства, так как режиссер труппы, Иоганн Годфрид Грегори, соединял свои функции с должностью пастора в европейской слободе! Но государь все-таки еще несколько смущался на этот счет.
Пусть уж комедия, но музыка! Церковь особенно осуждала скрипки и флейты, считая их диавольской выдумкой. Комедия? Грегори вероятно еще не осмеливался поставить на сцену пьесы, сюжеты для которых были взяты из Священной Истории и которые он играл уже в Германии. Церковь считала бы это святотатством! Для начала у него были в программе лишь дивертисменты, между которыми фигурировал поющий и танцующий Орфей между двумя движущимися пирамидами. Но как танцевать или петь без музыки? Алексей кончил тем, что уступил, и Наталия сыграла в этом, конечно, некоторую роль. Она присутствовала на спектакле в ложе, закрытой решеткою, и уже это было целою революцией.
Такое событие произвело, конечно, скандал, но спустя немного великий пост прекратил все светские удовольствия. Этот дебют ничего не обещал. Но между тем то, что последовало за этим, трудно было предвидеть. В июне 1673 года, обрадованный рождением сына, царь приказал выстроить специальную залу, где давали Есфирь еще до появления пьесы Расина. Сюжет ее представлял некоторую аналогию с романической интригой, которая возвела на трон дочь Кирилла Нарышкина; следует допустить, что это сходство предопределило выбор, или даже служило главным мотивом составления пьесы, автором, которой мог быть Полоцкий, и отсюда видно, какие горизонты открывались зарождавшемуся искусству таким смелым вторжением в область современности. Эта страна всегда была родиной гипербол.
Из предосторожности новая зала была заложена в селе Преображенском, в будущей колыбели всех реформ Петра Великого; но в следующем году вторая зала была устроена уже в самом Кремле, и отныне спектакли сменялись в этих двух залах, смотря по сезону, с правильными промежутками. Переносили из одной в другую декорации, нарисованные Энгельсом; Грегори сформировал учеников, набранных сначала среди прихожан слободы, он не боялся больше воспроизводить здесь свой обычный репертуар, уже давно популяризированный в Польше: Товит следовал на сцене за Есфирью и Юдифью; возмущение национального или религиозного чувства понемногу затихало. Театр одержал верх.
В Польше представления этого рода, победоносно бравируя оппозицию клира, относятся к двенадцатому веку. В более близкую эпоху они приняли форму «диалогических сцен», составленных по образцу старинных немецких мистерий с тем же господством комического элемента. Когда иезуиты приняли этот репертуар для своих коллегий, он проскользнул этим путем в киевскую академию Могилы и был очень близок Полоцкому и его украинским собратьям. В Преображенском или в Кремле он сохранял тот же средневековый колорит, но подчеркивая комическую сторону для зрителей, которых расхолодил бы их прежний серьезный стиль. То был комизм довольно грубый, как и следовало ожидать: перед трупом, например, Олоферна, служанка рассуждает о затруднении, в котором должен был очутиться вождь, когда увидел, что Юдифь уносит его голову. Пораженный в затылок лисьим хвостом, как пьяный монах при допросе Аввакума, солдат воображает, что ему отрубили голову и поэтому начинает бесноваться. Язык этих глупых шуток пестрел тривиальными выражениями и обычно был так затемнен, что становился непонятным.
Ни по форме, с другой стороны, ни по существу своему этот репертуар не являлся здесь результатом национального духа; он даже не был связан с теми символами Священной Истории, которые вводила иногда в свою службу национальная церковь, сопровождая их диалогами и соответствующими песнопениями. Представляя собой некоторое сходство с западными мистериями, эти священные драмы отличались от них между тем и своим духом и своим стилем, сохраняя всегда ритуальный характер. Этот театр, в тех условиях, при которых он был насажден на берегах Москвы-реки, не представлял собой ничего народного и не обращался к народу. В начале он являлся лишь развлечением для двора, привилегией царя, его семьи и его приближенных. Подражание иностранным образцам в них было абсолютно рабским, обнаруживая лишь в нескольких чертах влияние окружающей среды. Но это не могло долго продолжаться. Вскоре, – и очень быстро, если считаться с теми волнениями, которые после смерти Алексея временно уничтожили интерес, возбужденный к этой сфере в московской публике, – национальный дух завоевал себе в них место. К концу века уже попадаются типы, взятые из местной жизни, в драматических произведениях Св. Димитрия Ростовского, а несколько лет спустя появляется одна трагедия, берущая свой сюжет из самой истории страны.
На определенной ступени умственного развития народы подобны малым детям: их можно заинтересовать, научить чему-нибудь и возбудить в них работу ума лишь посредством образов. Театр в Преображенском и в Кремле и был именно такою книгою изображений, сначала открытого перед замкнутым кругом избранных лиц, но не преминувшей распространить дальше свое возбуждающее и воспитательное влияние. Об этом свидетельствуют в ту эпоху литература страны и тоже ее народная поэзия.
В семнадцатом веке народная поэзия занимает еще в русской жизни довольно значительное место. Она охватывает два отдела: один светский, связанный с эпическим циклом Киева и переносимый из одного места в другое странствующими скоморохами, и другой, религиозный, черпавший свое вдохновение в христианских легендах на почве апокрифической, привитой переводами с сербского или с болгарского; посредниками здесь являются нищие, слепые, калики, как их здесь называют. Церковь одинаково их преследует и, так как в конце этого века почти совершенно исчезают барды первого типа, то их соперники смешивают оба репертуара, делая из Ильи Муромца святого, а из Соломона героя былины.
Дружинник Владимира между тем продолжает оставаться любимцем публики и все более обращается в казака. Часто он именно так квалифицируется и, уже игнорируя хронологию, его определенно называют «донским казаком». Он принял даже все характерные черты последнего: так, разгневанный за то, что его не пригласили на пир, Илья стреляет из своего мушкета в чудотворные иконы; он хочет убить Владимира с женою, и всегда является представителем вековой борьбы между кочевым и воинственным населением степи и оседлым и трудолюбивым населением деревень и городов. Он меняет лишь свое имя, не изменяя своего характера, и как Ермака начинают считать племянником Владимира, Илью заставляют сражаться в качестве есаула в шайке Стеньки Разина.
Но вот, пройдя через горнило польской литературы, другие исторические фигуры входят в область народной фантазии. «История Трои» Гвидо Мессинского появляется в русском переводе: уже устарелый для Запада, рыцарский роман сделался предметом легкого чтения в высших московских сферах, и под названием Бовы Королевича, Буово д'Антона, нашел себе страстных поклонников.
Несмотря на господство византийского элемента, римское влияние всегда чувствовалось в литературе страны, но теперь оно взяло верх. Местный поэтический фонд был им обесценен в то самое время, как движение против суеверия в борьбе с расколом пробило брешь в эпопее на почве чудесного у национальных поэтов. Чувствуется необходимость ввести в нее историческую правду, реалистическое течение бродит в умах, поэзия теряет свое значение перед прозою, и роман наследует театру.
Несколько местных писателей уже пробовали им заняться. Со второй половины этого века всюду циркулировали анекдотические рассказы, фантастически обрисовывающие факты и личности, близкие к еще живой современности. Не достигая своего образца, эти сказки однако напоминают собою Декамерон. В них чаще всего выведен Иван Грозный. Странствуя по своему государству в переодетом виде, подобно второму Гаруну Аль-Рашиду, он получает в подарок от крестьянина, для которого он остается незнакомцем, пару грубых лаптей и брюкву. Царь надевает лапти и, заставив всех бояр носить такие же, богато одаряет находчивого мужика. После этого один из бояр думает снискать милость государя великолепною лошадью, надеясь получить награду, соответственно подарку, но царь дарит ему в обмен сохраненною им брюкву. В другой раз мы видим Ивана Грозного уже в обществе разбойников, которым он поручает ограбить одну из государственных касс, как это делают экспроприаторы нашего времени. Но эти личности в семнадцатом веке оказываются, однако, более совестливыми. Один из них ударяет царя по лицу, говоря, что бесчестно грабить государя, которым не нахвалятся бедняки. Совсем другое дело нападать на бояр, которые сами обогащаются, грабя своего государя.