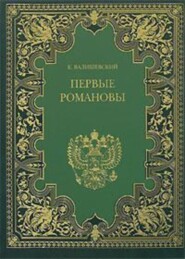По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Петр Великий
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
мая в 19 д. вашего величества Бомбардир
Piter».
Конец был таков, какого можно было ожидать. Петр принужден был, подобно Софье и Голицыну, присылать известия о вымышленных победах. В Москве отслужили молебен по поводу взятия двух незначительных фортов, но все знали, что две атаки на самую крепость были бесплодны и причинили много потерь. Было произведено испытание новой армии и ее молодому творцу, и оно было решающим. Семь лет юношеских импровизаций привели к самому жалкому и самому унизительному результату. Вот где начинается история Петра Великого.
III
Петр был не только великим человеком. Он является вместе с тем самым полным, самым понятным и самым многосторонним олицетворением великого народа.
Никогда народ не отражался так точно, со своими недостатками и своими достоинствами, с высотами и глубинами своего нравственного уровня, со всеми чертами своей физиономии, в одной единственной личности, бывшей его представителем в истории. Те скрытые источники ума и души, которые Петр обнаруживает в эту минуту; то, что он делает, и то, благодаря чему он достигает своего полного развития, Россия будет проявлять изо дня в день, из года в год, на протяжении двух веков, и она возвеличится так же, как он. Разбитая турками и шведами, захваченная Европой, как прежде Азией, после 20-ти поражений, 20-ти мирных договоров, продиктованных ее победителями, она будет раздвигать свои границы за их счет, расчленит Турцию, Швецию и Польшу и будет диктовать свои законы европейскому континенту, благодаря своей настойчивости.
Упорно преследовать свою цель, – недостижимую на первый взгляд, – по избранному ею опасному пути, пользуясь, иногда, неудачными средствами, удваивать, утраивать усилия, учащать удары и терпеливо выжидать часа, – в этом весь ее секрет. Все дело в одной ее душе, твердом металле, закаленном веками рабства и искупительного труда. Величие Петра, величие России подготовлено монгольским завоеванием и терпеливым духом московских князей, закаленном на наковальне, о которую разбился молот завоевателя.
На другой день после этого неудачного похода московская оппозиция со злорадством вспоминала пророческие слова патриарха Иоакима, его проклятие иностранных солдат и еретических начальников. Но Петр, напротив, еще усиленнее призывал иностранную науку и промышленность, просил инженеров у Австрии и Пруссии, матросов и плотников у Голландии и Англии. Флот Переяславльского озера никуда не годился; царь решил построить другой в Воронеже, в Донском бассейне, но натолкнулся на затруднения, которые другому могли бы показаться непреодолимыми. Рабочие, набранные заграницей, собирались медленно и сплошь и рядом возвращались на родину при виде страны, в которую их вызвали и где им предстояло жить и работать. Местные рабочие только портили, ничего не понимали и также убегали массами от дурного обращения. Леса, из которых привозили строительный материал, выгорали целыми десятинами; более образованные сотрудники, офицеры, инженеры, врачи подражали хозяину, превосходя его недостатки. Происходили бесконечные оргии, ссоры, драки. Лефорт, извещенный курьером, принужден был давать отчет о всем, что происходило в вверенной ему отрасли. И он начинает: «Сего числа князь Борис Алексеевич у меня будет кушать и про ваше здоровье станем пить; а с Москвы мой первый наслег (ночлег) будет в Дубровицах, и там мы вашу милость не забудем. Что я, что у вашей милости пива доброва нет на Воронеже: я к милости твоей привезу с собою и мушкатель-вейн и пива доброва».[7 - На письме приписка по-голландски: «Г. капитан! Все добрые друзья и подруги приветствуют тебя покорнейше. Остаюсь слуга твой навсегда Лефорт». Адрес на обороте: Den Herr Capitain Petrus. Voronets (Воронеж).]
Работы были начаты осенью 1696 года; на следующий год 3 мая на воду было спущено двадцать три галеры и четыре брандера, которые тотчас же были отправлены к Азовскому морю. Во главе этой флотилии на галере Principium, построенной почти целиком им самим, находился капитан Петр Алексеев. На борте других судов за ним следовали: адмирал Лефорт, вице-адмирал Лима, венецианец, и контр-адмирал Валтазар де Лозиер, француз. На этот раз русский флот был создан не на шутку.
Нельзя сказать, чтобы он покрыл себя славой, так же, как сухопутное войско под командой боярина Шеина, вместе с которым он должен был совершить новую попытку взятия Азова. Потешные полки слишком привыкли «потешаться»; стрельцы годились только на осаду дворцов; пушечные выстрелы приводили их в смятение. Под стенами неприступной крепости Петр решал уже их участь.
Вид и приемы всего этого лагеря до прибытия настоящих мастеров своего дела напоминали осаду Трои. Генералы теряли головы, Гордон, самый ловкий из них, тщетно пытавшись пробить брешь, собрал всех офицеров и солдат на военный совет. Один из стрельцов предлагал насыпать холм выше стен крепости и затем засыпать ее оттуда. Владимир Великий прибегал будто бы к этому способу при взятии Херсона. Стратегия Владимира Великого принята была с энтузиазмом, но она лишь слегка напугала турок и вызвала улыбку сожаления на лицах немецких инженеров, приехавших наконец. Петр был очарователен в своем увлечении, своей веселости и юношеской дерзости. Он писал своей сестре Наталье, обеспокоенной опасностями, которым он подвергал себя:
«По письму твоему я к ядрам и пулькам близко не хожу, а они ко мне ходят. Прикажи им, чтоб не ходили; однако хотя и ходят, только по ся поры вежливо. Турки на помочь пришли, да к нам нейдут и чаю, что желают нас к себе».
Но стойкий в своих решениях, Петр все так же был подвержен унынию, так же легко выходил из равновесия. 20 мая, отправившись на рекогносцировку с целью помешать турецким судам подвозить съестные припасы к крепости, Петр при виде их многочисленности быстро отступил со своими галерами. На другой день в 10 часов утра он явился к Гордону мрачный, унылый, ожидающий всяких неудач, но в 3 часа возвратился сияющий: не получив никаких распоряжений, повинуясь только своей храбрости, козаки на своих чайках (легких челноках, сделанных из кожи), летающих по воде как птицы, имя которых они носили, атаковали накануне вечером большие корабли султана и обратили их в бегство, причинив им большие потери. Это был для артиллерии Гордона удобный случай отличиться. Не попав ни одним ядром в неприятеля, она выпалила огромное количество пороха на воздух в честь победы. Вообще палили при всяком удобном и неудобном случае: будь то прибытие нового отряда, взятие редута или неприятельской шлюпки.
Усилие на этот раз было так велико, желание победить так сильно, что при помощи казаков и немецких инженеров предприятие было наконец приведено к вожделенному концу. 16 июля батареи, воздвигнутые наконец артиллеристами иностранным, открыли губительный огонь; 17-го смелая помощь запорожцев (днепровских казаков), действовавших на суше и на море с одинаковой храбростью, передала в их руки часть крепостных сооружений, а 18-го Петр писал Ромодановскому:
Государю генералиссимусу князю Федору Юрьевичу 20 июля 1896 года.
«Min Her Kenich.
Известно вам, государь, буде, что благословил Господь Бог оружия ваша государское; понеже вчерашнего дня, молитвою и счастьем вашим государским, Азовцы, видя конечную тесноту, сдались, а каким поведением и что чего взято, буду писать в будущем письме. Изменника Якушку отдали живо. С галеры Принципиум июля 20 дня».
Молодому царю после этой победы не стыдно было показаться своим западным соседям. Он горьким опытом убедился, что должен многому поучиться у них. Его ум расширился и просветился новым светом. Замышляя обширный план морской политики, он видел, что широкое участие придется уделить в нем иностранцам. Собираясь соединить Дон и Волгу целой системой каналов, он больше не решался действовать по-прежнему наобум. Недостаточно привезти строителей из Венеции, Голландии, Дании и Швеции; недостаточно послать своих офицеров заграницу – 28 в Италию и 22 в Голландию и Англию; надо самому поехать с ними, самому серьезно поучиться, и поработать в поте лица. В этой жажде знаний и в этом усердии было еще немало ребячества; будущему ученику саардамских плотников суждено проявить еще немало чисто-детских черт; но цель была намечена, размах сделан. Большим путешествием по Европе начнется одна из самых удивительных карьер в истории.
Глава 2
Путешествие. Германия. Голландия. Англия. Возвращение
I
Чтобы найти в истории России пример подобного путешествия, следует вернуться к одиннадцатому веку. В 1075 г. великий князь киевский Изяслав посетил в Майнце Генриха IV. Снова старая традиция, возобновленная Петром, конечно, бессознательно. Со времен Иоанна Грозного, уже одно только желание посетить иноземные края считалось со стороны царских подданных величайшей изменой. В царствование Михаила по этому поводу князь Хворостин подвергся жестокому преследованию. Он в присутствии друзей завел разговор о путешествии в Польшу и Рим, очень для него желательном, «чтобы найти людей, с которыми можно бы было поговорить». Немного позднее, когда сын наиболее приближенного советчика Алексея, Ордын-Нащокин, тайным образом переехал через границу, возник вопрос об убийстве его в чужих краях.
Сам Петр не решался идти настолько в разрез с общественным мнением, чтобы придать своему отъезду официальный характер. Он позволил себе путешествие почти украдкой, и какой-то примитивной наивностью отзываются предосторожности, принятые им, чтобы обеспечить себе удобства инкогнито, тайну которого он постоянно сам первый нарушал со своей природной горячностью. Снаряжается великое посольство, с поручением, посетив поочередно императора римского, королей английского и датского, папу, Голландию, курфюрста бранденбургского и венецианскую республику – всю Европу, за исключением Франции и Испании, – «выразить там желание о возобновлении старинных уз дружбы, имея в виду ослабление врагов рода христианского». Посланников было всего трое: Лефорт в качестве первого представителя стоял во главе своих союзников, Головина и Возницына. В их свите значилось пятьдесят пять дворян и добровольцев, и в числе их «унтер-офицер Преображенского полка, по имени Петр Михайлов» – сам царь. За все время путешествия на письмах, адресованных государю, должна была стоять краткая надпись: «передать Петру Михайлову». Все это ребячество; но вот трогательная подробность: печать, предназначенная для пользования самозванным унтер-офицером во время переписки, представляла молодого плотника, окруженного инструментами, необходимыми при постройке кораблей, кругом – надпись: «Мое звание – ученик, и мне нужны учителя».
В Москве существовали иные предположения относительно действительной цели путешествия. Большинство думало, что царь, отправляясь за границу, намеревается заниматься там тем же, чем до сих пор занимался в Слободе, т. е. едет для забавы. Сам Петр предвидел ли в то время обширные горизонты, раскрывшиеся благодаря его поездке? Сомнительно. Проезжая по Лифляндии, он, правда, уже поговаривал о намерении обрезать бороды и укоротить полы одежды своих подданных, но судя по лицам и платью его спутников можно было думать, что это пустые слова. Лефорт одевался по-татарски, а рядом с ним молодой князь Имеретинский щеголял в великолепном персидском наряде.
Вообще, с самого начала, ни с русской, ни с европейской точки зрения, путешествие не имело той важности, какую впоследствии придали ему события. Оно не обратило на себя особого внимания. В этом отношении мне, к сожалению, приходится разрушить еще одну лишнюю легенду, любовно взлелеянную народным тщеславием. В России уже привыкли к мысли о скитаниях государя или, вернее, отвыкли совсем его видеть; в Европе умы были заняты в другом направлении. Час, выбранный Петром, чтобы завязать знакомство со своими западными соседями и представить себя их любопытствующим взорам, был для них полон торжественности. Предстоял конгресс Росвикского мира. Все внимание дипломатии, торговли, умственных интересов было направлено в ту сторону. Приведу лишь одно доказательство: во французских архивах хранится восемь томов, заключающих переписку Людовика XIV с уполномоченными, обязанными в 1697 г. защищать его интересы пред лицом великого дипломатического собрания. Ручаюсь, что имя Петра упоминается там не более одного раза, да и то мимоходом. Прервав свои труды и научные работы, царь из Амстердама отправился в Гаагу, где для него готовилась официальная встреча. Уполномоченные сообщают об этом факте, и тем дело кончается. Долгие месяцы они были его близкими соседями, – они, заседая в Дельфте, он, работая в Амстердаме, – и по-видимому не подозревали о его существовании. Известно ли им было по крайней мере, как его зовут? Даже по поводу польских дел, которыми им часто приходилось заниматься, они не обмолвливаются о нем ни словом. Очевидно, они не предчувствовали ту роль, которую будущий союзник Августа II собирался себе в этом отношении присвоить.
Появление московского государя, за пределами своей страны вообще было мало известного, возбуждало интерес только в очень узкой сфере. В следующем году оно послужило темой для публичного диспута в Торнском университете. Ученые уже с некоторых пор начали заниматься Московией. В Англии Мильтон написал книгу о великом северном государстве и породил целую литературу, посвященную тому же вопросу. В Германии Лейбниц недавно выразил мнение, что только русские в состоянии избавить Европу от оттоманского ига. Но именно с научным миром Петр Михайлов всего более стремился в данную минуту вступить в общение, и с этой точки зрения, – после великого кризиса, поставившего Людовика XIV лицом к лицу с могущественнейшей коалицией, и перед близким кризисом испанского наследства, в краткий промежуток затишья и успокоения, дарованного Европе истощением Франции, – минута была наиболее подходящая для путешествия по старому европейскому континенту с научной целью и для развлечения.
Назначенный на февраль 1697 г. отъезд оказался отсроченным раскрытием заговора на жизнь царя. Во главе злоумышленников мы встречаем старого знакомого, Циклера, прежнего сторонника Софьи, из которого пренебрежение Петра создало недовольного. Что же касается его сообщников, их легко угадать: опять все те же стрельцы! Петру предстояло, следовательно, постоянно видеть их перед собой, дышащими ненавистью и угрозами! Впрочем, инцидент был быстро исчерпан; отсечено несколько голов, и отъезд, наконец, состоялся 10 марта. Но тень уже омрачила радость путешествия и оставила в душе молодого государя осадок мрачного злопамятства. Опять те же бесконечные галлюцинации кровавых призраков, витавших вокруг его колыбели.
Так что ж, пусть будет объявлена война, раз они того желали! При первом удобном случае счеты будут сведены. А пока следовало держаться настороже, меч отражать мечом, постоянным заговорам противопоставить вечный розыск, кинжалу, всегда занесенному из-за угла – Лобное место, надолго воздвигнутое на Красной площади. Временно этой обязанностью должны были заняться друзья и наиболее надежные сотрудники царя, пока, вернувшись, он не возьмется за дело сам. Но издалека он поощрял рвение Ромодановского. В Германии, в Голландии, в Англии, повсюду, среди невиданных зрелищ, изумления, ослепления, ожидавших его, за ним неотступно следовал тревожный призрак, гнетущий кошмар смертельных опасностей, по-видимому, неразлучных с его судьбой. Таким образом возродился и развился в нем мрачный, дикий и неумолимый дух его предков, сливая блеск распространения цивилизации с кровавой тенью ужасной резни. Вместе с секирой он взял в руки топор: он дровосек и палач.
Посольство медленно подвигалось вперед. Поезд состоял из двухсот пятидесяти человек. В свите одного только Лефорта значилось одиннадцать дворян, семь пажей, пятнадцать камердинеров, два ювелира, шесть музыкантов и четыре шута. В Риге, на шведской территории, прием был оказан любезный, но холодный. Губернатор Дальберг, сказавшись больным, не появился. Петр впоследствии воспользовался этим обстоятельством и превратил его в casus belli, указывая на личные оскорбления. В ссылках на западную цивилизацию не доставало искренности. Официальным образом его особа не могла быть затронута. В Риге, как и везде, послы получили приказ принимать за смешную выдумку указание на присутствие среди посольства молодого государя. Все должны были думать, что он находится в Воронеже и занят постройкой своего флота. Дальберг, может быть, проявил некоторую насмешливость, делая вид, что вполне верит такому утверждению; а русские, следуя склонности, – к сожалению, кажется, сделавшейся наследственной, – слишком бесцеремонно предъявляли свои права на чересчур широкое гостеприимство. Петр собственной рукой собирался набросать план крепости! Его остановили. По-видимому, на это были основания: его отец осаждал город! Обиды, если они существовали, были по крайней мере обоюдными.
Дурное настроение путешественников рассеялось в Митаве. Правивший в то время герцог, Фридрих-Казимир, был для Лефорта старинным знакомым. Он приготовил посольству сердечный и торжественный прием. Петр позабыл свое инкогнито и поражал любезных хозяев неожиданностью своих речей, высмеивая нравы, предрассудки и варварские законы своей страны. Запад уже начинал его захватывать. Но он оставался еще прежним причудливым и сумасбродным юношей. В Либаве он увидал в первый раз Балтийское море, море варягов, и, не имея возможности, благодаря дурной погоде, продолжать свой путь, проводил время в винных погребках в обществе портовых матросов, чокаясь и болтая с ними, упорно выдавая себя на этот раз за простого капитана, на которого возложено поручение вооружить капер для царской службы. Вот он в Кенигсберге, опередив свое посольство, предоставив ему совершать переезд сушей, а для себя сократив дорогу и поплыв напрямик на торговом судне. Он отказывается выйти к принцу Голштейн-Бекскому, высланному ему навстречу курфюрстом бранденбургским; заставляет судового шкипера поклясться, что на его судне нет никакого знатного пассажира, засиживается там до ночи и только в десять часов вечера решается переехать в приготовленное для него помещение. Там встречает его придворный церемониймейстер, Иаков фон Бессер, утонченный царедворец, кроме того поэт и ученый. Петр подскакивает к нему, срывает с него парик и отбрасывает в сторону.
– Кто это? – спрашивает он у спутников. Ему объясняют по мере возможности обязанности Бессера.
– Хорошо, пускай приведет ко мне девку.
Сознаюсь, что анекдот, хотя приведенный историком серьезным и вовсе не недоброжелательным, может показаться подозрительным. Многочисленность подобных выходок, повторяемых легендой, не оставляет никакого сомнения относительно общего получаемого отсюда впечатления. Ясно, что будущий преобразователь оставался пока еще молодым дикарем. На следующий день он виделся с курфюрстом, беседовал с ним на плохом немецком языке, усиленно пил венгерское вино, но отказывался от посещения курфюрста: он снова превратился в Петра Михайлова. Потом спохватился и приготовил прием, по его мнению великолепный, сопровождаемый фейерверком собственного изготовления. В последнюю минуту курфюрст прислал свое извинение. Горе вестникам, сообщившим такую досадную новость, двум знатным сановникам, графу фон Крейзену и судье фон Шлакену! Петр сидел за столом в обществе Лефорта и одного из шутов. Лефорт держал трубку в зубах. Царь, по-видимому, пьяный, в порыве нежности, по временам наклонялся к своему любимцу и обнимал его. Он пригласил посланных сесть рядом с собою за стол, потом вдруг, ударив кулаком по столу: «Курфюрст славный, но его советники черти. Gehe! Gehe! (Пошли вон…) Он вскочил, схватил одного из бранденбуржцев за шиворот и вытолкнул за дверь: „Gehe! Gehe!“
Когда он выходил на прогулку в Кенигсберге в качестве простого туриста, все разбегались в разные стороны, чтобы не испытать на себе его остроумия, богатого не особенно приятными выходками. Повстречавшись с придворной дамой, он остановил ее резким движением руки и раскатом своего громового голоса: «Halt!» Он взял часы, замеченные у нее на корсаже, посмотрел который час, и пошел дальше.
Курфюрст высказывал полную готовность радушно встретить своего гостя и приготовить ему пышный прием; его любви к церемониалу и блеску льстило присутствие такого необычайного посольства, и он имел надежду на заключение оборонительного союза против Швеции. Стоило ему это полтораста тысяч талеров: зря выброшенные деньги! Петр уклонялся от разговоров, выслушивая их рассеянно, далеко блуждая мыслями. В вопросах политических его внимание, или вернее, внимание его советников, было поглощено делами польскими, где смерть Собесского выдвинула две соперничавшие кандидатуры: курфюрста Саксонского и принца де Конти. Петр держал сторону Августа, против его конкурента, т. е. против Франции, союзницы Турции. Переписываясь из Кенигсберга с польскими вельможами, он выражал решительное намерение принять участие в борьбе. Армия под предводительством Ромодановского двинется к границам Лифляндии. Он уже грозил!
Посольство задержалось в Кенигсберге в ожидании событий, чем Петр воспользовался, чтобы удовлетворить свое настойчивое любопытство, ненасытную потребность знаний. Иногда ему приходили очень странные фантазии, вроде желания присутствовать при казни посредством колесования, какую он мечтал, по-видимому, включить в уголовное судопроизводство своей страны, чтобы внести разнообразие в его репертуар. Перед ним извинились отсутствием в настоящую минуту преступника, заслужившего подобную кару. Он удивился: что за нежность с осужденным на смерть! Почему не хотят воспользоваться кем-нибудь из его свиты? Однако в то же время он занимался с фельдцейхмейстером Штернфельдом и через несколько недель получил от него формальный диплом, которому однако напрасно придавали слишком большое значение. Три года спустя во время пребывания Петра в замке Бирзэ, в Лифляндии, вместе с королем польским, оба государя, одинаковые поклонники оригинальности, развлекались стрельбою в цель из пушек. Август попал два раза, а Петр ни одного.
Молодой царь в это время уже был тем странным человеком, с которым два года спустя предстояло познакомиться европейскому миру, где он надолго оставил по себе удивление и страх: невероятно деятельным, подвижным, предприимчивым, обыкновенно веселым, полным неистощимой живости и шутливости, даже добродушия, с неожиданными припадками раздражения, внезапными взрывами гнева, приступами ярости или тоски; гениальным и причудливым, беспокойным и беспокоящим других. Однажды во время ужина у курфюрста в низкой зале с мраморным полом один из слуг уронил тарелку. Моментально Петр с диким видом, свирепым лицом, обнажает шпагу и принимается наносить удары, которые по счастью никого не ранят. Успокоившись, он настойчиво требует наказания виновного. От него удается отделаться только приказав отстегать плетью в его присутствии какого-то беднягу, провинившегося в другом проступке.
В первых числах июля, когда Август по-видимому окончательно взял верх в Польше, посольство двинулось в дальнейший путь. Вена была его заранее намеченной целью, так как имелось в виду начало переговоров о союзном договоре; но царский посланник Нефимов пожелал взять инициативу на себя или по крайней мере поддержать такую видимость. Союз оборонительный и наступательный, по его словам, был готов. С другой стороны, Лефорт настаивал на путешествии прямо в Голландию, хотя его весьма умеренное рвение кальвиниста тут было не при чем, как то предполагали. Вообще случай гораздо более руководил планом путешествия, чем это принято думать, и даже общим направлением, приданном ему обстоятельствами.
Странно, что по пути в Голландию Петр не остановился в Берлине. Он только проехал через город. Будущая столица великого Фридриха показалась ему не заслуживающей особого внимания. Ему удалось в другом месте встретиться со всем, что целая Пруссия могла бы ему представить наиболее привлекательного, – познакомиться в то же время с Германией просвещенной и образованной в ее самом пленительном проявлении. Курфюрстина Бранденбургская, будущая королева, София-Шарлотта Прусская, не сопровождала мужа в Кенигсберг, она воспользовалась его отсутствием, чтобы посетить свою мать, курфюрстину Софию Ганноверскую. Однако прибытие еще несколько сказочного государя из таинственной Московии не оставило ее вполне равнодушной. Мать и дочь считались одними из наиболее образованных женщин своей эпохи. Предназначавшаяся прежде в невесты принцу французского королевского дома, София-Шарлотта два года провела в Версале. Она сохранила характер француженки. Двадцати девяти лет от роду, в данную минуту она считалась самой красивой и остроумной женщиной своей страны. Ее интимный кружок являлся умственным центром. Лейбниц принадлежал к нему и передал ей тот горячий интерес, какой возбудило лично в нем событие, взволновавшее Кенигсберг, открывая перед ее подвижным умом новые горизонты, целую программу занятий по этнографии, лингвистике, археологии, – целый план обширных научных исследований, для исполнения которого, при помощи московского государя, роль величайшего ученого Германии казалась уже предначертанной. Он уже изучал язык и историю страны. Раньше он указывал на Польшу, как на природный оплот христианства против варваров всякого происхождения, турок или русских. Теперь эти слова были позабыты. Петр, может быть, и оставался варваром, но варваром с великим будущим, и Лейбниц радовался тому, хотя и причислял его к одному разряду с Кам-Ки-Амалогдо-Ганом, китайским императором, и с Ясок-Аджам-Нугбадом, королем абиссинским, его современниками, тоже по-видимому замышлявшими великие дела. София-Шарлотта приказала присылать себе подробные отчеты относительно пребывания царя в Кенигсберге. Они не внушили ей особенно выгодного представления о степени культурности и воспитанности, какие можно было ожидать встретить у высочайшего путешественника; но не уменьшили ее желания его увидать. По этому поводу она вела деятельную переписку с министром Фуксом; в мае 1697 г. она писала ему: «Мне бы хотелось, чтобы его убедили проехать здесь, не для того чтобы посмотреть, а чтобы показаться, и мы с удовольствием употребили бы то, что тратится на редких зверей, для такого случая». И месяц спустя: «Хотя я враг нечистоплотности, но на этот раз любопытство берет верх.
Заинтересованный в свою очередь, увлекаемый без сомнения воспоминаниями, оставшимися от любезных слободских немок, Петр охотно согласился на встречу, состоявшуюся в Коппенбрюгге, в великом герцогстве Целль, резиденции герцога брауншвейгского. Молодой государь сначала испугался множества встретивших его здесь лиц, так как обе курфюрстины забыли его предупредить, что пригласили всех членов своего семейства. Он сделал вид, что хочет избежать свидания, поспешно покинул селение, и пришлось целый час его уговаривать, чтобы убедить вернуться. Наконец он появился в замке, но на приветствие, с каким обратились к нему курфюрстины, отвечал только жестами, закрывая себе лицо руками и повторяя: «Ich kann nicht sprechen»…[8 - Я не умею говорить.] – дикость, а также природная застенчивость, в чем я убежден и что подтверждается дальнейшим свиданием, так как молодой государь вскоре стряхнул с себя смущение и довольно быстро приручился. За ужином он еще проявлял некоторую неловкость, сделал несколько промахов, не знал, куда девать салфетку, употребление которой ему было неизвестно, и ел неопрятно. Он заставил все общество просидеть четыре часа за столом и пить, каждый раз вставая, бесконечное количество тостов за его здоровье; но несмотря на это, все-таки не произвел дурного впечатления. Он казался простым; при ясном природном уме, быстро отвечал на предлагаемые ему вопросы и без затруднения поддерживал какой угодно длинный завязавшийся разговор. У него спрашивали, любит ли он охоту, и он отвечал, показывая свои руки рабочего, покрытия мозолями, что ему некогда охотиться! После ужина он согласился танцевать, попросив предварительно обеих принцесс показать ему пример. Он хотел надеть перчатки, но их не оказалось в его багаже. Его спутники принимали корсеты со вставленными костями своих дам за их природное тело и громко делали замечания, что у немецких женщин чертовски жесткие спины. Он призвал одного из шутов, но видя, что обществу не нравятся его нелепые дурачества, вооружился огромной метлой и выгнал его вон. Но опять-таки, в общем, он очаровывал больше, чем поражал. Это был любезный дикарь. Даже более того. «Это», пишет курфюрстина-мать, «человек совершенно необыкновенный. Невозможно его описать и даже составить себе какое-нибудь представление о нем, не видав его». Четыре часа, проведенные за ужином, не показались долгими ни матери, ни дочери; обе просидели бы еще дольше, «не испытывая ни минуты скуки». Отдавая отчет Фуксу в своих впечатлениях, дочь заканчивает свое письмо фразой, недоговоренной и весьма многозначительной: «Ну, довольно вам надоедать; но право не знаю, что делать; мне доставляет удовольствие говорить про царя, и если бы я верила самой себе, я бы вам сказала еще больше, я… Остаюсь расположенной к вам и готовой к услугам».
К сожалению, Лейбниц не присутствовал на празднике. Он рассчитывал на проезд посольства через Минден и наскоро набросал план работ и преобразований, намереваясь представить его царю. Ему удалось увидаться только с племянником Лефорта, вежливо от него отделавшимся. Петр остался недоступным: ученые, не строившие кораблей и ничего не понимавшие в изготовлении фейерверков, его еще не интересовали. Он торопился увидать родину Карштен-Брандта и Корта. По дороге в Амстердам, в Шенкеншене, голландском пограничном городе, какая-то женщина спросила путешественников, христиане ли они. Разнесся слух, что русские намереваются креститься в Клеве.
II
Саардам, или Заандам, и дом царя-плотника, теперешняя достопримечательность прелестного нидерландского городка, приобрели известность только в конце восемнадцатого столетия. Посвящая пять страниц описанию этого уголка в своих «Мемуарах», написанных в 1726 г., барон Пёлльниц ни словом не упоминает о знатном госте, которому городок обязан теперь своею славою.
Рассказывая о пребывании Петра в Голландии, знаменитый Вагенер умалчивает о Саардаме. Эта страничка истории являет собой любопытный пример дополнительной работы народного воображения. С исторической точки зрения, как это удостоверено, большинство подробностей, относящихся к пребыванию Петра в окрестностях Амстердама, не имеют под собой действительной почвы. Нельзя сказать с уверенностью, что он в самом деле выстроил домик, бережно охраняющийся в настоящее время. По Шельтему, ссылающемуся на еще неизданные записки Нумена, жилище принадлежало кузнецу по имени Геррит Кисту; ведомость местной лютеранской общины называет другого собственника – Бой-Тийсена. Все домики рабочих, окаймляющие маленький канал, впадающий в залив, похожи друг на друга, как две капли воды; тут легко могла произойти путаница. Вольтер и его конкуренты, правда, шаг за шагом и час за часом, проследили жизнь славного ученика на протяжении его легендарных похождений; они видели его стелящим себе постель в убогой хижине, собственноручно готовящим себе обед, устраивающим модель корабля, затем ветряной мельницы, обе величиной в четыре фута. Он добавляет мачту к судну, предназначенному для его прогулок, целые дни проводит на верфях, с топором или рубанком в руках, и, не довольствуясь такими разнообразными занятиями, посещает лесопильни, прядильни, мастерские компасов, слесарни; является на бумажную фабрику, берет инструменты для изготовления листов и превосходно справляется с этой тонкой работой. Сколько времени потребовалось бы ему, чтобы все это действительно проделать? Около двух лет, отвечает Вольтер.[9 - Вольтер сам себе отчасти противоречит в этом отношении.] Петр же пробыл в Саардаме неделю!
Как он туда попал? Отчасти по игре случая, а главным образом, благодаря наивному невежеству, не покидавшему его за все время этого первого путешествия по Европе. Саардам был тогда довольно значительным центром корабельных построек; там насчитывалось до пятидесяти верфей; но с точки зрения важности или совершенства работ эти мастерские не выдерживали никакого сравнения с Амстердамом. Расставшись в Коппенбрюгге с большей частью своих спутников, в сопровождении лишь десятка «добровольцев», Петр, минуя большую резиденцию, направился прямо к соседнему маленькому городку. Почему? Потому что среди голландских плотников, конечно, второстепенных, с какими он работал в Преображенском, Переяславле и Воронеже, лучшими оказались уроженцы Саардама. Из этого он вывел заключение, что следует отправиться прямо туда, а не в какое-либо иное место, чтобы увидать хорошие корабли и научиться их строить.
Он остановился в харчевне; следуя своей любви к переодеваниям, велел поскорее принести для себя и для своих спутников платье местных судовщиков – красные камзолы с крупными пуговицами, короткую жилетку и широкие штаны, – и отправился в таком наряде странствовать по улицам, заходя на верфи, заглядывая в домики рабочих, к великому изумлению жителей.
Дома эти были вполне похожи на те, в каких Петр привык жить у себя на родине; он облюбовал себе один из них и в нем поселился; купил бойер, маленькое парусное судно, приладил складную мачту – в то время новое изобретение, – и проводил время в испытаниях своего судна в заливе. В неделю ему это надоело. Корабли, виденные ими в водах или в верфях, представляли собой только торговые суда, небольшой вместимости, и его присутствие внесло смуту в мирное население городка, поставив местные власти в затруднительное положение и причиняя немало досады ему самому. Переодевание очевидно никого не обмануло, приезд его был возвещен заранее и приметы сообщены одному из городских жителей его родственником, работавшим в России. «Высокого роста; голова трясется; постоянно машет правой рукой; бородавка на лице».
Ребятишки, которых он толкнул, стали бросать в него камнями; он рассердился и сейчас же позабыл инкогнито, весьма громко заявляя о своем высоком сане. Ему дали понять, что его отъезд доставил бы большое удовольствие, а так как в это время его посольство прибыло в Амстердам, то он решился также направиться туда.
Неделю провел он в Саардаме; катался там на лодке и ухаживал за трактирной служанкой, которой подарил пятьдесят дукатов; но он поразил умы своими эксцентричными манерами, а своим маскарадным переодеваньем оставил в гнезде, этом тихом уголке, выводок живописных анекдотов, из которых впоследствии развилась легенда. Иосиф II, Густав III, Великий князь Павел, в конце восемнадцатого столетия, Наполеон и Мария-Луиза в начале девятнадцатого, посетили жилище, – подлинное или нет, – средоточие посмертного культа, запоздавшего преклонения. Наполеон, по-видимому, заглянул сюда лишь мимоходом, а Мария-Луиза разразилась смехом, увидав убожество домика; но Александр I в 1814 г. приказал прибить на доме белую мраморную доску в память прошлого. Сопровождавший будущего императора Александра II поэт Жуковский написал карандашом на стене восторженные стихи, приветствующие колыбель России под убогой кровлей рабочего, и рядом с портретом великого человека, туристы читают следующее двустишие:
Nichts is den grooten