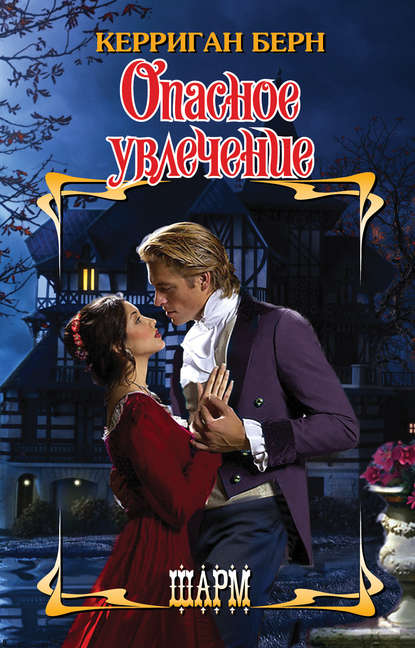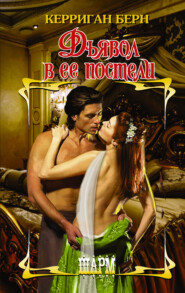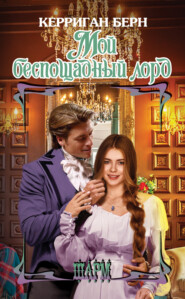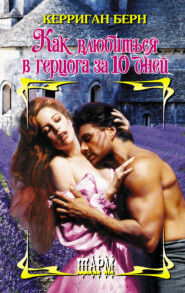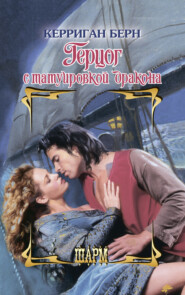По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Опасное увлечение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Отчаянно пытаясь спасти Якоба от злодея, она подхватила малыша и побежала в детскую. Оказавшись в комнате, она усадила мальчика и заперла дверь, прислонилась к ней и постаралась унять панику.
– Кто это был? – Глаза Якоба были широко раскрыты и круглы как у совенка.
Как она могла ответить на этот вопрос? Он был опасный мужчина. Тот, кому вечером она позволила себя поцеловать, тот, кто пришел в ее дом с какой-то одному богу ведомой гнусной целью. И виновата она, она вела себя как блудница и подвергла своего сына опасности.
– Почему он тебя целовал? – спросил сын, не дожидаясь ответа на первый вопрос.
Милли открыла рот, чтобы ответить, терзаясь оттого, что все еще чувствует на губах вкус мужчины. Неужели он ворвался, чтобы приставать к ней? Закончить начатое ими в том углу под лестницей? Изнасиловать ее?
– Это мой отец?
Рука Милли бессильно опустилась на грудь.
– Почему, во имя всего святого, ты так решил? – выдохнула она, потянулась за колокольчиком в комнате Якоба и дважды с паузой позвонила.
Сигнал Джорджу Бримтри об опасности. Он придет с ружьем, и все закончится.
Якоб пошел за ней, когда она проверила замок на двери, отошла и снова его проверила.
– В школе Родни Битон сказал, что матери должны целовать отцов, когда те им прикажут.
– Родни Битон – дурачок, – не задумываясь, проворчала Милли, обняла Якоба и крепко прижала к себе. – Тот мужчина… Он не твой отец, – сказала она мягче. – Он…
Она услышала, как распахнулась дверь чердака, и, тяжело ступая, к запертой двери заспешил Джордж Бримтри.
– Джордж, в моих покоях взломщик, – сказала она через тяжелую дверь.
– Я со своей старой Франческой его изловлю, – взревел Джордж, а Франческой он, разумеется, величал винтовку.
Милли слышала, как Джордж обыскивал ее комнаты.
– Будь осторожен! – с опозданием крикнула она.
Джордж был мужчиной крупным. Много лет прослужил в пехоте, и в руках у него была винтовка. Но она почему-то была уверена, что даже с винтовкой у него нет шансов против ворвавшегося к ней в дом распутника.
Слыша, как ковыляет по коридору ее дворецкий, Милли снова затаила дыхание и молилась, чтобы он остался жив.
– Мисс Милли, все чисто. Никого нет. Я проверил все уголки и закоулки.
Милли с опаской отперла дверь и выглянула в тускло освещенный коридор, трясясь сильнее, чем в лапах подонка. Вид дородного Джорджа в ночной рубашке и шляпе, прижимающего к груди старую винтовку, ее бы рассмешил, если бы она не была так напугана.
– Вы не ранены, мисс Милли? – спросил он. – Якоб в порядке?
– С нами все в порядке, Джордж, – проговорила, ненавидя дрожь в своем голосе.
– Должно быть, ушел через окно. Хотя не пойму, как он не сломал при этом ноги.
Старик выглядел озадаченным.
– Джордж, лучше всего обратиться в Скотленд-Ярд, – произнесла, закрывая дверь, Милли и, обернувшись к бедному Якубу, чьи глаза все еще были широко раскрыты, снова взяла его на руки.
Хватит, завтра она поставит решетки на всех окнах, или никогда больше не сможет спокойно спать.
Глава пятая
«Пожалуйста, не троньте моего сына». Холодный, жалящий февральский дождь эхом повторял эти слова, когда он пробирался по улицам Ист-Энда. Арджент не мог понять, чьим голосом ревела несущаяся с севера буря. Милли Ли Кер? Или его матери?
Конечности онемели и утратили ловкость, хотя сказать наверняка, виноват ли в этом холод или стук в голове, он не мог. Ему вдруг почудилось, что он пробежал несколько миль. Ребра сжимали легкие, не давая дышать. Сердце колотилось в грудной клетке, пульсировало в ушах, его удары по мышцам отдавались в костном мозге.
Так ли холодно на улице? Или потрясал контраст между холодом вечера и теплом тела, прижимавшегося к нему всего несколько мгновений назад?
Пытаясь вспомнить, как долго бежал, он нырнул на самые темные улицы, самые опасные переулки с названиями вроде Катфроут-еорнер или Ханг-Три-роу. Он не мог остановиться. Если он остановится, с него сорвет кожу. И ничто не защитит его разум от срывающей плоть до костей бури.
Он все время задавался беспристрастным вопросом: продолжит ли в груди шириться черная холодная пустота, чтобы поглотить его целиком. Возможно, он и бежал от нее. Опустошение. Забвение.
С тех пор, как он помнит. С тех пор… с той ночи, когда он остался в этом мире один, ему часто казалось, что он живет вне тела. Словно идя рядом с собой, рядом с собственным сознанием, со стороны безразлично наблюдал он за пролитой кровью. Его тело действовало как оживший труп, кости и вены, но без души. И никакая страсть не делала его существом по сути человеческим. Способным вздохнуть над стихотворением или увидеть себя в картине. Обидеться на ближнего или из жадности развязать войну.
Он полагал, что ему недостает этого неотъемлемого элемента.
Смерти он не боялся. Жизнь не ценил. Ничего не любил, и поэтому не страшился боли или потерь.
Так почему он гнал себя по улицам предрассветного Лондона? Почему не чувствовал кожи? Или дыхания в легких? Этот трепет был признаком того, что тело вырубилось или сделалось сильнее?
Над мраком бури проносились образы. Озеро крови размером с тюремную камеру, растущее с каждым новым трупом, который он в него бросил. Большие прекрасные цвета черного мрамора глаза светились последним проблеском жизни в сопровождении громких аплодисментов. Маленький мальчик смотрел, как умирает его мать. Что он сделал? Что недоделал? Какова стратегия его следующего шага?
«Пожалуйста, не троньте моего сына».
Его грудь стеснилась так резко, что он ахнул, стремительно прижал к ней руку.
Ему нужно подумать. Он слишком рассеян, слишком зажат. Его бесило то, что можно быть одновременно отделенным от своего тела и заключенным в его тюрьму. Ему нужно сосредоточиться, нужно освободиться, и точно знал, где это удастся сделать.
Повернув влево, он пересек Лаймхаус-стрит и нырнул в так называемую Тополиную аллею. Не из-за листвы, а из-за небольших хибарок из древесины тополя.
Запах нездешних специй, уличные торговцы, жарящие на шампурах необычные деликатесы, животные в загонах и неочищенные сточные воды, мешающиеся с тем, чему лучше оставаться в тени и тумане.
Экзотическая еда была отнюдь не единственным лакомством. Миниатюрные женщины с иссиня-черными волосами в халатах мерцающего шелка манили из наполненных сладким ароматным дымом белых палаток, между которыми, шатаясь, брели люди, одурманенные разного рода излишествами. Опиум, алкоголь, обжорство, секс за деньги – здесь, на азиатском рынке, можно было купить все, и Арджент, ни к чему не пристрастившись, все это вкусил.
Бежать Арджент не мог, потому что на рынках и в трущобах даже в столь ранний предутренний час было слишком многолюдно. Даже когда он шел, люди были повсюду. Арджент выделялся ростом везде, но здесь, в азиатском квартале, он бросался в глаза, как пламя в темноте. Его провожали взглядом, но он не смотрел ни на кого. Он вообще не опускал глаз.
Глядеть прямо в глаза он избегал всегда. Смотрел он сквозь них или упирался взглядом в переносицу. Поступал он так, считая, что в глазах жила сама жизнь. Понял он это давно. И увидев однажды, как жизнь из них уходила, он не мог от этого видения избавиться. Всякий раз, когда засыпал. Или иногда, моргая, словно оно вытатуировано на веках.
Любой, с кем он встречался взглядом, мог оказаться его потенциальной жертвой. Сначала эта мысль его нервировала, а потом перестала. Наоборот, стала привлекать. Сделала его сильным. Как бога. С возрастом он понял, что чувствовал себя живым, только отбирая жизнь.
И это пришло с опасностями собственной жизни.
В наслаждении убийством не было стыда, но для некоторых оно сделалось одержимостью, своеобразной наркоманией, а Ардженту не хотелось зависеть ни от чего.
Потому для заполнения пустоты ему служили другие средства.