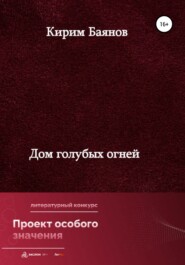По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
The way of kawana
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Странно и одиозно твое спокойствие. Она не зовет, не требует, в ее глазах остыла забытая логика снов. Не мила усталая музыка лавок и лотков. Клубника, что мы пробовали в Чахе за углом. Что-то далекое и безразличное в ее взгляде, что-то растраченное попусту. И я опускаю гобой.
Она не смотрит, не слушает музыки. Лишней и неловкой в этом застывшем мгновении. Праздник пустых, остывших улиц и чехарда бистро. Быстрый гомон дорог, плен витрин. Кайфа так же грустна, как если бы ей завтра улетать в Мадрид. И только капли росы, собирающиеся за окном, свидетели длинной ночи, ее обнаженных ног, в разрезе юбки на годе-пекин. Странная улыбка, в номере, где все еще слышен блюз камерных голосов. В этом зале с высокими потолками и льдом в ведерках с гвинейским вином, становится душно и не по себе. Но эта ночь все исправит. Она исправляет всех. Однажды, когда-то, кто остерегался, кто не доверял, кто отказывался.
Сплетение тел, сплетение рук, промозглый дождь и ветер, тепло горнил, ласка муслиновых покрывал. Песочный свет ламп. Я все еще здесь. В Кайфе. Она так холодна и тревожна. Чайка на небосклоне. Белый запах солнца. Сияние над Микках. Сверкающее золото и стекло, кожа дубовых кресел на сто восемнадцатом этаже. В моем сейфе пусто, и это не так печалит.
Меня и раньше бросали. Но никогда, как сейчас. В моих мыслях пустая отрава. В буле завернутый в холщу магнум. Я не распаковал его. Он все еще там.
Что ты наделала Салли.
Мои мысли, варятся в густом соку исчезнувших буден, падают на землю, как мертвые птицы. Клубника горит на краю пропасти. Она сладкая и сочная. Он берет и ест ее…
В Хуавей и Глоболе в Тайване меня ждет такой же холодный прием. Никто не поручится теперь за мою жизнь. Сотни обманутых кредиторов ждут своей выгоды, и только пустой, открытый сейф на сто восемнадцатом этаже в Ритц говорит мне, что за мной скоро придут.
Когда наступает этот момент, ты ни о чем не думаешь больше. Ты просто бежишь. Всем, кто на твоем пути конец. Нет больше друзей, ни прохожих. Каждый знает тебя в лицо и каждый стребует свою долю. А как приятно начинался этот танец с ветром в семи платках, каким жарким был чай в Сёго.
Как странно, что Кайфа принимает меня теперь. Без дома и крова, без шелковых салфеток и дорогого костюма от Himark. За мной идут, и я не знаю, что будет уже сейчас. В этой капсуле на тридцать втором этаже в Шенжен, мой матевер греет меня, принося с собой холод, – он струится по моим рукам, а за окном падают капли. Дождь в Киото. Наверно идет дождь. Я думаю о тебе все чаще. О твоих неловких улыбках и помаде, нерасторопных ответах и свежей клубнике в Кайфе. Она красная и спелая. Сок течет по рукам. Твое лицо в искрах гацура, свет в глазах. Неоновый дым Шенжен за минуту до проливного дождя. За мной идут, Салли, и я не знаю, что у них на уме. Я здесь в безопасности. Пока. До тех пор, пока они не поймут куда подевалась карта памяти. Если бы ты взяла только деньги. Салли…
Пустые разговоры и блюз дорог. В этом месте без дна, полно отчаяния и страха. Улицы Кайфы стали для меня пустынью. И только мой матевер согревает мои пальцы в складках брезента.
Мои мысли, путаясь, падают на землю, как мертвые птицы. Если бы только не этот чай в Шенжен, с которого все началось…
Пустая трата времени. Пустой мир, – в этом большом городе некуда бежать и негде скрыться. Я думаю о тебе все чаще. Салли…
Пустой матевер. Я набираю пули. Ты неправа, Салли. Но в этой прогулке по Кайфе и твоем скромном платье, цветастом годе и цветном сливе для меня не осталось злости. Только пустыня. И птицы. Они бьются о камень и валуны на пляжах. Звучит утро. Поднимается солнце. Белые облака. Я поживу. Поживу еще малость. Ведь только все начинается…
Я только взял кредит.
Когда приходит весна
Слабый стук колес, шорох состава. В этой прохладе замерзают руки и отваливается нос. Ветер дует наискось и его шквал время от времени срывает желтые листья слив. Яблони стоят словно мертвый частокол, – кривые и сгорбленные. Белый свет фонарей меркнет под наваливающейся слюдой пустой, безлюдной ночи. В этом покрывале так легко закутаться и исчезнуть. Но я иду, и тротуар, – серый от мги фонарей, бело-серый, – проплывает мимо, как скатерть, на которой всегда царит пустота. Еще не лето, но уже не зима.
Плавный шелест шин, одиноко плывущего авто. Куда оно направляется и зачем остановилась на пару минут? На этой пустой улице, в бело-сером свете на бело-серой простыне асфальта катятся листья. Кто-то курит в окно, сетуя на холод и стужу. Кто-то уронил одинокий окурок. В этом покрывале серо-белой простыни жеманно тешится свет, плавают сухие листья. Этот город, город иллюзий. По дороге из колыбели снов в твердый битум глузда, его обитатели растеряли все мечты. Их было великое множество, и великое множество обид, горя, зависти останется тут. На млечном полотне асфальта, плещущемся в молоке фосфоресцирующих фонарей, – тоскливо, жеманно льющих свет на пустой разор вычищенной от сухой листвы железобетонной полосы. Рифы домов, словно холодные, пустые мешки, голыми стенами давят монолит дорог. В этом городе, на этой пустой улице нет ничего необычного. Холод и стынь, блажь и шепот слив, голод и степь дорог. В пустой пачке валяется пять сигарет. Они как гвозди, заколачиваемые в гроб, но я потрачу свое здоровье и снова куплю еще. Одна за одной плывет в дыме простуженных мостовых. И только пустой серый ветер, знает отчего так тепл кедр. Я кладу его в кофе. Пар обдает лицо, а запах обещает бессонный вечер. Бессонное утро проходит. Светит яркое солнце. Его жар опаляюще-бодр. Его щупальца ходят по комнате, отражаясь и плавая в пылинках в проеме двери. Простое чудо, простого дня. Если бы только он знал бессонную ночь и терпкий вкус кофе.
Эта встреча с тобой. И этот город…
Плывущий в ритме танго, плавно огибая острые углы и осторожно, боязливо сторонящийся темных аллей. В нем можно утонуть по ночной поре, но свет мигающих фонарей и стеклянная зыбь, стелющаяся по пустым мостовым не оставят здесь одиноким. Никого нет. И все же ты замечен.
Арабика хороша лишь под коньяк, а пару ложек нагоняет сон. И я пью его, – черный, неразбавленный. А сигаретный дым в окне струится словно деготь, теплая вакса, растворяющаяся в темноте; и быстрый мимолетный взгляд на ветер, остывает в тутне облаков. Он как бездомный тунедец, которого никто не ждет. Но он вернулся.
И я ловлю его пустой холодный поцелуй, чтобы ответить тем же. И грусть в расшевелившемся тумане над алым заревом пятиэтажек, струится в чистом, гулком небе. Оно вымыто и грязно-хмуро. Только быстрый лепет крыльев и засохших листьев падает на мостовую. Словно старый друг, уставший от забот. Приседает ворон. Краски акварель в текущем воздухе. Туман. И сон. Сонливая погода. Холод. Быстрый хлопот крыльев. Звенящее небо над алым заревом. Стеклянные фонари, никелированный свет, брыдло пахнущий в сумерках. Старый звук, напоминающий хруст веника. Шатается по небу ветер, подметает ветви. Рубленные яблони, стоят как сироты. Нагой асфальт. Дни плывут. Вдалеке их неслышный топот. И за глухой, немытой ночью приходит завтрашний немой восход.
Все еще серо и закрыты окна. В скупом пространстве этого балкона простывший вечер уступает ночи, а ночью брызжет серый сумрак утра. Только чтобы было понятно, вот только чтобы не осталось никаких сомнений, что такое грусть или печаль. В ней все седое и пустельга пустая, стеклянный ропот фонарей и серо-белый блеск асфальта. Ночь шумит. Листва трепещет. Гингко растет. Поезда сходят с путей, дома рушатся, люди горят, но если ты настоящий, разрушить, сжечь и свести тебя с пути сложней. Пусть, как однажды, ты проснулся и понял, что миром правит что-то иное, чем любовь, ты встанешь завтра и скажешь: “Дома горят, поезда сходят с путей, надежды рушатся, но единственное, что навсегда – моя неунывающая совесть. И в ней затерялось место для подсказок в какой дом идти, каким поездом ехать, какие надежды верней. Время – единственное, что стоит совести”. И только так, она может стать тем, во что оно ее превратило.
Пустая совесть – на совести времени. Пустые камни не говорят. Слепцы умирают во тьме. И только то настоящее, что живет во мне. Все остальное мертво. Это и есть печаль. Но не печаль по скорому, настоящему или будущему, а печаль по весне.
Она скоро придет. Так же придет и следующая.
Backing home
Мыслями я все еще в Кагосима-сити. Порою в Мобиле на разгрузке. Не знаю даже, чем запомнился мне этот день. Шел дождь. По-весеннему мелкий и непродолжительный. Блестели крышки трюма. На пристани припарковался шевроле с открытым верхом. Из него била бешенная музыка и были слышны ликующие крики возбужденных пассажиров. Казалось им весело. Все это оживляло пасмурную картину и шумный шорох дождя.
Порою я ухожу мыслями в Бремен. Эмоции еще не перегорели. Мои нервные клетки все еще разговаривают со мной вспышками ярких воспоминаний. Но я возвращаюсь все больше и больше в душную тихую комнату, впитывающую покрытыми дешевыми обоями городской шум и редкие к вечеру отголоски Кагосима-сити. В лоджию, на самом краю полусна и дремы, в жаркий полдень Неаполя, с раскрытыми окнами, у подножия Сакурадзима. Пишу несколько строк и впадаю в безбрежное восхищение мелкими и несущественными деталями, местами, в которых мне довелось побывать.
Кагосима-сити стирается понемногу из моей памяти, и я устраиваюсь на диванчике в прокуренном кубрике. Жду причала. Через две недели я окажусь в пределах Китая и вылечу первым же рейсом в какой-нибудь городок ближе к Амстердаму. Потом сяду в поезд и направлюсь к себе домой.
Поездки на автобусе, как и на мото почему-то не входят больше в мои расписания. Я устал и напряженно слежу за линией экватора. В Норфолке я познакомился с одним байкером. Он сказал, что отправляется в рай. Не знаю, что он имел в виду, но может быть, когда зеркало мне скажет, что туда отправляются все, кто позади него, я встречу его снова и спрошу, где это место.
Лайнер останавливается в одном из городков Кореи и там курсирует по берегам Синейджу. Пхенан-Пукто и Чагандо особенно живописны. Но в этом пустом безделье, я лишь сторонний наблюдатель и мне видны их огни. Огни больших городов в черной ночи обычно так манят своим теплом.
Я стою у борта, возле надстройки и жду очередных сверкающих ярче звезд над полотнами мегаполиса.
Задумываюсь о беспредметных, текущих, словно морская пена, ударяющая в борт судна, незначимых и неважных, мелких делах. Они скрадывают мои мысли о возвращении тех, которые мне приятны и дороги. В один момент забывая о Кагосима-сити и его прошлом в нем, будто окунаюсь в мирно колышущиеся волны Западного залива, меряю его бурлящие воды взглядом, в котором полно застарелой грусти и меланхолии.
Я окунаюсь во тьму, приятную свежим ветром и легкой прохладой, чувствуя, что она целует меня в лодыжки. Словно Дьявол, шепчет мне лесть и фанфары, заставляя меня парить на носу карго. Я соглашаюсь, немного поколебавшись и забываю, что было со мной дурного и скверного. Все, что будет. Я все еще в Мобиле. Подставляю лицо порывам теплого ветра, понимая, что впервые узнаю на себе, что такое мистраль. Настоящий, упругий, с прохладой в теплых струях. Его порывы бодрят и радуют прохладой. Свободой. Я ухожу в каюту и на завтра снова встаю поздно, выхожу на палубу, закрывая за собой тяжелую дверь.
Смотрю на прибрежные звезды и не поднимаюсь к собравшимся на вечное празднование мелких забот огромной толпе, туристам в кают-компаниях и на деке. Фотографирующих и гомонящих до поздней ночи. Оставляющих по себе обертки мороженого и бутылки, плавающие на дне выглаженной до блеска мостовой. Пирс обливается мягким скользким светом. Влажно. Мне совсем не о чем писать. И я курю одну за одной, дожидаясь шумного гвалта спускающихся по трапу и возвращающихся с пирса гурьбы, празднующих и праздношатающихся зевак. Не обращая внимания на кружащуюся мишуру прохожих и суетливость набережной службы, ищу глазами порт. А в нем огни.
Я помню это отчетливо. Кажется, будто в тумане, прохожу контроль пограничной службы и сажусь в самолет. Рейс довезет меня в прилежащие города Одессы, но я не запомню его и не уверен вполне, что если бы он направлялся в Будапешт, я бы как-то очнулся и удивился тому.
Все стремительно меняется, и я теряюсь в часовых поясах. Я уже отлично выспался и вошел прямиком в Хельсинки-Киев-Рига-София-Вильнюс, а мой пояс все еще топчется на час раньше в Амстердам-Берлин.
Рядом со мною садится растрепанная блондинка, – по последней моде. Вероятно, она за собой следит. Это видно от лоснящегося маникюра до подобранного жакета в тон помаде и шарфику. Пудреница в ее руках отражает толкущихся за нашими спинами неугомонных пассажиров и на меня смотрит из зеркальца Дэвид Кристофер Блэк, вопрошая: «не научились ли вы, уважаемый, читать между строк? Блюз Нарита. А как насчет «Юз»? Шикарнейший скрипичный ключ от Pink для всего малого и большего бизнеса. Детей и промокшей тоски в Кагосима».
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: