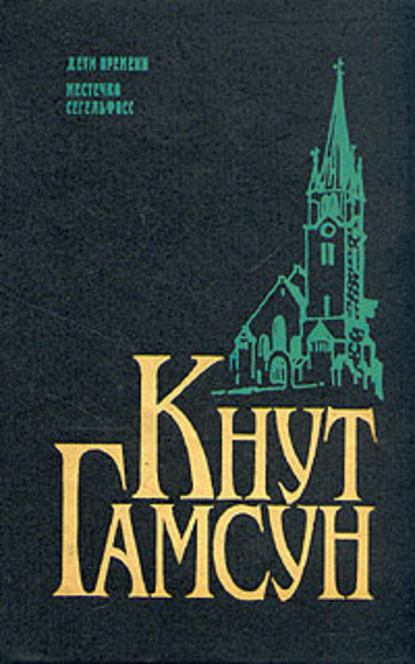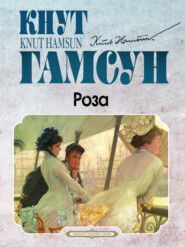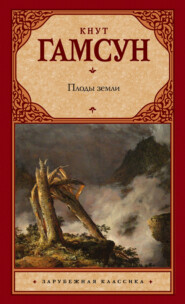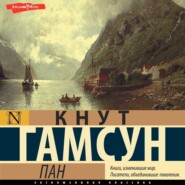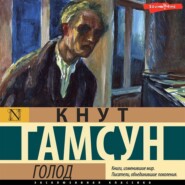По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Местечко Сегельфосс
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Правда, Ларс Мануэльсен больше не работает своими руками; но он уж столько раз отказывал своему товарищу и соседу, что теперь не хочет отвечать напрямик: нет.
– Я не так одет, – говорит он вместо этого.
– Одет? Ну, да, у тебя восемь пуговиц на куртке, – раздраженно издевается Оле Иоган, – и ты боишься, как бы они не смололись!
– Не в этом дело, – отвечает Ларс Мануэльсен довольно миролюбиво.– Но я не знаю, позволит ли парик.
– Парик? А разве ты не можешь его снять. Что же, ты так на всю жизнь и хочешь быть развалиной из-за парика? Начхать на парик! Надевай его по праздникам и к причастию, – против этого никто тебе ничего не скажет.
Тогда Ларс Мануэльсен направляется к мельнице и больше не препирается. Для этого он слишком важен. Покосившись через плечо, он видит, как Оле Иоган поворачивает к Буа.
На мельнице ему все хорошо знакомо с прежних времен, и он сам находит себе работу. Но он нагибается не чаще, чем надо, и не поднимает тяжелых кулей, – это все отошло в прошлое, когда он еще не получил великого отвращения к труду.
Бертель из Сагвика стоит на своем посту. Он дослужился у помещика до положения доверенного, и поденная плата его теперь немного выше, чем когда он поступил. Бертелю из Сагвика и его жене живется сносно, сам он имеет верные деньги, а жена его, по примеру прочих, шьет мешки для мельницы и тоже прирабатывает. Дети у них выдались хорошие и после конфирмации вышли в люди: Готфред служит на телеграфе, а дочь Полина живет хозяйкой в имении Сегельфосс и заведывает всеми служащими, оставшимися у молодого Виллаца. Эта самая Полина отлично научилась домоводству и кулинарии у стариков Виллац Хольмсен, так что была бы очень подходящей хозяйкой в гостинице Ларсена, – ну, да разве Юлий о ней не подумывал? Еще как, он уже давно думал о ней, и любил ее, и настойчиво сватался, но Полина его отвергала.
Ларс Мануэльсен не устоял – завернул к Бертелю поболтать и прежде всего объявил, что он пришел сюда не работать, а за тем, чтоб немножко пособить Оле Иогану.
– Понимаю, – отвечал Бертель и слегка усмехается про себя.
– Я больше не хожу работать, мне это не нужно.
– Конечно, – отвечает Бертель и сильнее усмехается про себя, потому что с годами Бертель стал очень весел и жизнерадостен.
– Потому что, ежели насчет всего такого, так у Юлия есть гостиница Ларсена с едой и питьем, и готовыми постелями, и всем, что даже угодно.
– И я то же говорю.
Ларс Мануэльсен спрашивает:
– Так как же, женится Юлий на Полине? Известно тебе что-нибудь?
– Нет.
– Я вот что хочу сказать, – продолжает Ларс Мануэльсен, – мой сын Лассен мог бы повенчать их, а ведь это, пожалуй, получше, чем если бы их повенчал кто другой.
На это Бертель отвечает, что ему ничего неизвестно; Полина вольна поступать, как хочет, и непохоже, чтоб она торопилась уходить из имения.
– Она может поступать, как ей угодно! Да что же она думает? Смешно слушать! Что же, она метит за самого Виллаца? Шалопай и музыкантщик, то он в одной стране, то в другой. А имением управляет Мартин-работник.
Но Бертель сохранил часть своего прежнего почтения к дому Хольмсен, его сердит насмешка Ларса Мануэльсена над молодым Виллацем, и он этого не скрывает:
– Твоя мать родила шалопая, – сказал он, – и шалопай этот – ты. Виллац настолько выше меня и моих семейных, что он не замечает нас на земле, а еще меньше видит Полину, которая служит ему за насущный хлеб. Виллац – барин, а что такое мы с тобой? А до твоего поганого рта, Ларс, ему и дела нет, он и плюнуть то на тебя не захочет!
С этими словами Бертель весьма непочтительно сплюнул.
Ларс Мануэльсен стоит безмолвно, полный собственного достоинства. Давно уже никто не говорил с ним в таком оскорбительном тоне, и вот он уходит – возвращается на свое место и к своей работе, подальше от Бертеля из Сагвика.
Внизу, по дороге, идет господин Хольменгро, сам помещик. Удивительно, до чего он изменился! Серая куртка, серые сморщенные брюки, пара грубых башмаков, белых от муки, и большая нечищенная шляпа – вот и все его великолепие. Зимы с каждым годом становятся мягче, но люди, раньше ходившие в куртке, теперь стали носить пальто, – они сделались такие неженки, такие зябкие; господин же Хольменгро идет в серой куртке. Даже ленсман из Ура носит на фуражке шнур, даже у лоцмана берегового судна ясные пуговицы с якорями; а господин Хольменгро похож на рабочего у невода или на артельного старосту. Если б люди не привыкли к этому за последние годы и не видали его в другом виде, они бы очень подивились. Не он ли король Тобиас здешних мест, не он ли поработил и согнул перед собой все живое? Если бы не толстая золотая цепь на жилете, никак нельзя было бы подумать, что это он. Да, не будь цепи, его можно было бы принять за сушильщика рыбы у Теодора из Буа.
Он проходит мимо Бертеля из Сагвика, и Бертель кланяется. Идет к четверым рабочим, которые насыпают мешки мукой и затягивают у них верхушки; эти не то кланяются, не то нет, двое слегка кивают, а двое умышленно нагибаются над мешками и притворяются, будто не видят. Это рабочие нового склада, они ходят в галошах и приехали сюда на велосипедах, машины их стоят поблизости.
Господин Хольменгро заговаривает с ними, они не выпрямляются и слушают не очень внимательно; стоят, навалившись на мешки, и словно заставляют себя слушать. Когда хозяин кончает говорить, они выпрямляются и с минуту думают о том, что он сказал, потом начинают громко разговаривать между собой так, чтобы хозяин слышал, выражают сомнение в правильности его распоряжения, спрашивают друг у друга, плюют, советуются: – Как по-твоему, Аслак? – говорят они. – Что нам делать? – говорят.
Помещик повернулся уходить и уж сделал несколько шагов, но, услышав последние слова, кричит через плечо:
– Что вам делать? Вы должны сделать так, как я сказал!
И при этом, должно быть, думает, что дело решено. Увы, оно, пожалуй, совсем не решено; но помещик видит сейчас, как и раньше, что уважение пропало, он боится спора и удаляется. Больше он не смеет настаивать. Случалось, что помещик увольнял своего слугу Аслака, но тогда остальные его слуги грозили, что тоже уйдут. Это случалось два раза, и оба раза не приводило ни к чему.
А будь на его месте бывший владелец имения Сегельфосс, лейтенант! Молнией сверкнул бы воздух от хлыста, – вон! С годами господину Хольменгро часто приходилось вспоминать лейтенанта Хольмсена: слов у того было немного, два слова, четыре, а глаза словно печати. Когда он вжимал в руке ручку хлыста, суставы пальцев становились совсем белыми, но зато, когда он раскрывал руку и хотел кого-нибудь поощрить, минута эта долго жила в людской памяти. Служить у него было приятно, потому что он умел приказывать, он был начальник, барин. А носил ли он огромные золотые кольца в ушах, как важные шкипера с западного побережья? Курил ли длинную пеньковую трубку с серебряным мундштуком? Был ли так толст, чтобы на двух стульях помещать свое величие? И все-таки никому не отводилось такого просторного места, как ему, и никто не осмеливался говорить с ним свысока.
Господин Хольменгро и понынче удивляется. Он ли не пробовал сам всяческими способами приобрести власть над своими служащими? Разве он не додумался даже до того, что поступил в масоны и разгуливал, словно затаив какую-то сверхъестественную силу. Но люди не очень-то обращали на это внимание, никто его не боялся, таких дураков не было. Да никто в точности и не знал, действительно ли помещик был масон.
Он подходит к Ларсу Мануэльсену и говорит:
– Здравствуй, Ларс. Ты опять начал у меня работать? Ларс отвечает:
– Избави бог! Нет, это я только случайно.
– Где Оле Иоган?
– Задержался внизу. Я поработаю покамест вместо него.
– Я послал сегодня утром поденщика на подмогу, где он? – спрашивает господин Хольменгро.
– Поденщика? Не Конрада ли? – Нет, Ларс Мануэльсен не видал Конрада.
– Он столкуется у меня, получает харчи, нынче утром он должен был прийти сюда.
– Стало быть, сидит где-нибудь и ждет. Разыскать его?
– Да, разыщи.
Все идет неладно, и помещик хмурит брови. Поистине, у этого короля, владеющего поместьем Сегельфосс, много неприятностей. Несколько лет тому назад это был добродушный и свежий господин, теперь у него синие жилки на висках, заострившийся нос, морщины у глаз и седая борода. Все у него тонкое: руки и лицо, ноги – все превратилось в кожу да кости. Но разве он стал из-за этого ничтожен?
Тогда он не был бы тем, кем он был! Правда, в деятельности его уже нет прежнего широкого размаха, да, мельница его работает только днем, он держит меньше рабочих; но король Тобиас не рассыпался на кусочки, у него выносливости хватит. Когда он стоит на открытом месте и, задумавшись, озирает свою могучую реку, а за нею пристань и море, и дает волю своей голове похозяйничать, тогда выражение лица его сильно, и глаза полны отваги. Молодость отлегла от него, да, но старость еще не пришла – он человек пожилой, но поговаривают, будто в соседнем поселке у него еще родятся ребятишки.
Ларс Мануэльсен возвращается с поденщиком, и помещик спрашивает:
– Что ты делал сегодня?
– Да я только так, сидел, – отвечает Конрад.
– Он сидел и курил, – докладывает Ларс Мануэльсен.
– А что же мне было делать? – спрашивает Конрад.– Ведь Оле Иоган не пришел.
– Ты мог бы явиться ко мне и был бы приставлен к работе, когда я пришел, – важно говорит Ларс Мануэльсен.