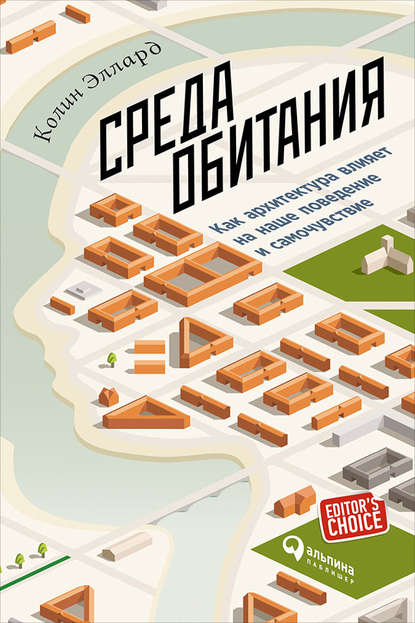По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Среда обитания: Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Или представьте себе, например, каково жить в сверхурбанизированной среде, окруженной дикой природой, красивой, но представляющей серьезные риски для случайных визитеров. В Малайзии жители крупных густонаселенных городов вроде Куала-Лумпура живут в окружении роскошных джунглей, где у них, конечно, имеются обширные возможности для единения с природой, – но в нагрузку идут ядовитые рептилии и насекомые, а также могучие хищники, встреча с которыми может основательно подпортить идиллическую лесную прогулку. Так, мое собственное знакомство с австралийской Северной территорией было омрачено из-за отсутствия правильного представления о рисках жизни в буше.
Наконец, вовсе не обязательно стремиться к тому, чтобы полностью заменить островки живой зелени в городах электронными симулякрами. Однако я вполне допускаю, что с пониманием самих принципов, на которых строится благотворное действие ландшафтов, нам откроются способы не заменить, но дополнить особенности города. Таким образом мы сможем расширить возможности целительного контакта с природой в плотно застроенных городских районах или в интерьерах зданий, где использование элементов реальной природы затруднительно, а то и невозможно.
Психолог Питер Кан в своей содержательной книге «Технологичная природа: Адаптация и будущее человеческой жизни»[35 - Питер Кан написал несколько хороших книг о взаимосвязи между возникновением технологий и потерей нашего контакта с природой. Одна из лучших его книг на эту тему – Technological Nature: Adaptation and the Future of Human Life (MIT Press, Cambridge, MA, 2011).] размышляет над некоторыми из этих идей в контексте экспериментов, которые он проводил, исследуя перспективы и ограничения, связанные с заменой реальной природы разнообразными технологическими инновациями. Так, в одном из своих исследований ученый сравнивал воздействие, которое на испытуемых оказывали вид сада из окна и этот же самый вид, снятый веб-камерой и показанный на плазменном мониторе (экран висел на месте окна). Как ни удивительно, вид на мониторе никак не помогал участникам ощутить физиологические признаки восстанавливающего эффекта. Однако в другом исследовании, когда точно такие же настенные экраны были развешаны в офисных помещениях без окон, результаты оказались более позитивными. Испытуемые – сотрудники офиса – сообщали, что с удовольствием созерцают пейзажи и чувствуют, что мониторы делают пребывание в офисе более комфортным и положительно влияют на продуктивность.
Сравнительный анализ результатов этих двух экспериментов наводит на мысль, что, когда у нас нет выбора, мы можем найти психологическую поддержку в изображениях природы; но когда нам доступно настоящее окно, его электронный заменитель оказывает на нас весьма незначительное воздействие. Чем это объясняется, точно не известно. Одна из возможных причин в том, что изображениям на современных мониторах недостает некоторых важных качеств. В частности, Кан рассуждает о параллаксе – явлении, состоящем в том, что вид, который открывается за окном, слегка смещается по мере того, как мы сами перемещаемся относительно окна. Такой эффект не достигается, когда мы рассматриваем картинку на мониторе, поэтому нам легко отличить ее от настоящей природы. Не исключено, что сами участники исследования, зная, что изображения, которые им показывают, не реальные, а электронные, занижали ценность и значение этих видов и, соответственно, их психологическая реакция была довольно слабой. В офисных же экспериментах положительное воздействие мониторов проявилось сильнее, возможно, оттого, что испытуемые служащие привыкли существовать в условиях, когда вид из окна объективно невозможен. Они оказались более чувствительны к включению изображения природы, хоть и электронного, в их обычно довольно унылый интерьер.
Наблюдения Питера Кана несколько противоречат моей теории о том, что наша тяга к природе основана, по крайней мере отчасти, на визуальных свойствах пейзажей, а также многочисленным исследованиям, демонстрирующим целительное действие фотографий, видео и даже абстрактных фрактальных рисунков. Но они так или иначе служат нам своего рода предупреждением. К любым предложениям заменять живые природные ландшафты высокотехнологичными имитациями следует подходить с осторожностью. Частично подобные имитации могут производить те же эффекты, что и погружение в реальную природу, – но, вероятно, только в особых обстоятельствах и при отсутствии альтернатив.
Окультуривание внимания
Есть гораздо более глубокий вопрос, касающийся взаимоотношений природы и технологий и не сводящийся к техническим деталям отображающих устройств. Чтобы обозначить его суть, нам придется заглянуть в далекое прошлое и понять, как же мы построили такой мир, в котором жизнь превратилась в ежедневную борьбу, истощающую наши и без того ограниченные когнитивные ресурсы. Если наша естественная среда обитания – та, в которой психика расслабляется, уровень стресса падает, а внимание переключается с предмета на предмет легко и непринужденно, – так хорошо подходила нам, зачем же мы ею пожертвовали? И что получили взамен? Свою книгу о природе и технологиях Питер Кан начинает с рассказа о бушменах пустыни Калахари, ведущих традиционный образ жизни. Эти люди, которые живут в тяжелых климатических условиях и почти ежедневно преодолевают большие расстояния, преследуя дичь и собирая съедобные коренья, не знают, что такое стены или мощеная дорога. В чем же преимущества такой жизни? Основываясь на вполне идиллических воспоминаниях[36 - Воспоминания Элизабет Томас о жизни среди бушменов см. в ее книге The Harmless People (Knopf, New York, 1959).] писательницы Элизабет Томас, дочери антропологов-первопроходцев Лоуренса и Лорны Маршалл, изучавших жизнь бушменов, Кан заключает, что культура этого африканского народа была одной из самых успешных в истории человечества. Бушмены вели «дикую и вольную жизнь», мирно и гармонично сосуществуя со средой, которая давала им все необходимое, чтобы они могли сохранять свой уклад в течение примерно 35 000 лет. Что же изменилось? Попытка дать полный ответ на этот вопрос уведет нас слишком далеко от нашей темы; однако один из факторов – трансформация типа поселений, вызванная изменениями климата и развитием сельского хозяйства. В отличие от маленьких кочевых групп бушменов более оседлые общины, кормившиеся земледелием, вскоре переросли в крупные поселения с инфраструктурой, делавшей кочевой образ жизни непрактичным. В этих многолюдных, привязанных к земле сообществах сложились предпосылки для формирования новых социальных отношений, торговли, политических иерархий, а также нового мышления, которое Льюис Мамфорд в своем всеобъемлющем труде «Город в истории»[37 - Lewis Mumford, The City in History: Its Origins, Its Transformations and Its Prospects (Harcourt, Brace and World, New York, 1961).] назвал «цитадельным». Оно выражалось в том, что люди начали занимать более оборонительную позицию по отношению к дикой природе. На протяжении веков эта позиция укреплялась при помощи стен, крепостных валов, инструментов, оружия – иначе говоря, технологий, – позволявших городу бурно развиваться, формируя культуру, полностью противоположную тому симбиозу с природой, который характеризовал более ранние, кочевые культуры охотников и собирателей вроде бушменской. Таким образом, одной из предпосылок постепенного отдаления человека от природы можно считать развитие крупных городов с их плотной населенностью, конфликтной атмосферой и, что особенно важно, физической инфраструктурой, усугубившей нашу обособленность от среды, в которой существовали древнейшие люди. Однако у данного процесса есть и другие факторы, гораздо более позднего происхождения.
В этом сюжете много отдельных линий, одни из которых имеют отношение к поменявшимся взглядам на устройство мозга, а другие – к индустриализации и автоматизации массового производства. Джонатан Крэри с восхитительной ясностью объединил многие из этих сюжетных линий в своей книге «Тормозы восприятия: Внимание, зрелище и современная культура»[38 - Jonathan Crary, Suspensions of Perception: Attention, Spectacle, and Modern Culture (MIT Press, Cambridge, MA, 2001).]. Он первым описал те важные перемены, которые происходили в мире науки с появлением научной психологии и изменением взглядов на устройство наших органов чувств. Исследователи, занимавшиеся психологией восприятия и физиологией органов чувств, постепенно выясняли, что взаимосвязь между внешним миром и его внутренней, ментальной репрезентацией гораздо более эфемерна, чем было принято считать. Конечно, философы и прежде говорили о различиях между миром ощущений и непознаваемой до конца внешней реальностью; но теперь эта мысль все более подтверждалась точными данными, которые поступали из создававшихся лабораторий по изучению психологии восприятия. Обнаруживались эмпирические факты, которые отодвигали в прошлое когнитивную позицию, иногда определяемую как наивный реализм, – будто мы чувствуем то, что чувствуем, просто потому, что так оно и есть, – и заменяли ее идеей, что воспринимающий есть активный наблюдатель, который конструирует рациональную интерпретацию всего того, что говорят ему его органы чувств. Этот важный сдвиг в понимании роли воспринимающего имел последствия, выходившие далеко за пределы закрытых лабораторий первых психологов. Самое главное, что он означал, – это то, что человеческие существа осознанно создают свой субъективный мир, намеренно сводя факты чувственного восприятия в связную историю. И зачастую мы достигаем этого, фокусируясь на одних аспектах своих ощущений и игнорируя другие, – проще говоря, за счет концентрации внимания.
Параллельно с психологическими исследованиями, коренным образом менявшими представления о том, как мы трактуем явленный в ощущениях мир, шли новые процессы в экономике, в основном связанные с индустриализацией и массовым производством и влекущие за собой принципиально иное отношение к работнику. Рабочий заводского цеха все больше рассматривался как товар – и, соответственно, в товар превращались его мозг, система восприятия и способность использовать эту систему для выполнения рутинных заданий. Иначе говоря, человеческая способность сосредоточивать внимание тоже коммерциализировалась. Томас Эдисон был ошибочно мифологизирован как изобретатель электрической лампочки, однако его истинный гений проявился в осознании жизненно важной связи между устройством человеческого разума и принципами массового производства. Точно так же, как он видел ценность обширной и быстро работающей электросети для крупной промышленности, Эдисон не мог не увидеть и того, что правильный научный подход к самому работнику тоже даст производственные преимущества. Что не менее важно, он признавал роль средств массовой информации в формировании потребительских привычек. Задолго до того, как Маршалл Маклюэн[39 - Маршалл Маклюэн, канадский философ и теоретик коммуникации, произвел революцию в наших представлениях о влиянии средств массовой информации на человека и общество. Наиболее известная из его работ: Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. – М.: Кучково поле, 2007.] произвел революцию в представлениях о власти массмедиа над нашими умами, Эдисон изобрел кинетоскоп – предшественник современного кинематографа. Это его изобретение – наряду с вкладом в разработку других видов коммуникационных технологий, например биржевого телеграфного аппарата, – свидетельствовало о зарождении понимания того, как подача текста и изображения может использоваться для управления осознанным вниманием человека. Одним из первых догадавшись, что, опираясь на подобные технологии, можно завладевать умами, влиять на образ жизни людей и подстегивать их потребительские аппетиты, Эдисон положил начало процессу, масштабы которого последние два столетия растут бешеными темпами.
Сегодня, даже располагая множеством доказательств того, что природа полезна для психики, мы по-прежнему превыше всего ценим свою способность направлять все силы на те виды деятельности, которые способствуют нашей продуктивности. Мы воспринимаем свои живительные вылазки на лоно природы как краткие передышки от «реальной жизни», сосредоточенной на производстве и потреблении. Наша система образования, особенно на начальных ее уровнях, когда умы особенно восприимчивы, почти полностью основана на установке, что главная цель официального образования – сформировать индивидуума, способного смирно сидеть за партой и концентрировать внимание на каком-то одном виде деятельности. Дети, испытывающие с этим сложности, считаются у нас особыми, нездоровыми, зачастую подвергаются медикаментозному лечению, которое изменяет работу их мозга, приучая его к строго сфокусированному избирательному вниманию. Даже сама планировка помещений для занятий в учебных заведениях, от детского сада до университетов, призвана подчеркивать пользу фокального, произвольного, направленного внимания, ресурс которого быстро истощается.
Дисплейные технологии всех видов, от гигантских электронных билбордов, как на Таймс-сквер, до рабочих станций, ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов, представляют собой естественную цепь разработок, призванных привлекать и удерживать то, что стало для человечества самым драгоценным когнитивным ресурсом, – наше с вами внимание. Но еще до появления всяких экранов ровно тем же целям служили такие элементарные архитектурные технологии, как стены. Пряча или открывая определенные элементы окружающего мира, стены точно так же фокусируют и направляют наше внимание.
С этой точки зрения можно рассматривать значительную часть истории современного городского дизайна – начиная с планировки стен, дверей и окон и заканчивая разработкой электронных дисплеев, служащих искусственными окнами в мир, – как систематическое покушение на присущую нам от рождения манеру созерцать мир и пребывать в нем. Естественное состояние нашего внимания – то, к которому мы пытаемся вернуться в краткие моменты отдыха от повседневной гонки, – подменяется постоянно сфокусированным, избирательным вниманием, и, хотя оно помогает нам формировать желания и снабжает средствами их удовлетворения, в конечном итоге истощает нас психически. Технологии, воздействующие на внимание, неумолимо гонят нас все дальше от того образа жизни, который вели дотехнологические общества вроде бушменов Калахари, гармонично встроенные в природную среду. Вместо этого мы превратились в нейробиологические машины, запрограммированные своим окружением на то, чтобы по максимуму производить и потреблять. Поистине, есть некая ирония в том факте, что теперь мы воспринимаем нашу исконную среду обитания, давшую нам жизнь, как временное прибежище, своего рода предохранительный клапан, спасающий нас от когнитивных последствий чрезмерного увлечения потребительством – процессом, суть которого – придумывать для себя все более сложные материальные желания и удовлетворять их.
На фоне этой радикальной трансформации представления о том, что значит быть человеком, самое примечательное – явные свидетельства влияния отголосков далекого прошлого на наши сегодняшние чувства, предпочтения и поведение. И хотя, я полагаю, немного найдется людей (и сам я уж точно не в их числе), готовых сменить комфорт современных городов на экстремальные условия дикой природы, очевидно, что, когда речь идет о выборе окружающей среды, для нас по-прежнему притягательны те самые визуальные и геометрические характеристики, которые увеличивали наши шансы на выживание в среде, покинутой тысячи лет назад. И это пристрастие сказывается почти на всем нашем поведении, начиная с выбора вида из окна или места для прогулки и заканчивая стремлением организовать свою жизнь так, чтобы иметь возможность ощутить и влияние мощных технологий, управляющих вниманием, и восстанавливающее действие природы, реальной или сымитированной. В большей степени, чем любой другой отдельно взятый фактор, тяга к природе обусловливает психогеографическую структуру нашей жизни.
Глава 2
Места любви
Сопереживающие скульптуры
Здесь, в тиши этого небольшого, заросшего папоротниками леса, я ощущал, как мое сердцебиение замедляется, а мышцы расслабляются. Бессвязные мысли, роившиеся в голове после сумасшедшей гонки по оживленной автостраде, улеглись, уступив место чувству умиротворения. Я ушел в глубь себя, где царили тишина и покой. Выражаясь языком ученых, исследующих наши реакции на природную среду, я чувствовал себя так, будто нахожусь вне своей обычной жизни. Время замедлило ход. Мой взгляд теперь легко и безмятежно скользил с места на место; я был зачарован окружающим пейзажем и полностью растворен в нем.
Я тронул ветвь папоротника, подрагивающую прямо перед моими глазами. Она слегка изогнулась, а затем распрямилась, задев меня по руке. И вот тут-то я впервые ощутил странность происходящего. Это был необычный лес. Если я напирал, он давал отпор. Если я отступал, он с любопытством тянулся за мной. Казалось, лес знает о моем присутствии, и я легко мог себе представить, что ему известно кое-что и о моих ощущениях. Радость слияния с окружающим миром постепенно уступала место новому ощущению: нарастала неуверенность, удивление, даже легкая тревога. Я привык, что во время прогулки по лесу меня окружает жизнь во всевозможных ее проявлениях: пение птиц, стрекотание насекомых, трепетание растений на ветру. В этом же лесу происходило нечто иное. Конечно, всегда понятно, что лес как-то реагирует на твое присутствие – птицы и насекомые могут затихнуть, чуя незваного гостя, – но здесь мне казалось, будто я нахожусь в самом центре внимания. Лес реагировал на каждое мое движение осознанно и с явным интересом. Казалось, он знает меня, и поэтому я ощущал себя не в своей тарелке.
А дело в том, что тот небольшой лес, в котором я находился, был полностью искусственным и «произрастал» в одной из комнат красивого старого дома в зеленом пригороде Торонто. Здание одновременно служило мастерской архитектору-футурологу Филипу Бисли, смастерившему эту рощу при помощи 3D-принтера, большого количества простых микропроцессоров и сенсоров и нескольких мотков специального провода высокого напряжения, который растягивается и сжимается под воздействием электрического тока. Сплетения нежных филигранных акриловых листочков, которые я видел в «лесу», являлись уменьшенной копией тех, что Бисли использовал в более крупных инсталляциях, созданных им для нескольких международных выставок. На одной из них – Венецианской биеннале-2010 – сотни тысяч посетителей имели возможность побродить по нескольким гигантским искусственным лесам «Гилозойная почва» (Hylozoic Soil) и испытать такие же странные чувства, какие охватили меня в мастерской архитектора. Воздействие, которое работы Бисли оказывают на людей, поистине сенсационно. Вызывая у зрителей ощущение близости и тесной связи с природой, он, по его словам, стремится пробудить в людях любовь и сочувствие и переместить их в «…пространство, где стираются границы между "кто я" и "что я", различия между мной, животным и камнем»[40 - Цитирую Бисли по интервью, которое он дал Фрэн Шехтер из журнала NOW (2010, доступно по ссылке: https://nowtoronto.com/art-and-books/features/art-as-organism/ (https://nowtoronto.com/art-and-books/features/art-as-organism/)).].
Моя первая встреча с Бисли произошла за несколько лет до визита в его мастерскую. Я был занят в одном исследовательском проекте, посвященном применению новых технологий в оценке эмоций и поведения пациентов районных поликлиник. Зная, что архитектурная мастерская Бисли разрабатывала дизайн нескольких подобных клиник, и по настоянию другого архитектора, члена нашей команды, я спросил у Бисли, не хочет ли он принять участие в проекте. Помню наше первое совещание – вместе с несколькими специалистами я сидел в конференц-зале, готовясь к обсуждению стратегии. Опоздавший Бисли ворвался в комнату с улыбкой до ушей – он излучал заразительную энергию и энтузиазм, но казался слегка не в себе, как человек, у которого происходит слишком много всего сразу. Поскольку большинство из нас не знали друг друга, я предложил, чтобы для начала каждый представился. Все, кроме Бисли, выдали привычный, шаблонный рассказ, поведав о своей сфере деятельности, квалификации и функциях, которые они могли бы выполнять в проекте. Филип же, когда пришла его очередь, сразу предупредил, что, возможно, он не тот, кто нам нужен. Дальше он сообщил, что главный интерес для него в данный момент представляет создание особого рода скульптур – притягивающих и одновременно отталкивающих произведений на грани между жизнью и небытием. Зрителей эти странные создания должны будут завлечь в свои сети и в конечном итоге переварить. На несколько секунд в конференц-зале воцарилась тишина, необычная для встречи «говорящих голов», – уже тогда у нас возникло легкое подозрение, что этот парень не даст нам спокойно ковыряться в наших скучных идеях о том, как может или должно выглядеть здание. Похоже было, что Бисли живет в другой вселенной и видит какой-то иной мир – ушедший далеко в будущее и в то же время сохранивший прочные связи с древним прошлым.
Беглое знакомство с биографией Бисли позволяет частично понять, как архитектор, окончивший Университет Торонто в середине 1980-х, отказался от стандартной для людей его профессии деятельности – проектирования жилых домов, студенческих центров, поликлиник и ресторанов – в пользу совсем других вещей. В список новых интересов Бисли входили, по его словам, «эмоция, романтизм и спиритуализм XXI века как разные грани модернизма; несхожесть и диссоциация; хтонические и расширенные определения пространства; архаичное»[41 - Биография Филипа Бисли доступна по ссылке: http://philipbeesleyarchitect.com/about/14K24_PB_CV.pdf (http://philipbeesleyarchitect.com/about/14K24_PB_CV.pdf).].
Как рассказывает архитектор, поворотным моментом в его жизни стал проект, который ему удалось реализовать в 1995–1996 гг. благодаря престижной Римской премии по архитектуре. Работая вместе с археологом Николой Терренато на раскопках Палатинского холма – древнейшей части Рима, Бисли должен был попытаться пролить свет на обстоятельства погребения младенца в основании городской стены, окружавшей первоначальное ядро города. Это жертвенное захоронение VIII века до н. э. возле ворот Мугония, одного из трех предполагаемых въездов в древний город, – след обычного для тех времен ритуала: первые жители города приносили в жертву своих детей, обозначая тем самым границу между городской территорией и внешним миром дикой природы. Опыт, который Бисли получил, тщательно исследуя детскую могилку и размышляя о ее значении, стал для него судьбоносным. С тех пор он посвятил жизнь исследованию границ между бытием и небытием, ловле жизненных начал сетями рукотворных конструкций. Это привело его к геотканям – материалам, используемым в сельском хозяйстве и существующим в симбиозе с почвой. Так возникла «Гилозойная почва» – материя не живая и не мертвая, реагирующая на живых существ и способная к имитации самых интимных проявлений человечности: сочувствия и заботы.
Творчество Бисли – это постоянный полет фантазии, подкрепляемый тщательной исследовательской работой, глубокими размышлениями и талантом соединять, казалось бы, совершенно не связанные друг с другом сферы и смыслы (в числе его недавних проектов – разработка дизайна одежды совместно с Айрис ван Херпен, создающей наряды для Леди Гага). Эти способности проявляются в нем на полную мощь не только в творчестве, но и в повседневном общении. Его речь, жесты, мимика действуют заразительно, вовлекая в азартную погоню за свежими идеями, теоретическими и практическими. Когда Бисли приехал посмотреть мою лабораторию виртуальной реальности, я поместил его в имитационную модель жилого дома – мое весьма скромное творение, которым я, впрочем, гордился. Все остальные, кого я знакомил с этой работой, при «погружении» спокойно стояли на месте, оглядывались по сторонам, делали несколько осторожных шагов к объектам, иногда прикасались к ним, задавали пару-тройку вопросов. Бисли же с энтузиазмом нырнул в «дом» и принялся испытывать модель на прочность изнутри. Вскоре – к немалому беспокойству студентов, контролирующих всю аппаратуру и электрику, – он уже скакал с места на место, ползал по полу, изучая объекты снизу, ложился на спину, разглядывая потолки, – словом, постигал мое произведение со счастливым, детским любопытством, пока люди вокруг него суетились, пытаясь уследить за проводами и удержать на месте компьютеры.
Работы самого Бисли одновременно трогают за душу и подстегивают мысль, но кажутся далекими от насущных задач, связанных с проектированием таких зданий, как школы, банки, офисы и жилые дома. Подобно нарядам от-кутюр, которые демонстрируют модели, дефилируя по подиуму, и в которых большинство из нас и на спор не вышло бы из дома, интерактивные скульптуры Бисли – своеобразные сигналы из будущего, примеры того, что готовит нам дизайн в завтрашнем высокотехнологичном мире. Это, собственно, одна из главных тем моей книги. «Гилозойная почва» наглядно и убедительно показывает, до какой степени могут развиваться двусторонние эмоциональные связи между вещью и человеком. В коктейле смешанных чувств, вызванных прогулкой среди эмпатических скульптур Бисли, есть пара капель той драгоценной эмоции, которую мы называем «любовью» и чтим превыше всех других своих состояний.
Всюду жизнь
Ни об одном другом человеческом чувстве или состоянии не написано столько слов, сколько о любви; с античных времен люди ищут определения этому слову. Ученые собирают данные, берут образцы крови, измеряют мозговые волны – все в попытке свести к цифрам суть того, что мы называем любовью. Однако большинство этих исследований так или иначе сосредоточены на межличностной любви – той, что побуждает нас вступать в длительные моногамные отношения, рожать детей, покупать микроавтобусы и брать ипотечные кредиты. Любовь к неодушевленным объектам также свойственна человеку; но когда мы говорим: «Я люблю это платье», то, как правило, – если речь не идет о такой сексуальной девиации, как фетишизм, – подразумеваем нечто совсем иное, чем когда объясняемся в любви своему романтическому партнеру. Однако есть и те, кто строит романтические отношения со зданиями и сооружениями. Так, гражданка Швеции Эйя-Рита Эклоф влюбилась в Берлинскую стену (когда та еще была цела) и в 1979 г. даже специально съездила в Берлин, чтобы связать себя со стеной своего рода брачными узами. После свадебной церемонии она взяла фамилию Эклоф-Берлинер-Мауэр[3 - От нем. Berliner Mauer, Берлинская стена. – Прим. пер.]. Американка Эрика Эйфель (урожденная Лабри) прославилась тем, что в 2007-м вступила в брак с Эйфелевой башней, чьи плавные изогнутые линии покорили ее сердце. Еще одна американка, Эми Уолф, вышла замуж за аттракцион в пенсильванском парке развлечений. Конечно, ничего не стоит отмахнуться от таких людей, называющих себя объектосексуалами, и объявить их «просто психами», однако признаемся честно: большинство из нас когда-либо испытывали особую тягу к определенным предметам, формам, краскам и т. п. По причинам, необъяснимым для меня самого, я в свое время был очень сильно привязан к красивому консервному ножу красного цвета, который мне подарили в ознаменование переезда в первое собственное жилье. Я даже не осознавал, насколько дорога мне эта кухонная принадлежность, до тех пор пока коррозия не унесла ее жизнь. С тех пор вкус консервированной фасоли никогда уже не был прежним.
Притягательность плавных изгибов Mazda Miata возникает не на пустом месте. Наши инстинктивные реакции на геометрию спортивного автомобиля записаны в глубинах нашей нервной системы. Исследования не только показали, что мы предпочитаем изгибы острым углам (причем даже в младенчестве, задолго до того, как на опыте узнаем об опасностях остроконечных предметов вроде ножей или ножниц), но и выявили связь этого предпочтения со свойствами нейронов в отвечающих за распознавание объектов участках нашей зрительной коры. Вкратце, среди наших корковых клеток гораздо больше тех, что приспособлены для анализа нюансов криволинейной поверхности, чем тех, что анализируют поверхность остроугольную. Эти клетки – часть высокоскоростной нейронной системы обработки данных, которая отвечает за формирование первых впечатлений и оценку опасностей. Даже наши первые впечатления от незнакомцев отчасти основаны на анализе простых параметров лица, связанных с формой. Сами того не осознавая, мы формируем симпатию или антипатию к определенным типам лиц менее чем за 39 миллисекунд начиная с того момента, как увидели их. Это примерно 20-я часть времени, необходимого в среднем человеческому сердцу для одного удара[42 - Описание одного из ранних и наиболее авторитетных исследований быстрого распознавания зрительных объектов см. в публикации Мэри Поттер Recognition Memory for a Rapid Sequence of Pictures (Journal of Experimental Psychology, 1969, Т. 81, р. 10–15).].
Однако механизмы, обусловливающие воздействие кинетических скульптур Бисли, вовсе не сводятся к простой взаимосвязи форм и эмоций. Конечно, эти произведения имеют определенное сходство с настоящим лесом, обладая набором черт, которые, по мнению психологов-энвайронменталистов, оказывают благотворное и даже целительное воздействие на психику. Тем не менее то ключевое, на чем строится эмоциональная связь наблюдателя с объектом, имеет отношение не столько к геометрии, сколько к движению и интерактивности.
В 1944 г. психолог, занимающийся проблемами восприятия, Фриц Хайдер из Колледжа Смит (штат Массачусетс, США) и его студентка Марианна Зиммель опубликовали исследование, которое показывает, что люди склонны приписывать свойства человеческого сознания, в том числе интенциональность – понимание цели, простым геометрическим фигурам. Участникам этих экспериментов демонстрировали короткий анимационный фильм, в котором пара треугольников и кружок перемещались по экрану. Когда испытуемых просили описать происходящее на экране, они наделяли объекты интеллектом и эмоциями. Так, кое-кто охарактеризовал один из треугольников как «агрессивного задиру»; многие допускали возможность любовного треугольника между фигурами. На основе этих широко известных экспериментов началась разработка такого понятия, как «модель психического состояния». Оно подразумевает, что мы склонны объяснять поведение любых объектов чисто человеческими мотивами. Более недавние исследования наводят на мысль, что способность применять модель психического состояния для объяснения простых явлений начинает развиваться с очень раннего возраста. Эффекты, описанные Хайдером и Зиммель, наблюдаются даже у младенцев[43 - Исследование Фрица Хайдера и Марианны Зиммель было опубликовано в 1944 г. См. статью An Experimental Study of Apparent Behavior (American Journal of Psychology, Т. 57, р. 243–259). Описанное мной видео легко найти в Интернете, например по этой ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=76p64j3H1Ng (https://www.youtube.com/watch?v=76p64j3H1Ng).].
В результате похожих экспериментов бельгийский психолог Альбер Мишотт в 1947 г. обнаружил феномен, которому дал название «эффект запуска». В экспериментах Мишотта испытуемым также показывали фильм, но сюжет его был еще проще, чем у Хайдера и Зиммель: на экране красная точка двигалась в сторону зеленой. Когда красная точка касалась с зеленой, последняя тоже сдвигалась с места. Затем испытуемых просили описать увиденное, и оказывалось, что они не могут этого сделать, не прибегая к причинно-следственной связи. Им представлялось, что это красная точка каким-то образом привела в движение зеленую. Дальнейшие исследования не только подтвердили, что эффект запуска прочно укоренен в нашей психике, но и показали, что мы в принципе не способны воспринимать эту простую движущуюся картинку, не усматривая в ней каузальной связи между событиями, хотя демонстрируемое на экране – не более чем движение пары точек. И так же, как это было с наблюдениями Хайдера, обнаруженное Мишоттом явление перцептивной каузальности было зафиксировано даже у совсем маленьких детей[44 - Об исследовании Альбера Мишотта, посвященном каузальности, рассказывается в его блестящей книге The Perception of Causality (Methuen, Andover, MA, 1962).].
Результаты экспериментов Мишотта и Хайдера позволяют предположить, что люди от природы запрограммированы воспринимать простые движущиеся объекты как разумные существа, способные испытывать сложные эмоции, в частности любовь и ревность. Налицо противоречие интуитивному (и неверному) представлению, будто, наблюдая ту или иную сцену, мы первым делом стараемся идентифицировать и классифицировать все видимые объекты и лишь затем начинаем соображать, что же там, собственно, происходит. На самом же деле даже наше первое, мгновенное, впечатление от сцены, формируемое менее чем за один удар сердца, включает в себя такие автоматические выводы о мыслях, чувствах и намерениях объектов. С точки зрения эволюционного отбора, под воздействием которого развивалась наша нервная система, нетрудно понять, почему так устроено. В своих попытках постичь окружающий мир человеческий мозг сталкивается с огромной проблемой: вокруг слишком много информации, чтобы можно было позволить себе тщательно анализировать все доступные элементы среднестатистической сцены. Но это еще полбеды. Главная сложность в том, что наш мозг как биологический компьютер или «машина из плоти», как его еще называют, чрезвычайно медленно обрабатывает данные. По сравнению с искусственными вычислительными устройствами – даже такими относительно простыми, как те, что предохраняют наши автомобили от поломок или заставляют айподы проигрывать музыку, – мозг работает на мучительно низких скоростях. Чтобы компенсировать свою нерасторопность и обеспечивать своевременные реакции, позволяющие нам уворачиваться от приближающихся хищников (будь то саблезубые тигры или несущиеся на бешеной скорости автомобили), мозг использует целый арсенал различных приемов и хитростей. Например, он способен предугадывать, что может означать та или иная сцена, исходя из того, что обычно означают похожие сцены. Отчасти такое прогнозирование – навык, усвояемый на основе предыдущего опыта; но обучение – процесс зачастую медленный и трудоемкий. К тому же многие типы ситуаций и вовсе не подразумевают наличия еще одного шанса: там, где речь идет об отражении непосредственных угроз, мы просто не можем позволить себе такую роскошь, как отрицательный опыт. Поэтому во многих случаях предположения, которые делает наш мозг, запрограммированы от природы и носят настолько автоматический характер, что мы не сможем их игнорировать, даже если захотим. Вот почему мы видим движущиеся треугольники Хайдера как двух соперников, сражающихся за сердце дамы, а цветные кружочки Мишотта – как пару бильярдных шаров, толкающих друг друга, – хотя и понимаем, что на самом деле все это лишь простые геометрические фигуры на экране.
Итак, вернемся к Бисли и его скульптурам из «Гилозойной почвы». Теперь нам будет немного легче понять те смешанные чувства, которые испытывает посетитель при виде колышущегося моря акриловых папоротников. Волшебство, которое здесь происходит, связано не столько со способностью папоротников проникать в глубь нашей лимбической системы, сколько с тем фактом, что они воздействуют на механизм, помогающий нам с молниеносной быстротой распознавать ситуации реальной жизни. Этот же самый механизм может помочь объяснить особенности таких отклонений, как объектосексуальность или даже патологическое накопительство – расстройство, при котором человек может испытывать глубокую эмоциональную привязанность к самым обыденным предметам домашнего обихода. Одна женщина, страдавшая патологическим накопительством, рассказывала о том, что она пережила, пытаясь избавиться от нескольких пустых пластиковых контейнеров. Она отнесла их на помойку, предварительно тщательно вымыв под краном, и вскоре ее стали одолевать мысли о том, как этим контейнерам, влажным после недавнего мытья, должно быть сейчас сыро и неуютно в мусорном ящике. Лишь вернувшись за ними, освободив их от крышек и тщательно высушив, она смогла наконец успокоиться[45 - Историю о пациентке, страдающей силлогоманией, и мокрых контейнерах я услышал в 2012 г. в Торонто на семинаре широко известного психолога Дэвида Толина. Его книга, написанная в соавторстве с Рэнди Фростом и Гейл Стикти, называется Buried in Treasures (Oxford University Press, London, 2007) и представляет собой интересный обзор на тему патологического накопительства.]. Такие причудливые паттерны мышления – возможно, лишь утрированная версия универсальной человеческой склонности к анимистическим верованиям, которые порождаются мозгом, запрограммированным выносить суждения и принимать решения с молниеносной быстротой. В этой же склонности к анимизму, заложенной на нейронном уровне, вероятно, кроется ключ к пониманию древних обычаев вроде принесения живого человеческого существа в жертву свежей земле нового города – того самого ритуала, изучением которого занимался Бисли.
Тепло наших жилищ
Если, как демонстрируют опыты Бисли, мы так легко устанавливаем сильную эмоциональную связь даже со скульптурами, что же тогда происходит с нами в наших домах? Ведь нет пространства более интимного, чем то, куда мы возвращаемся после тяжелого трудового дня в расчете на отдых, поддержку и защиту.
Идея, будто наши дома способны чувствовать, нашла богатое отражение в мировой литературе – причем по большей части в историях с несчастливым концом. В леденящем кровь рассказе Эдгара По «Падение дома Ашеров» автор с самого начала ясно дает нам понять, что место действия, мрачный готический особняк, – в то же время и один из главных героев. Рассказчик, описывая свои первые впечатления от дома Ашеров, отмечает гнетущее, тягостное чувство, которое сразу же вызвали у него «угрюмые стены» и «холодно, безучастно глядящие окна» и которое в дальнейшем будет лишь усиливаться[46 - Короткий рассказ Эдгара Аллана По «Падение дома Ашеров» нетрудно найти в Интернете или бумажном издании.]. Точно так же, как Филип Бисли ставил своей целью создать «общее пространство», где стираются границы между наблюдателем и средой, так и Эдгар По выстраивает зловещую динамику, в которой персонажи и место действия подпитывают друг друга, вместе двигаясь к неотвратимому и страшному финалу. Те же темы – правда, уже с изрядной долей кровавого натурализма – обыгрываются сегодня в популярном телесериале «Американская история ужасов» (American Horror Story).
В реальной жизни, впрочем, наши жилища традиционно ассоциируются не со страшилками, а, наоборот, исключительно с позитивными ценностями. Это наше частное, интимное пространство, где должны царить уют и гармония. Данная идея с наглядной и изящной простотой воплощена, например, в архитектуре традиционных жилищ западноафриканского государства Мали, где планировка дома явно напоминает форму женской фигуры, так что центральное жилое пространство расположено в буквальном смысле в матке[47 - Много красивых фотографий, посвященных малийской глиняной архитектуре, в том числе традиционным жилищам, можно увидеть на сайте Atlas Obscura по ссылке: http://www.atlasobscura.com/articles/mud-masons-of-mali (http://www.atlasobscura.com/articles/mud-masons-of-mali).].
Устройство современных западных домов – по сложным причинам скорее экономического, чем психологического характера – давно отошло от традиционных форм народной архитектуры: ситуация, при которой люди были вольны сами создавать себе жилища, используя любые местные материалы, найденные под рукой, осталась в далеком прошлом. Тем не менее мы по-прежнему можем выделить многие факторы, обусловливающие влияние жилых помещений на наше поведение дома и – что особенно важно – на наши взаимоотношения с домашними. Теоретик архитектуры Витольд Рыбчинский в своем бестселлере «Дом: Краткая история идеи» описывает эволюцию жилища: от простой постройки в одну комнату с передвижной мебелью и фактическим отсутствием приватности до богатой помещичьей усадьбы. По мнению Рыбчинского, этот прогресс неразрывно связан с постепенным осознанием нами важности комфорта – понятия, просто-напросто не применявшегося к ранним формам жилья[48 - Увлекательная книга Витольда Рыбчинского Home: A Short History of an Idea (Viking, New York, 1986) содержит много ценных мыслей и наблюдений, связанных с архитектурой жилых пространств.]. Другие исследователи более отчетливо описывают некоторые взаимосвязи между устройством жилых помещений и различными аспектами нашей частной и социальной жизни. Так, появление отдельных спальных комнат для супружеских пар стало важной вехой в эволюции наших взглядов на сексуальность и приватность. Причем это был двусторонний процесс: с одной стороны, потребность супругов в интимной жизни создавала запрос на выделение индивидуальных спален; с другой – само по себе наличие таких спален популяризировало преимущества половой жизни за закрытыми дверями и меняло представления об отношениях между родителями и детьми. Подобным же образом выделение специальных помещений под кухню означало формирование частной территории у члена семьи, ответственного за приготовление пищи, и укрепляло идею распределения домашних ролей между мужем, женой и ребенком. Социолог Питер Уорд в своей книге «История жилых помещений» пошел еще дальше и предположил, что более сложная организация западного жилища с его обилием личного пространства, разделением территорий и индивидуальными комнатами внесла свой вклад в развитие западной тенденции ставить личность выше группы[49 - Книга Питера Уорда A History of Domestic Spaces (UBC Press, Vancouver, 1999) посвящена истории Канады, но многие из наблюдений автора можно применить ко всей Северной Америке.]. Возможность строить свою жизнь отдельно от других людей, в том числе и от членов собственной семьи, мотивировала нас высоко ценить нашу независимость и автономию. Нет числа путям, явным и скрытым, которыми меняющееся устройство домов способствовало формированию у нас новых паттернов поведения и представлений о своем месте в мире. Немецкий архитектор Герман Мутезиус, работавший на рубеже XIX–XX веков дипломатом в посольстве Германии в Лондоне и написавший «Английский дом» (Das Englisch Haus) – монументальный трехтомный труд по истории жилищной архитектуры Англии, – делает еще один интересный вывод. По его мнению, в тот период именно особенности жилищ позволили Великобритании экономически развиваться успешнее, чем Германия. Планировка английского дома, как это виделось Мутезиусу, подразумевала комфортное и естественное разделение интимных пространств и более публичных зон, предназначенных для приема гостей. Немецкие же дома, наоборот, были устроены таким образом, что гости, вынужденные переходить из одной убранной напоказ комнаты в другую, чувствовали себя как на помпезном шоу в Лас-Вегасе, где каждая сцена должна быть эффектнее предыдущей[50 - Великолепный трехтомник Германа Мутезиуса вышел в 1902 г. на немецком, а в 2006-м был наконец переведен на английский и издан в красивой подарочной обложке: Hermann Muthesius. The English House (Frances Lincoln, London, 2006).].
Эксперименты с виртуальными домами
Если правда то, что внешний вид и планировка жилищ влияет на наши эмоции и что подходящий дом способен вызвать чувство любви, то должна быть возможность оценить эти процессы с научной точки зрения. До недавнего времени подходящих инструментов для такого рода измерений просто не существовало. На протяжении большей части прошлого века психологические эксперименты, как правило, проводились в лабораториях со строгими интерьерами. Испытуемые неподвижно сидели перед исследователем, а тот задавал им вопросы или время от времени тыкал в них научными приборами, измеряя мышечный тонус, частоту сердечных сокращений, движения глаз и иногда мозговые волны. Теперь, с изобретением гораздо более сложных технологий, способных следить за человеком в движении, нам стали доступны более тонкие методы измерения реакций на пространство.
Наиболее действенные из этих методов основаны на технологиях иммерсивной виртуальной реальности. Они подразумевают, что участнику эксперимента показывают виды различных мест, которые могут проецироваться либо на небольшой экран шлема виртуальной реальности, либо прямо на стены комнаты. Истинная магия таких технологий в том, что картина на экране обновляется по мере перемещений испытуемого. Высокочувствительные датчики измеряют каждое движение его глаз, головы и тела, и изображение меняется синхронно с этими движениями. C развитием этой технологии стало возможно помещать наблюдателя прямо внутрь компьютерной модели таким образом, что он видит эту модель во всем ее трехмерном великолепии и ощущает, будто полностью переместился в альтернативную реальность. И хотя при этом испытуемые, как правило, не теряют связи с реальным миром и понимают, что находятся в имитируемом пространстве, они все равно начинают во многом вести себя в соответствии с условиями виртуального окружения. Например, человек, страдающий акрофобией, или боязнью высоты, испытывает заметное беспокойство на открытой платформе виртуального подъемника. Подобные высокоэффективные методы визуализации постепенно начинают входить в арсенал самых прогрессивных архитекторов, которые, приступая к строительству реального здания, могут сначала быстро «сваять» из пикселей его копию, показать ее клиентам и выявить ошибки. Берут эту технологию на вооружение и ученые, исследующие взаимодействие человека с пространством: психологам-энвайронменталистам она помогает изучать наши реакции на то или иное место пребывания. Вероятно, уже скоро методы виртуальной реальности будут применяться значительно активнее, так как стоимость хорошей моделирующей системы за последние годы резко упала.
Мы в моей лаборатории в Университете Уотерлу, Канада, тоже решили воспользоваться преимуществами этой технологии, чтобы исследовать реакцию людей на жилые пространства. Мы сконструировали компьютерные модели трех домов, воплощавших разные дизайнерские решения. Первый – дом Джейкобса – был построен Фрэнком Ллойдом Райтом в 1937 г. Его скромные размеры, простая планировка в виде буквы L, интерьер, отделанный теплыми природными материалами и максимально свободный от лишних украшений и безделушек, – все это отражает убеждение Райта, что дом должен подчеркивать личную свободу и независимость живущих в нем людей. Второй нашей моделью был дом, спроектированный Сарой Сузанкой, выдающимся американским архитектором и автором широко известной серии книг «Меньше, но лучше», популяризирующих идею, что в дизайне дома главное не габариты, а комфорт и функциональность[51 - Книжная серия Сары Сузанки Not So Big значительно повлияла на тенденции развития жилищной архитектуры, выдвинув на первый план функциональность дома, а не его размеры. Первая и наиболее актуальная в свете нашей дискуссии книга этой серии: Sarah Susanka, Kira Obolensky, Susanka Studios. The Not So Big House: A Blueprint for the Way We Really Live (Taunton Press, Newton CT, 2009).]. Третьим был вполне стандартный дом, типичный для современной массовой застройки североамериканских пригородов. Участникам эксперимента, снаряженным шлемами виртуальной реальности, предлагалось представить, что они хотят купить дом и выбирают между этими тремя моделями. Они могли абсолютно свободно перемещаться по комнатам; при этом все их движения тщательно отслеживались, а интервьюер задавал им ряд вопросов в процессе осмотра каждого из домов. Нас интересовали не только впечатления людей от домов; нам было также важно зафиксировать в деталях, куда они заходят и на что обращают внимание при передвижении по виртуальным пространствам. Еще в процессе эксперимента нам стало очевидно: испытуемые вскоре забывают, что имеют дело с компьютерной моделью, и начинают вести себя так, будто находятся в реальном здании. Так, одна из участниц отметила, что, проходя мимо длинного ряда панорамных окон в доме Джейкобса, она чувствовала тепло солнечных лучей на своих руках, – и это притом, что «солнце» в нашей модели было тоже абсолютной имитацией и никакого тепла выделять не могло. Другие участники аккуратно заглядывали под воображаемые кухонные шкафчики, пытаясь разглядеть нюансы дизайна. Когда мы просили испытуемых указать наиболее понравившиеся им места в каждом из домов, большинство тяготело к самым широким открытым пространствам в центре жилой зоны, объясняя это тем, что им нравится находиться там, откуда можно видеть происходящее вокруг. Когда мы спрашивали их, где бы они хранили семейную реликвию, одни выбирали для этих целей видное место в самом нарядном помещении, другие же стремились спрятать фамильную ценность от любопытных глаз где-нибудь в потайном уголке дальней спальни. Следя за перемещениями участников эксперимента по каждому из домов, мы с удивлением обнаружили, что в определенные комнаты вообще никто не заходил. Наиболее показательной в этом плане была большая гостиная в типовом пригородном доме: в комнату лишь заглядывали, но никто не исследовал ее изнутри. При этом, как ни странно, многие участники говорили нам, что гостиная им нравится, – но, очевидно, не настолько, чтобы они хотели там находиться! Вероятно, это наблюдение отражает жалобы многих владельцев подобных домов на то, что публичные пространства используются недостаточно и лишь крадут ценные площади на первых этажах.
Но вот что было особенно удивительно: опросив участников и узнав, какой из трех домов они бы, скорее всего, приобрели, мы отметили сильную тенденцию к выбору типового дома – и это притом, что большинству вовсе не он показался наиболее симпатичным! Одни восхищались творением Сузанки – плодом креативного подхода архитектора к использованию пространства, практичностью здания и имеющимися в нем возможностями для уединения и социализации. Другие хвалили обилие природных материалов в отделке дома Джейкобса, а также его уникальное, неформальное и дружелюбное жилое пространство, сосредоточенное вокруг большого кирпичного камина. Однако мало кто сказал, что купил бы какой-то из этих домов.
Самая вероятная причина несоответствия между тем, на что человек обращает внимание и как себя чувствует в каком-либо здании, и тем, какой дом он хотел бы иметь в реальной жизни, кроется в его прошлом опыте. Как признавались участники нашего эксперимента, хотя они и находили дизайнерские дома интересными и привлекательными, их все равно тянуло к наиболее распространенному на рынке типу жилья. Так что в известной степени это досадное противоречие можно объяснить недостатком воображения у испытуемых. Мы хотим то, что хотим, потому что это все, на что, как нам кажется, мы можем рассчитывать. Однако, проанализировав цифры, я задался вопросом, могут ли здесь иметь место какие-то более глубинные факторы. Как наша история проживания в различных домах и комнатах, произошедшие там события и связанные с этим воспоминания влияют на наше восприятие жилых помещений? Влюбляясь в конкретный дом, во что именно мы влюбляемся? Возможно, дело здесь не только в формах и текстурах, что мы видим, впервые входя в это здание.
Агенты по продаже недвижимости любят говорить клиентам, что, как только те найдут дом своей мечты, тотчас это почувствуют. По-видимому, это утверждение основано на опыте общения со многими покупателями домов. И каким бы искусственным ни был наш эксперимент с виртуальной реальностью, надо сказать, что мы тоже наблюдали определенные отголоски такого рода реакции у некоторых наших испытуемых, – особенно когда они знакомились с моделью дома Сузанки. Возникало немедленное и осязаемое чувство контакта с пространством. Участники замедляли шаг и внимательнее оглядывались по сторонам, неспешно смакуя каждую деталь. И мы знали, что они испытывают, просто по их комментариям и движениям, еще до анализа собранных в ходе эксперимента данных. Так что же с ними происходило? Откуда берется это головокружительное чувство влюбленности с первого взгляда, возникающее сразу, как только мы переступаем порог дома?
Французский философ и поэт Гастон Башляр подробно излагает феноменологию жилого пространства в своей знаменитой книге «Поэтика пространства». Он описывает, как опыт, пережитый в наших первых домах, может влиять на всю оставшуюся жизнь. Башляр говорит, что дом – это в первую очередь своего рода вместилище наших грез. Именно в самом первом нашем доме у нас формируются алгоритмы мышления и запоминания, и нам никогда уже не удастся разорвать связь между этим ранним опытом и любыми последующими действиями. Он пишет:
«…Но если мы после многолетних скитаний вернемся в старый дом, то с удивлением обнаружим, что наши самые незначительные, самые примитивные привычки вдруг ожили и остались в точности такими, как раньше. В общем, родной дом встроил в нас иерархию различных функций, связанных с обитанием в нем. Мы – диаграмма функций, связанных с обитанием в этом конкретном доме, и все прочие дома – лишь вариации на основную тему»[52 - Английский перевод цитируется по изданию: Gaston Bachelard, The Poetics of Space (Beacon Press, Boston, 1994). Русский перевод см. в книге: Башляр Г. Поэтика пространства. – М.: Ад Маргинем, 2014.].
Эта бессознательная связь наших ранних жилищ и нынешних обстоятельств жизни, вероятно, свойственна всем. С античных времен нам известно, что существует особая взаимозависимость между нашим жизненным опытом и воспоминаниями и теми местами, с которыми они связаны. Один из старейших мнемонических приемов, «метод мест», описанный Цицероном в его диалоге «Об ораторе»[53 - Цицерон описал свой так называемый метод мест в диалоге «Об ораторе» (De Oratore). См.: Марк Туллий Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. – М.: Наука, 1972.] в 55 г. до н. э., представляет собой четкую стратегию эффективного запоминания фактов посредством их привязки к определенным местам в пространстве. Сегодня эффективность этого метода подтверждается результатами тысяч экспериментов в области психологии и нейробиологии.
Например, Гэбриэл Радвански, психолог из Университета Нотр-Дам в Индиане (США), открыл поразительную взаимосвязь между нашей памятью об объектах и обстоятельствами, в которых они нам встретились. Радвански и его команда провели серию простых экспериментов: испытуемым предлагалось переносить предметы из комнаты в комнату, причем в каждой следующей комнате они должны были оставлять часть вещей и брать несколько новых. Ученый пришел к выводу, что каждое прохождение через дверной проем служит своего рода «горизонтом событий», после которого нам труднее вспомнить, какие предметы мы оставили в предыдущей комнате. Последующие контрольные опыты показали, что дело здесь не в давности воспоминания и не в самом факте перехода с место на место. Например, передвижение по сложному маршруту в пределах одной большой комнаты не сопровождалось ухудшением памяти. Загвоздка была явно в дверных проемах. Причем ровно тот же эффект наблюдался и в виртуальном варианте эксперимента, когда испытуемые должны были перемещаться с помощью мышки по уменьшенным трехмерным изображениям комнат на экране компьютера[54 - Эти эксперименты Гэбриэла Радвански описаны в статье Радвански и его коллег: Gabriel A. Radvansky, Sabine A. Krawietz, and Andrea K. Tamplin. Walking Through Doorways Causes Forgetting: Further Explorations (The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 2011, Т. 64, р. 1632–1645).]
Наконец, вовсе не обязательно стремиться к тому, чтобы полностью заменить островки живой зелени в городах электронными симулякрами. Однако я вполне допускаю, что с пониманием самих принципов, на которых строится благотворное действие ландшафтов, нам откроются способы не заменить, но дополнить особенности города. Таким образом мы сможем расширить возможности целительного контакта с природой в плотно застроенных городских районах или в интерьерах зданий, где использование элементов реальной природы затруднительно, а то и невозможно.
Психолог Питер Кан в своей содержательной книге «Технологичная природа: Адаптация и будущее человеческой жизни»[35 - Питер Кан написал несколько хороших книг о взаимосвязи между возникновением технологий и потерей нашего контакта с природой. Одна из лучших его книг на эту тему – Technological Nature: Adaptation and the Future of Human Life (MIT Press, Cambridge, MA, 2011).] размышляет над некоторыми из этих идей в контексте экспериментов, которые он проводил, исследуя перспективы и ограничения, связанные с заменой реальной природы разнообразными технологическими инновациями. Так, в одном из своих исследований ученый сравнивал воздействие, которое на испытуемых оказывали вид сада из окна и этот же самый вид, снятый веб-камерой и показанный на плазменном мониторе (экран висел на месте окна). Как ни удивительно, вид на мониторе никак не помогал участникам ощутить физиологические признаки восстанавливающего эффекта. Однако в другом исследовании, когда точно такие же настенные экраны были развешаны в офисных помещениях без окон, результаты оказались более позитивными. Испытуемые – сотрудники офиса – сообщали, что с удовольствием созерцают пейзажи и чувствуют, что мониторы делают пребывание в офисе более комфортным и положительно влияют на продуктивность.
Сравнительный анализ результатов этих двух экспериментов наводит на мысль, что, когда у нас нет выбора, мы можем найти психологическую поддержку в изображениях природы; но когда нам доступно настоящее окно, его электронный заменитель оказывает на нас весьма незначительное воздействие. Чем это объясняется, точно не известно. Одна из возможных причин в том, что изображениям на современных мониторах недостает некоторых важных качеств. В частности, Кан рассуждает о параллаксе – явлении, состоящем в том, что вид, который открывается за окном, слегка смещается по мере того, как мы сами перемещаемся относительно окна. Такой эффект не достигается, когда мы рассматриваем картинку на мониторе, поэтому нам легко отличить ее от настоящей природы. Не исключено, что сами участники исследования, зная, что изображения, которые им показывают, не реальные, а электронные, занижали ценность и значение этих видов и, соответственно, их психологическая реакция была довольно слабой. В офисных же экспериментах положительное воздействие мониторов проявилось сильнее, возможно, оттого, что испытуемые служащие привыкли существовать в условиях, когда вид из окна объективно невозможен. Они оказались более чувствительны к включению изображения природы, хоть и электронного, в их обычно довольно унылый интерьер.
Наблюдения Питера Кана несколько противоречат моей теории о том, что наша тяга к природе основана, по крайней мере отчасти, на визуальных свойствах пейзажей, а также многочисленным исследованиям, демонстрирующим целительное действие фотографий, видео и даже абстрактных фрактальных рисунков. Но они так или иначе служат нам своего рода предупреждением. К любым предложениям заменять живые природные ландшафты высокотехнологичными имитациями следует подходить с осторожностью. Частично подобные имитации могут производить те же эффекты, что и погружение в реальную природу, – но, вероятно, только в особых обстоятельствах и при отсутствии альтернатив.
Окультуривание внимания
Есть гораздо более глубокий вопрос, касающийся взаимоотношений природы и технологий и не сводящийся к техническим деталям отображающих устройств. Чтобы обозначить его суть, нам придется заглянуть в далекое прошлое и понять, как же мы построили такой мир, в котором жизнь превратилась в ежедневную борьбу, истощающую наши и без того ограниченные когнитивные ресурсы. Если наша естественная среда обитания – та, в которой психика расслабляется, уровень стресса падает, а внимание переключается с предмета на предмет легко и непринужденно, – так хорошо подходила нам, зачем же мы ею пожертвовали? И что получили взамен? Свою книгу о природе и технологиях Питер Кан начинает с рассказа о бушменах пустыни Калахари, ведущих традиционный образ жизни. Эти люди, которые живут в тяжелых климатических условиях и почти ежедневно преодолевают большие расстояния, преследуя дичь и собирая съедобные коренья, не знают, что такое стены или мощеная дорога. В чем же преимущества такой жизни? Основываясь на вполне идиллических воспоминаниях[36 - Воспоминания Элизабет Томас о жизни среди бушменов см. в ее книге The Harmless People (Knopf, New York, 1959).] писательницы Элизабет Томас, дочери антропологов-первопроходцев Лоуренса и Лорны Маршалл, изучавших жизнь бушменов, Кан заключает, что культура этого африканского народа была одной из самых успешных в истории человечества. Бушмены вели «дикую и вольную жизнь», мирно и гармонично сосуществуя со средой, которая давала им все необходимое, чтобы они могли сохранять свой уклад в течение примерно 35 000 лет. Что же изменилось? Попытка дать полный ответ на этот вопрос уведет нас слишком далеко от нашей темы; однако один из факторов – трансформация типа поселений, вызванная изменениями климата и развитием сельского хозяйства. В отличие от маленьких кочевых групп бушменов более оседлые общины, кормившиеся земледелием, вскоре переросли в крупные поселения с инфраструктурой, делавшей кочевой образ жизни непрактичным. В этих многолюдных, привязанных к земле сообществах сложились предпосылки для формирования новых социальных отношений, торговли, политических иерархий, а также нового мышления, которое Льюис Мамфорд в своем всеобъемлющем труде «Город в истории»[37 - Lewis Mumford, The City in History: Its Origins, Its Transformations and Its Prospects (Harcourt, Brace and World, New York, 1961).] назвал «цитадельным». Оно выражалось в том, что люди начали занимать более оборонительную позицию по отношению к дикой природе. На протяжении веков эта позиция укреплялась при помощи стен, крепостных валов, инструментов, оружия – иначе говоря, технологий, – позволявших городу бурно развиваться, формируя культуру, полностью противоположную тому симбиозу с природой, который характеризовал более ранние, кочевые культуры охотников и собирателей вроде бушменской. Таким образом, одной из предпосылок постепенного отдаления человека от природы можно считать развитие крупных городов с их плотной населенностью, конфликтной атмосферой и, что особенно важно, физической инфраструктурой, усугубившей нашу обособленность от среды, в которой существовали древнейшие люди. Однако у данного процесса есть и другие факторы, гораздо более позднего происхождения.
В этом сюжете много отдельных линий, одни из которых имеют отношение к поменявшимся взглядам на устройство мозга, а другие – к индустриализации и автоматизации массового производства. Джонатан Крэри с восхитительной ясностью объединил многие из этих сюжетных линий в своей книге «Тормозы восприятия: Внимание, зрелище и современная культура»[38 - Jonathan Crary, Suspensions of Perception: Attention, Spectacle, and Modern Culture (MIT Press, Cambridge, MA, 2001).]. Он первым описал те важные перемены, которые происходили в мире науки с появлением научной психологии и изменением взглядов на устройство наших органов чувств. Исследователи, занимавшиеся психологией восприятия и физиологией органов чувств, постепенно выясняли, что взаимосвязь между внешним миром и его внутренней, ментальной репрезентацией гораздо более эфемерна, чем было принято считать. Конечно, философы и прежде говорили о различиях между миром ощущений и непознаваемой до конца внешней реальностью; но теперь эта мысль все более подтверждалась точными данными, которые поступали из создававшихся лабораторий по изучению психологии восприятия. Обнаруживались эмпирические факты, которые отодвигали в прошлое когнитивную позицию, иногда определяемую как наивный реализм, – будто мы чувствуем то, что чувствуем, просто потому, что так оно и есть, – и заменяли ее идеей, что воспринимающий есть активный наблюдатель, который конструирует рациональную интерпретацию всего того, что говорят ему его органы чувств. Этот важный сдвиг в понимании роли воспринимающего имел последствия, выходившие далеко за пределы закрытых лабораторий первых психологов. Самое главное, что он означал, – это то, что человеческие существа осознанно создают свой субъективный мир, намеренно сводя факты чувственного восприятия в связную историю. И зачастую мы достигаем этого, фокусируясь на одних аспектах своих ощущений и игнорируя другие, – проще говоря, за счет концентрации внимания.
Параллельно с психологическими исследованиями, коренным образом менявшими представления о том, как мы трактуем явленный в ощущениях мир, шли новые процессы в экономике, в основном связанные с индустриализацией и массовым производством и влекущие за собой принципиально иное отношение к работнику. Рабочий заводского цеха все больше рассматривался как товар – и, соответственно, в товар превращались его мозг, система восприятия и способность использовать эту систему для выполнения рутинных заданий. Иначе говоря, человеческая способность сосредоточивать внимание тоже коммерциализировалась. Томас Эдисон был ошибочно мифологизирован как изобретатель электрической лампочки, однако его истинный гений проявился в осознании жизненно важной связи между устройством человеческого разума и принципами массового производства. Точно так же, как он видел ценность обширной и быстро работающей электросети для крупной промышленности, Эдисон не мог не увидеть и того, что правильный научный подход к самому работнику тоже даст производственные преимущества. Что не менее важно, он признавал роль средств массовой информации в формировании потребительских привычек. Задолго до того, как Маршалл Маклюэн[39 - Маршалл Маклюэн, канадский философ и теоретик коммуникации, произвел революцию в наших представлениях о влиянии средств массовой информации на человека и общество. Наиболее известная из его работ: Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. – М.: Кучково поле, 2007.] произвел революцию в представлениях о власти массмедиа над нашими умами, Эдисон изобрел кинетоскоп – предшественник современного кинематографа. Это его изобретение – наряду с вкладом в разработку других видов коммуникационных технологий, например биржевого телеграфного аппарата, – свидетельствовало о зарождении понимания того, как подача текста и изображения может использоваться для управления осознанным вниманием человека. Одним из первых догадавшись, что, опираясь на подобные технологии, можно завладевать умами, влиять на образ жизни людей и подстегивать их потребительские аппетиты, Эдисон положил начало процессу, масштабы которого последние два столетия растут бешеными темпами.
Сегодня, даже располагая множеством доказательств того, что природа полезна для психики, мы по-прежнему превыше всего ценим свою способность направлять все силы на те виды деятельности, которые способствуют нашей продуктивности. Мы воспринимаем свои живительные вылазки на лоно природы как краткие передышки от «реальной жизни», сосредоточенной на производстве и потреблении. Наша система образования, особенно на начальных ее уровнях, когда умы особенно восприимчивы, почти полностью основана на установке, что главная цель официального образования – сформировать индивидуума, способного смирно сидеть за партой и концентрировать внимание на каком-то одном виде деятельности. Дети, испытывающие с этим сложности, считаются у нас особыми, нездоровыми, зачастую подвергаются медикаментозному лечению, которое изменяет работу их мозга, приучая его к строго сфокусированному избирательному вниманию. Даже сама планировка помещений для занятий в учебных заведениях, от детского сада до университетов, призвана подчеркивать пользу фокального, произвольного, направленного внимания, ресурс которого быстро истощается.
Дисплейные технологии всех видов, от гигантских электронных билбордов, как на Таймс-сквер, до рабочих станций, ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов, представляют собой естественную цепь разработок, призванных привлекать и удерживать то, что стало для человечества самым драгоценным когнитивным ресурсом, – наше с вами внимание. Но еще до появления всяких экранов ровно тем же целям служили такие элементарные архитектурные технологии, как стены. Пряча или открывая определенные элементы окружающего мира, стены точно так же фокусируют и направляют наше внимание.
С этой точки зрения можно рассматривать значительную часть истории современного городского дизайна – начиная с планировки стен, дверей и окон и заканчивая разработкой электронных дисплеев, служащих искусственными окнами в мир, – как систематическое покушение на присущую нам от рождения манеру созерцать мир и пребывать в нем. Естественное состояние нашего внимания – то, к которому мы пытаемся вернуться в краткие моменты отдыха от повседневной гонки, – подменяется постоянно сфокусированным, избирательным вниманием, и, хотя оно помогает нам формировать желания и снабжает средствами их удовлетворения, в конечном итоге истощает нас психически. Технологии, воздействующие на внимание, неумолимо гонят нас все дальше от того образа жизни, который вели дотехнологические общества вроде бушменов Калахари, гармонично встроенные в природную среду. Вместо этого мы превратились в нейробиологические машины, запрограммированные своим окружением на то, чтобы по максимуму производить и потреблять. Поистине, есть некая ирония в том факте, что теперь мы воспринимаем нашу исконную среду обитания, давшую нам жизнь, как временное прибежище, своего рода предохранительный клапан, спасающий нас от когнитивных последствий чрезмерного увлечения потребительством – процессом, суть которого – придумывать для себя все более сложные материальные желания и удовлетворять их.
На фоне этой радикальной трансформации представления о том, что значит быть человеком, самое примечательное – явные свидетельства влияния отголосков далекого прошлого на наши сегодняшние чувства, предпочтения и поведение. И хотя, я полагаю, немного найдется людей (и сам я уж точно не в их числе), готовых сменить комфорт современных городов на экстремальные условия дикой природы, очевидно, что, когда речь идет о выборе окружающей среды, для нас по-прежнему притягательны те самые визуальные и геометрические характеристики, которые увеличивали наши шансы на выживание в среде, покинутой тысячи лет назад. И это пристрастие сказывается почти на всем нашем поведении, начиная с выбора вида из окна или места для прогулки и заканчивая стремлением организовать свою жизнь так, чтобы иметь возможность ощутить и влияние мощных технологий, управляющих вниманием, и восстанавливающее действие природы, реальной или сымитированной. В большей степени, чем любой другой отдельно взятый фактор, тяга к природе обусловливает психогеографическую структуру нашей жизни.
Глава 2
Места любви
Сопереживающие скульптуры
Здесь, в тиши этого небольшого, заросшего папоротниками леса, я ощущал, как мое сердцебиение замедляется, а мышцы расслабляются. Бессвязные мысли, роившиеся в голове после сумасшедшей гонки по оживленной автостраде, улеглись, уступив место чувству умиротворения. Я ушел в глубь себя, где царили тишина и покой. Выражаясь языком ученых, исследующих наши реакции на природную среду, я чувствовал себя так, будто нахожусь вне своей обычной жизни. Время замедлило ход. Мой взгляд теперь легко и безмятежно скользил с места на место; я был зачарован окружающим пейзажем и полностью растворен в нем.
Я тронул ветвь папоротника, подрагивающую прямо перед моими глазами. Она слегка изогнулась, а затем распрямилась, задев меня по руке. И вот тут-то я впервые ощутил странность происходящего. Это был необычный лес. Если я напирал, он давал отпор. Если я отступал, он с любопытством тянулся за мной. Казалось, лес знает о моем присутствии, и я легко мог себе представить, что ему известно кое-что и о моих ощущениях. Радость слияния с окружающим миром постепенно уступала место новому ощущению: нарастала неуверенность, удивление, даже легкая тревога. Я привык, что во время прогулки по лесу меня окружает жизнь во всевозможных ее проявлениях: пение птиц, стрекотание насекомых, трепетание растений на ветру. В этом же лесу происходило нечто иное. Конечно, всегда понятно, что лес как-то реагирует на твое присутствие – птицы и насекомые могут затихнуть, чуя незваного гостя, – но здесь мне казалось, будто я нахожусь в самом центре внимания. Лес реагировал на каждое мое движение осознанно и с явным интересом. Казалось, он знает меня, и поэтому я ощущал себя не в своей тарелке.
А дело в том, что тот небольшой лес, в котором я находился, был полностью искусственным и «произрастал» в одной из комнат красивого старого дома в зеленом пригороде Торонто. Здание одновременно служило мастерской архитектору-футурологу Филипу Бисли, смастерившему эту рощу при помощи 3D-принтера, большого количества простых микропроцессоров и сенсоров и нескольких мотков специального провода высокого напряжения, который растягивается и сжимается под воздействием электрического тока. Сплетения нежных филигранных акриловых листочков, которые я видел в «лесу», являлись уменьшенной копией тех, что Бисли использовал в более крупных инсталляциях, созданных им для нескольких международных выставок. На одной из них – Венецианской биеннале-2010 – сотни тысяч посетителей имели возможность побродить по нескольким гигантским искусственным лесам «Гилозойная почва» (Hylozoic Soil) и испытать такие же странные чувства, какие охватили меня в мастерской архитектора. Воздействие, которое работы Бисли оказывают на людей, поистине сенсационно. Вызывая у зрителей ощущение близости и тесной связи с природой, он, по его словам, стремится пробудить в людях любовь и сочувствие и переместить их в «…пространство, где стираются границы между "кто я" и "что я", различия между мной, животным и камнем»[40 - Цитирую Бисли по интервью, которое он дал Фрэн Шехтер из журнала NOW (2010, доступно по ссылке: https://nowtoronto.com/art-and-books/features/art-as-organism/ (https://nowtoronto.com/art-and-books/features/art-as-organism/)).].
Моя первая встреча с Бисли произошла за несколько лет до визита в его мастерскую. Я был занят в одном исследовательском проекте, посвященном применению новых технологий в оценке эмоций и поведения пациентов районных поликлиник. Зная, что архитектурная мастерская Бисли разрабатывала дизайн нескольких подобных клиник, и по настоянию другого архитектора, члена нашей команды, я спросил у Бисли, не хочет ли он принять участие в проекте. Помню наше первое совещание – вместе с несколькими специалистами я сидел в конференц-зале, готовясь к обсуждению стратегии. Опоздавший Бисли ворвался в комнату с улыбкой до ушей – он излучал заразительную энергию и энтузиазм, но казался слегка не в себе, как человек, у которого происходит слишком много всего сразу. Поскольку большинство из нас не знали друг друга, я предложил, чтобы для начала каждый представился. Все, кроме Бисли, выдали привычный, шаблонный рассказ, поведав о своей сфере деятельности, квалификации и функциях, которые они могли бы выполнять в проекте. Филип же, когда пришла его очередь, сразу предупредил, что, возможно, он не тот, кто нам нужен. Дальше он сообщил, что главный интерес для него в данный момент представляет создание особого рода скульптур – притягивающих и одновременно отталкивающих произведений на грани между жизнью и небытием. Зрителей эти странные создания должны будут завлечь в свои сети и в конечном итоге переварить. На несколько секунд в конференц-зале воцарилась тишина, необычная для встречи «говорящих голов», – уже тогда у нас возникло легкое подозрение, что этот парень не даст нам спокойно ковыряться в наших скучных идеях о том, как может или должно выглядеть здание. Похоже было, что Бисли живет в другой вселенной и видит какой-то иной мир – ушедший далеко в будущее и в то же время сохранивший прочные связи с древним прошлым.
Беглое знакомство с биографией Бисли позволяет частично понять, как архитектор, окончивший Университет Торонто в середине 1980-х, отказался от стандартной для людей его профессии деятельности – проектирования жилых домов, студенческих центров, поликлиник и ресторанов – в пользу совсем других вещей. В список новых интересов Бисли входили, по его словам, «эмоция, романтизм и спиритуализм XXI века как разные грани модернизма; несхожесть и диссоциация; хтонические и расширенные определения пространства; архаичное»[41 - Биография Филипа Бисли доступна по ссылке: http://philipbeesleyarchitect.com/about/14K24_PB_CV.pdf (http://philipbeesleyarchitect.com/about/14K24_PB_CV.pdf).].
Как рассказывает архитектор, поворотным моментом в его жизни стал проект, который ему удалось реализовать в 1995–1996 гг. благодаря престижной Римской премии по архитектуре. Работая вместе с археологом Николой Терренато на раскопках Палатинского холма – древнейшей части Рима, Бисли должен был попытаться пролить свет на обстоятельства погребения младенца в основании городской стены, окружавшей первоначальное ядро города. Это жертвенное захоронение VIII века до н. э. возле ворот Мугония, одного из трех предполагаемых въездов в древний город, – след обычного для тех времен ритуала: первые жители города приносили в жертву своих детей, обозначая тем самым границу между городской территорией и внешним миром дикой природы. Опыт, который Бисли получил, тщательно исследуя детскую могилку и размышляя о ее значении, стал для него судьбоносным. С тех пор он посвятил жизнь исследованию границ между бытием и небытием, ловле жизненных начал сетями рукотворных конструкций. Это привело его к геотканям – материалам, используемым в сельском хозяйстве и существующим в симбиозе с почвой. Так возникла «Гилозойная почва» – материя не живая и не мертвая, реагирующая на живых существ и способная к имитации самых интимных проявлений человечности: сочувствия и заботы.
Творчество Бисли – это постоянный полет фантазии, подкрепляемый тщательной исследовательской работой, глубокими размышлениями и талантом соединять, казалось бы, совершенно не связанные друг с другом сферы и смыслы (в числе его недавних проектов – разработка дизайна одежды совместно с Айрис ван Херпен, создающей наряды для Леди Гага). Эти способности проявляются в нем на полную мощь не только в творчестве, но и в повседневном общении. Его речь, жесты, мимика действуют заразительно, вовлекая в азартную погоню за свежими идеями, теоретическими и практическими. Когда Бисли приехал посмотреть мою лабораторию виртуальной реальности, я поместил его в имитационную модель жилого дома – мое весьма скромное творение, которым я, впрочем, гордился. Все остальные, кого я знакомил с этой работой, при «погружении» спокойно стояли на месте, оглядывались по сторонам, делали несколько осторожных шагов к объектам, иногда прикасались к ним, задавали пару-тройку вопросов. Бисли же с энтузиазмом нырнул в «дом» и принялся испытывать модель на прочность изнутри. Вскоре – к немалому беспокойству студентов, контролирующих всю аппаратуру и электрику, – он уже скакал с места на место, ползал по полу, изучая объекты снизу, ложился на спину, разглядывая потолки, – словом, постигал мое произведение со счастливым, детским любопытством, пока люди вокруг него суетились, пытаясь уследить за проводами и удержать на месте компьютеры.
Работы самого Бисли одновременно трогают за душу и подстегивают мысль, но кажутся далекими от насущных задач, связанных с проектированием таких зданий, как школы, банки, офисы и жилые дома. Подобно нарядам от-кутюр, которые демонстрируют модели, дефилируя по подиуму, и в которых большинство из нас и на спор не вышло бы из дома, интерактивные скульптуры Бисли – своеобразные сигналы из будущего, примеры того, что готовит нам дизайн в завтрашнем высокотехнологичном мире. Это, собственно, одна из главных тем моей книги. «Гилозойная почва» наглядно и убедительно показывает, до какой степени могут развиваться двусторонние эмоциональные связи между вещью и человеком. В коктейле смешанных чувств, вызванных прогулкой среди эмпатических скульптур Бисли, есть пара капель той драгоценной эмоции, которую мы называем «любовью» и чтим превыше всех других своих состояний.
Всюду жизнь
Ни об одном другом человеческом чувстве или состоянии не написано столько слов, сколько о любви; с античных времен люди ищут определения этому слову. Ученые собирают данные, берут образцы крови, измеряют мозговые волны – все в попытке свести к цифрам суть того, что мы называем любовью. Однако большинство этих исследований так или иначе сосредоточены на межличностной любви – той, что побуждает нас вступать в длительные моногамные отношения, рожать детей, покупать микроавтобусы и брать ипотечные кредиты. Любовь к неодушевленным объектам также свойственна человеку; но когда мы говорим: «Я люблю это платье», то, как правило, – если речь не идет о такой сексуальной девиации, как фетишизм, – подразумеваем нечто совсем иное, чем когда объясняемся в любви своему романтическому партнеру. Однако есть и те, кто строит романтические отношения со зданиями и сооружениями. Так, гражданка Швеции Эйя-Рита Эклоф влюбилась в Берлинскую стену (когда та еще была цела) и в 1979 г. даже специально съездила в Берлин, чтобы связать себя со стеной своего рода брачными узами. После свадебной церемонии она взяла фамилию Эклоф-Берлинер-Мауэр[3 - От нем. Berliner Mauer, Берлинская стена. – Прим. пер.]. Американка Эрика Эйфель (урожденная Лабри) прославилась тем, что в 2007-м вступила в брак с Эйфелевой башней, чьи плавные изогнутые линии покорили ее сердце. Еще одна американка, Эми Уолф, вышла замуж за аттракцион в пенсильванском парке развлечений. Конечно, ничего не стоит отмахнуться от таких людей, называющих себя объектосексуалами, и объявить их «просто психами», однако признаемся честно: большинство из нас когда-либо испытывали особую тягу к определенным предметам, формам, краскам и т. п. По причинам, необъяснимым для меня самого, я в свое время был очень сильно привязан к красивому консервному ножу красного цвета, который мне подарили в ознаменование переезда в первое собственное жилье. Я даже не осознавал, насколько дорога мне эта кухонная принадлежность, до тех пор пока коррозия не унесла ее жизнь. С тех пор вкус консервированной фасоли никогда уже не был прежним.
Притягательность плавных изгибов Mazda Miata возникает не на пустом месте. Наши инстинктивные реакции на геометрию спортивного автомобиля записаны в глубинах нашей нервной системы. Исследования не только показали, что мы предпочитаем изгибы острым углам (причем даже в младенчестве, задолго до того, как на опыте узнаем об опасностях остроконечных предметов вроде ножей или ножниц), но и выявили связь этого предпочтения со свойствами нейронов в отвечающих за распознавание объектов участках нашей зрительной коры. Вкратце, среди наших корковых клеток гораздо больше тех, что приспособлены для анализа нюансов криволинейной поверхности, чем тех, что анализируют поверхность остроугольную. Эти клетки – часть высокоскоростной нейронной системы обработки данных, которая отвечает за формирование первых впечатлений и оценку опасностей. Даже наши первые впечатления от незнакомцев отчасти основаны на анализе простых параметров лица, связанных с формой. Сами того не осознавая, мы формируем симпатию или антипатию к определенным типам лиц менее чем за 39 миллисекунд начиная с того момента, как увидели их. Это примерно 20-я часть времени, необходимого в среднем человеческому сердцу для одного удара[42 - Описание одного из ранних и наиболее авторитетных исследований быстрого распознавания зрительных объектов см. в публикации Мэри Поттер Recognition Memory for a Rapid Sequence of Pictures (Journal of Experimental Psychology, 1969, Т. 81, р. 10–15).].
Однако механизмы, обусловливающие воздействие кинетических скульптур Бисли, вовсе не сводятся к простой взаимосвязи форм и эмоций. Конечно, эти произведения имеют определенное сходство с настоящим лесом, обладая набором черт, которые, по мнению психологов-энвайронменталистов, оказывают благотворное и даже целительное воздействие на психику. Тем не менее то ключевое, на чем строится эмоциональная связь наблюдателя с объектом, имеет отношение не столько к геометрии, сколько к движению и интерактивности.
В 1944 г. психолог, занимающийся проблемами восприятия, Фриц Хайдер из Колледжа Смит (штат Массачусетс, США) и его студентка Марианна Зиммель опубликовали исследование, которое показывает, что люди склонны приписывать свойства человеческого сознания, в том числе интенциональность – понимание цели, простым геометрическим фигурам. Участникам этих экспериментов демонстрировали короткий анимационный фильм, в котором пара треугольников и кружок перемещались по экрану. Когда испытуемых просили описать происходящее на экране, они наделяли объекты интеллектом и эмоциями. Так, кое-кто охарактеризовал один из треугольников как «агрессивного задиру»; многие допускали возможность любовного треугольника между фигурами. На основе этих широко известных экспериментов началась разработка такого понятия, как «модель психического состояния». Оно подразумевает, что мы склонны объяснять поведение любых объектов чисто человеческими мотивами. Более недавние исследования наводят на мысль, что способность применять модель психического состояния для объяснения простых явлений начинает развиваться с очень раннего возраста. Эффекты, описанные Хайдером и Зиммель, наблюдаются даже у младенцев[43 - Исследование Фрица Хайдера и Марианны Зиммель было опубликовано в 1944 г. См. статью An Experimental Study of Apparent Behavior (American Journal of Psychology, Т. 57, р. 243–259). Описанное мной видео легко найти в Интернете, например по этой ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=76p64j3H1Ng (https://www.youtube.com/watch?v=76p64j3H1Ng).].
В результате похожих экспериментов бельгийский психолог Альбер Мишотт в 1947 г. обнаружил феномен, которому дал название «эффект запуска». В экспериментах Мишотта испытуемым также показывали фильм, но сюжет его был еще проще, чем у Хайдера и Зиммель: на экране красная точка двигалась в сторону зеленой. Когда красная точка касалась с зеленой, последняя тоже сдвигалась с места. Затем испытуемых просили описать увиденное, и оказывалось, что они не могут этого сделать, не прибегая к причинно-следственной связи. Им представлялось, что это красная точка каким-то образом привела в движение зеленую. Дальнейшие исследования не только подтвердили, что эффект запуска прочно укоренен в нашей психике, но и показали, что мы в принципе не способны воспринимать эту простую движущуюся картинку, не усматривая в ней каузальной связи между событиями, хотя демонстрируемое на экране – не более чем движение пары точек. И так же, как это было с наблюдениями Хайдера, обнаруженное Мишоттом явление перцептивной каузальности было зафиксировано даже у совсем маленьких детей[44 - Об исследовании Альбера Мишотта, посвященном каузальности, рассказывается в его блестящей книге The Perception of Causality (Methuen, Andover, MA, 1962).].
Результаты экспериментов Мишотта и Хайдера позволяют предположить, что люди от природы запрограммированы воспринимать простые движущиеся объекты как разумные существа, способные испытывать сложные эмоции, в частности любовь и ревность. Налицо противоречие интуитивному (и неверному) представлению, будто, наблюдая ту или иную сцену, мы первым делом стараемся идентифицировать и классифицировать все видимые объекты и лишь затем начинаем соображать, что же там, собственно, происходит. На самом же деле даже наше первое, мгновенное, впечатление от сцены, формируемое менее чем за один удар сердца, включает в себя такие автоматические выводы о мыслях, чувствах и намерениях объектов. С точки зрения эволюционного отбора, под воздействием которого развивалась наша нервная система, нетрудно понять, почему так устроено. В своих попытках постичь окружающий мир человеческий мозг сталкивается с огромной проблемой: вокруг слишком много информации, чтобы можно было позволить себе тщательно анализировать все доступные элементы среднестатистической сцены. Но это еще полбеды. Главная сложность в том, что наш мозг как биологический компьютер или «машина из плоти», как его еще называют, чрезвычайно медленно обрабатывает данные. По сравнению с искусственными вычислительными устройствами – даже такими относительно простыми, как те, что предохраняют наши автомобили от поломок или заставляют айподы проигрывать музыку, – мозг работает на мучительно низких скоростях. Чтобы компенсировать свою нерасторопность и обеспечивать своевременные реакции, позволяющие нам уворачиваться от приближающихся хищников (будь то саблезубые тигры или несущиеся на бешеной скорости автомобили), мозг использует целый арсенал различных приемов и хитростей. Например, он способен предугадывать, что может означать та или иная сцена, исходя из того, что обычно означают похожие сцены. Отчасти такое прогнозирование – навык, усвояемый на основе предыдущего опыта; но обучение – процесс зачастую медленный и трудоемкий. К тому же многие типы ситуаций и вовсе не подразумевают наличия еще одного шанса: там, где речь идет об отражении непосредственных угроз, мы просто не можем позволить себе такую роскошь, как отрицательный опыт. Поэтому во многих случаях предположения, которые делает наш мозг, запрограммированы от природы и носят настолько автоматический характер, что мы не сможем их игнорировать, даже если захотим. Вот почему мы видим движущиеся треугольники Хайдера как двух соперников, сражающихся за сердце дамы, а цветные кружочки Мишотта – как пару бильярдных шаров, толкающих друг друга, – хотя и понимаем, что на самом деле все это лишь простые геометрические фигуры на экране.
Итак, вернемся к Бисли и его скульптурам из «Гилозойной почвы». Теперь нам будет немного легче понять те смешанные чувства, которые испытывает посетитель при виде колышущегося моря акриловых папоротников. Волшебство, которое здесь происходит, связано не столько со способностью папоротников проникать в глубь нашей лимбической системы, сколько с тем фактом, что они воздействуют на механизм, помогающий нам с молниеносной быстротой распознавать ситуации реальной жизни. Этот же самый механизм может помочь объяснить особенности таких отклонений, как объектосексуальность или даже патологическое накопительство – расстройство, при котором человек может испытывать глубокую эмоциональную привязанность к самым обыденным предметам домашнего обихода. Одна женщина, страдавшая патологическим накопительством, рассказывала о том, что она пережила, пытаясь избавиться от нескольких пустых пластиковых контейнеров. Она отнесла их на помойку, предварительно тщательно вымыв под краном, и вскоре ее стали одолевать мысли о том, как этим контейнерам, влажным после недавнего мытья, должно быть сейчас сыро и неуютно в мусорном ящике. Лишь вернувшись за ними, освободив их от крышек и тщательно высушив, она смогла наконец успокоиться[45 - Историю о пациентке, страдающей силлогоманией, и мокрых контейнерах я услышал в 2012 г. в Торонто на семинаре широко известного психолога Дэвида Толина. Его книга, написанная в соавторстве с Рэнди Фростом и Гейл Стикти, называется Buried in Treasures (Oxford University Press, London, 2007) и представляет собой интересный обзор на тему патологического накопительства.]. Такие причудливые паттерны мышления – возможно, лишь утрированная версия универсальной человеческой склонности к анимистическим верованиям, которые порождаются мозгом, запрограммированным выносить суждения и принимать решения с молниеносной быстротой. В этой же склонности к анимизму, заложенной на нейронном уровне, вероятно, кроется ключ к пониманию древних обычаев вроде принесения живого человеческого существа в жертву свежей земле нового города – того самого ритуала, изучением которого занимался Бисли.
Тепло наших жилищ
Если, как демонстрируют опыты Бисли, мы так легко устанавливаем сильную эмоциональную связь даже со скульптурами, что же тогда происходит с нами в наших домах? Ведь нет пространства более интимного, чем то, куда мы возвращаемся после тяжелого трудового дня в расчете на отдых, поддержку и защиту.
Идея, будто наши дома способны чувствовать, нашла богатое отражение в мировой литературе – причем по большей части в историях с несчастливым концом. В леденящем кровь рассказе Эдгара По «Падение дома Ашеров» автор с самого начала ясно дает нам понять, что место действия, мрачный готический особняк, – в то же время и один из главных героев. Рассказчик, описывая свои первые впечатления от дома Ашеров, отмечает гнетущее, тягостное чувство, которое сразу же вызвали у него «угрюмые стены» и «холодно, безучастно глядящие окна» и которое в дальнейшем будет лишь усиливаться[46 - Короткий рассказ Эдгара Аллана По «Падение дома Ашеров» нетрудно найти в Интернете или бумажном издании.]. Точно так же, как Филип Бисли ставил своей целью создать «общее пространство», где стираются границы между наблюдателем и средой, так и Эдгар По выстраивает зловещую динамику, в которой персонажи и место действия подпитывают друг друга, вместе двигаясь к неотвратимому и страшному финалу. Те же темы – правда, уже с изрядной долей кровавого натурализма – обыгрываются сегодня в популярном телесериале «Американская история ужасов» (American Horror Story).
В реальной жизни, впрочем, наши жилища традиционно ассоциируются не со страшилками, а, наоборот, исключительно с позитивными ценностями. Это наше частное, интимное пространство, где должны царить уют и гармония. Данная идея с наглядной и изящной простотой воплощена, например, в архитектуре традиционных жилищ западноафриканского государства Мали, где планировка дома явно напоминает форму женской фигуры, так что центральное жилое пространство расположено в буквальном смысле в матке[47 - Много красивых фотографий, посвященных малийской глиняной архитектуре, в том числе традиционным жилищам, можно увидеть на сайте Atlas Obscura по ссылке: http://www.atlasobscura.com/articles/mud-masons-of-mali (http://www.atlasobscura.com/articles/mud-masons-of-mali).].
Устройство современных западных домов – по сложным причинам скорее экономического, чем психологического характера – давно отошло от традиционных форм народной архитектуры: ситуация, при которой люди были вольны сами создавать себе жилища, используя любые местные материалы, найденные под рукой, осталась в далеком прошлом. Тем не менее мы по-прежнему можем выделить многие факторы, обусловливающие влияние жилых помещений на наше поведение дома и – что особенно важно – на наши взаимоотношения с домашними. Теоретик архитектуры Витольд Рыбчинский в своем бестселлере «Дом: Краткая история идеи» описывает эволюцию жилища: от простой постройки в одну комнату с передвижной мебелью и фактическим отсутствием приватности до богатой помещичьей усадьбы. По мнению Рыбчинского, этот прогресс неразрывно связан с постепенным осознанием нами важности комфорта – понятия, просто-напросто не применявшегося к ранним формам жилья[48 - Увлекательная книга Витольда Рыбчинского Home: A Short History of an Idea (Viking, New York, 1986) содержит много ценных мыслей и наблюдений, связанных с архитектурой жилых пространств.]. Другие исследователи более отчетливо описывают некоторые взаимосвязи между устройством жилых помещений и различными аспектами нашей частной и социальной жизни. Так, появление отдельных спальных комнат для супружеских пар стало важной вехой в эволюции наших взглядов на сексуальность и приватность. Причем это был двусторонний процесс: с одной стороны, потребность супругов в интимной жизни создавала запрос на выделение индивидуальных спален; с другой – само по себе наличие таких спален популяризировало преимущества половой жизни за закрытыми дверями и меняло представления об отношениях между родителями и детьми. Подобным же образом выделение специальных помещений под кухню означало формирование частной территории у члена семьи, ответственного за приготовление пищи, и укрепляло идею распределения домашних ролей между мужем, женой и ребенком. Социолог Питер Уорд в своей книге «История жилых помещений» пошел еще дальше и предположил, что более сложная организация западного жилища с его обилием личного пространства, разделением территорий и индивидуальными комнатами внесла свой вклад в развитие западной тенденции ставить личность выше группы[49 - Книга Питера Уорда A History of Domestic Spaces (UBC Press, Vancouver, 1999) посвящена истории Канады, но многие из наблюдений автора можно применить ко всей Северной Америке.]. Возможность строить свою жизнь отдельно от других людей, в том числе и от членов собственной семьи, мотивировала нас высоко ценить нашу независимость и автономию. Нет числа путям, явным и скрытым, которыми меняющееся устройство домов способствовало формированию у нас новых паттернов поведения и представлений о своем месте в мире. Немецкий архитектор Герман Мутезиус, работавший на рубеже XIX–XX веков дипломатом в посольстве Германии в Лондоне и написавший «Английский дом» (Das Englisch Haus) – монументальный трехтомный труд по истории жилищной архитектуры Англии, – делает еще один интересный вывод. По его мнению, в тот период именно особенности жилищ позволили Великобритании экономически развиваться успешнее, чем Германия. Планировка английского дома, как это виделось Мутезиусу, подразумевала комфортное и естественное разделение интимных пространств и более публичных зон, предназначенных для приема гостей. Немецкие же дома, наоборот, были устроены таким образом, что гости, вынужденные переходить из одной убранной напоказ комнаты в другую, чувствовали себя как на помпезном шоу в Лас-Вегасе, где каждая сцена должна быть эффектнее предыдущей[50 - Великолепный трехтомник Германа Мутезиуса вышел в 1902 г. на немецком, а в 2006-м был наконец переведен на английский и издан в красивой подарочной обложке: Hermann Muthesius. The English House (Frances Lincoln, London, 2006).].
Эксперименты с виртуальными домами
Если правда то, что внешний вид и планировка жилищ влияет на наши эмоции и что подходящий дом способен вызвать чувство любви, то должна быть возможность оценить эти процессы с научной точки зрения. До недавнего времени подходящих инструментов для такого рода измерений просто не существовало. На протяжении большей части прошлого века психологические эксперименты, как правило, проводились в лабораториях со строгими интерьерами. Испытуемые неподвижно сидели перед исследователем, а тот задавал им вопросы или время от времени тыкал в них научными приборами, измеряя мышечный тонус, частоту сердечных сокращений, движения глаз и иногда мозговые волны. Теперь, с изобретением гораздо более сложных технологий, способных следить за человеком в движении, нам стали доступны более тонкие методы измерения реакций на пространство.
Наиболее действенные из этих методов основаны на технологиях иммерсивной виртуальной реальности. Они подразумевают, что участнику эксперимента показывают виды различных мест, которые могут проецироваться либо на небольшой экран шлема виртуальной реальности, либо прямо на стены комнаты. Истинная магия таких технологий в том, что картина на экране обновляется по мере перемещений испытуемого. Высокочувствительные датчики измеряют каждое движение его глаз, головы и тела, и изображение меняется синхронно с этими движениями. C развитием этой технологии стало возможно помещать наблюдателя прямо внутрь компьютерной модели таким образом, что он видит эту модель во всем ее трехмерном великолепии и ощущает, будто полностью переместился в альтернативную реальность. И хотя при этом испытуемые, как правило, не теряют связи с реальным миром и понимают, что находятся в имитируемом пространстве, они все равно начинают во многом вести себя в соответствии с условиями виртуального окружения. Например, человек, страдающий акрофобией, или боязнью высоты, испытывает заметное беспокойство на открытой платформе виртуального подъемника. Подобные высокоэффективные методы визуализации постепенно начинают входить в арсенал самых прогрессивных архитекторов, которые, приступая к строительству реального здания, могут сначала быстро «сваять» из пикселей его копию, показать ее клиентам и выявить ошибки. Берут эту технологию на вооружение и ученые, исследующие взаимодействие человека с пространством: психологам-энвайронменталистам она помогает изучать наши реакции на то или иное место пребывания. Вероятно, уже скоро методы виртуальной реальности будут применяться значительно активнее, так как стоимость хорошей моделирующей системы за последние годы резко упала.
Мы в моей лаборатории в Университете Уотерлу, Канада, тоже решили воспользоваться преимуществами этой технологии, чтобы исследовать реакцию людей на жилые пространства. Мы сконструировали компьютерные модели трех домов, воплощавших разные дизайнерские решения. Первый – дом Джейкобса – был построен Фрэнком Ллойдом Райтом в 1937 г. Его скромные размеры, простая планировка в виде буквы L, интерьер, отделанный теплыми природными материалами и максимально свободный от лишних украшений и безделушек, – все это отражает убеждение Райта, что дом должен подчеркивать личную свободу и независимость живущих в нем людей. Второй нашей моделью был дом, спроектированный Сарой Сузанкой, выдающимся американским архитектором и автором широко известной серии книг «Меньше, но лучше», популяризирующих идею, что в дизайне дома главное не габариты, а комфорт и функциональность[51 - Книжная серия Сары Сузанки Not So Big значительно повлияла на тенденции развития жилищной архитектуры, выдвинув на первый план функциональность дома, а не его размеры. Первая и наиболее актуальная в свете нашей дискуссии книга этой серии: Sarah Susanka, Kira Obolensky, Susanka Studios. The Not So Big House: A Blueprint for the Way We Really Live (Taunton Press, Newton CT, 2009).]. Третьим был вполне стандартный дом, типичный для современной массовой застройки североамериканских пригородов. Участникам эксперимента, снаряженным шлемами виртуальной реальности, предлагалось представить, что они хотят купить дом и выбирают между этими тремя моделями. Они могли абсолютно свободно перемещаться по комнатам; при этом все их движения тщательно отслеживались, а интервьюер задавал им ряд вопросов в процессе осмотра каждого из домов. Нас интересовали не только впечатления людей от домов; нам было также важно зафиксировать в деталях, куда они заходят и на что обращают внимание при передвижении по виртуальным пространствам. Еще в процессе эксперимента нам стало очевидно: испытуемые вскоре забывают, что имеют дело с компьютерной моделью, и начинают вести себя так, будто находятся в реальном здании. Так, одна из участниц отметила, что, проходя мимо длинного ряда панорамных окон в доме Джейкобса, она чувствовала тепло солнечных лучей на своих руках, – и это притом, что «солнце» в нашей модели было тоже абсолютной имитацией и никакого тепла выделять не могло. Другие участники аккуратно заглядывали под воображаемые кухонные шкафчики, пытаясь разглядеть нюансы дизайна. Когда мы просили испытуемых указать наиболее понравившиеся им места в каждом из домов, большинство тяготело к самым широким открытым пространствам в центре жилой зоны, объясняя это тем, что им нравится находиться там, откуда можно видеть происходящее вокруг. Когда мы спрашивали их, где бы они хранили семейную реликвию, одни выбирали для этих целей видное место в самом нарядном помещении, другие же стремились спрятать фамильную ценность от любопытных глаз где-нибудь в потайном уголке дальней спальни. Следя за перемещениями участников эксперимента по каждому из домов, мы с удивлением обнаружили, что в определенные комнаты вообще никто не заходил. Наиболее показательной в этом плане была большая гостиная в типовом пригородном доме: в комнату лишь заглядывали, но никто не исследовал ее изнутри. При этом, как ни странно, многие участники говорили нам, что гостиная им нравится, – но, очевидно, не настолько, чтобы они хотели там находиться! Вероятно, это наблюдение отражает жалобы многих владельцев подобных домов на то, что публичные пространства используются недостаточно и лишь крадут ценные площади на первых этажах.
Но вот что было особенно удивительно: опросив участников и узнав, какой из трех домов они бы, скорее всего, приобрели, мы отметили сильную тенденцию к выбору типового дома – и это притом, что большинству вовсе не он показался наиболее симпатичным! Одни восхищались творением Сузанки – плодом креативного подхода архитектора к использованию пространства, практичностью здания и имеющимися в нем возможностями для уединения и социализации. Другие хвалили обилие природных материалов в отделке дома Джейкобса, а также его уникальное, неформальное и дружелюбное жилое пространство, сосредоточенное вокруг большого кирпичного камина. Однако мало кто сказал, что купил бы какой-то из этих домов.
Самая вероятная причина несоответствия между тем, на что человек обращает внимание и как себя чувствует в каком-либо здании, и тем, какой дом он хотел бы иметь в реальной жизни, кроется в его прошлом опыте. Как признавались участники нашего эксперимента, хотя они и находили дизайнерские дома интересными и привлекательными, их все равно тянуло к наиболее распространенному на рынке типу жилья. Так что в известной степени это досадное противоречие можно объяснить недостатком воображения у испытуемых. Мы хотим то, что хотим, потому что это все, на что, как нам кажется, мы можем рассчитывать. Однако, проанализировав цифры, я задался вопросом, могут ли здесь иметь место какие-то более глубинные факторы. Как наша история проживания в различных домах и комнатах, произошедшие там события и связанные с этим воспоминания влияют на наше восприятие жилых помещений? Влюбляясь в конкретный дом, во что именно мы влюбляемся? Возможно, дело здесь не только в формах и текстурах, что мы видим, впервые входя в это здание.
Агенты по продаже недвижимости любят говорить клиентам, что, как только те найдут дом своей мечты, тотчас это почувствуют. По-видимому, это утверждение основано на опыте общения со многими покупателями домов. И каким бы искусственным ни был наш эксперимент с виртуальной реальностью, надо сказать, что мы тоже наблюдали определенные отголоски такого рода реакции у некоторых наших испытуемых, – особенно когда они знакомились с моделью дома Сузанки. Возникало немедленное и осязаемое чувство контакта с пространством. Участники замедляли шаг и внимательнее оглядывались по сторонам, неспешно смакуя каждую деталь. И мы знали, что они испытывают, просто по их комментариям и движениям, еще до анализа собранных в ходе эксперимента данных. Так что же с ними происходило? Откуда берется это головокружительное чувство влюбленности с первого взгляда, возникающее сразу, как только мы переступаем порог дома?
Французский философ и поэт Гастон Башляр подробно излагает феноменологию жилого пространства в своей знаменитой книге «Поэтика пространства». Он описывает, как опыт, пережитый в наших первых домах, может влиять на всю оставшуюся жизнь. Башляр говорит, что дом – это в первую очередь своего рода вместилище наших грез. Именно в самом первом нашем доме у нас формируются алгоритмы мышления и запоминания, и нам никогда уже не удастся разорвать связь между этим ранним опытом и любыми последующими действиями. Он пишет:
«…Но если мы после многолетних скитаний вернемся в старый дом, то с удивлением обнаружим, что наши самые незначительные, самые примитивные привычки вдруг ожили и остались в точности такими, как раньше. В общем, родной дом встроил в нас иерархию различных функций, связанных с обитанием в нем. Мы – диаграмма функций, связанных с обитанием в этом конкретном доме, и все прочие дома – лишь вариации на основную тему»[52 - Английский перевод цитируется по изданию: Gaston Bachelard, The Poetics of Space (Beacon Press, Boston, 1994). Русский перевод см. в книге: Башляр Г. Поэтика пространства. – М.: Ад Маргинем, 2014.].
Эта бессознательная связь наших ранних жилищ и нынешних обстоятельств жизни, вероятно, свойственна всем. С античных времен нам известно, что существует особая взаимозависимость между нашим жизненным опытом и воспоминаниями и теми местами, с которыми они связаны. Один из старейших мнемонических приемов, «метод мест», описанный Цицероном в его диалоге «Об ораторе»[53 - Цицерон описал свой так называемый метод мест в диалоге «Об ораторе» (De Oratore). См.: Марк Туллий Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. – М.: Наука, 1972.] в 55 г. до н. э., представляет собой четкую стратегию эффективного запоминания фактов посредством их привязки к определенным местам в пространстве. Сегодня эффективность этого метода подтверждается результатами тысяч экспериментов в области психологии и нейробиологии.
Например, Гэбриэл Радвански, психолог из Университета Нотр-Дам в Индиане (США), открыл поразительную взаимосвязь между нашей памятью об объектах и обстоятельствами, в которых они нам встретились. Радвански и его команда провели серию простых экспериментов: испытуемым предлагалось переносить предметы из комнаты в комнату, причем в каждой следующей комнате они должны были оставлять часть вещей и брать несколько новых. Ученый пришел к выводу, что каждое прохождение через дверной проем служит своего рода «горизонтом событий», после которого нам труднее вспомнить, какие предметы мы оставили в предыдущей комнате. Последующие контрольные опыты показали, что дело здесь не в давности воспоминания и не в самом факте перехода с место на место. Например, передвижение по сложному маршруту в пределах одной большой комнаты не сопровождалось ухудшением памяти. Загвоздка была явно в дверных проемах. Причем ровно тот же эффект наблюдался и в виртуальном варианте эксперимента, когда испытуемые должны были перемещаться с помощью мышки по уменьшенным трехмерным изображениям комнат на экране компьютера[54 - Эти эксперименты Гэбриэла Радвански описаны в статье Радвански и его коллег: Gabriel A. Radvansky, Sabine A. Krawietz, and Andrea K. Tamplin. Walking Through Doorways Causes Forgetting: Further Explorations (The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 2011, Т. 64, р. 1632–1645).]
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: