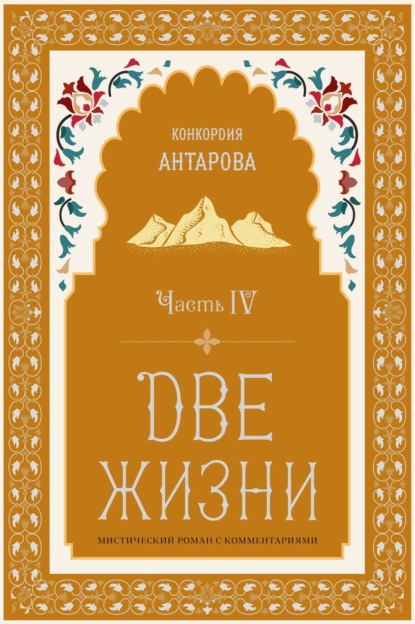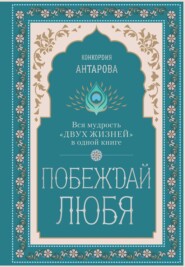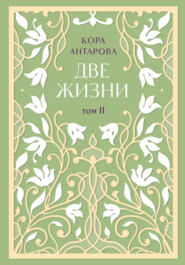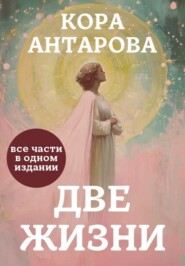По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Две жизни. Часть 4
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мать и сын очень настойчиво протестовали, уверяя, что ужин уже на столе, что у них в Общине не в обычае уходить от накрытого стола, что это считается даже невежливым. Но я ещё раз ответил, что не могу превысить данных мне полномочий. С большим трудом, употребив всю свою настойчивость, я вырвался из дома чрезмерно гостеприимных хозяев.
Когда я прощался с сёстрами у их балкона, Роланда задержала мою руку в своей.
– Это я всему виною. Они все – добрые люди, но их легкомыслие ни с чем не сравнимо, разве что с их любовью к праздности. Мне надо было заранее предупредить их, тогда вам не пришлось бы наблюдать всей этой тягостной сцены. Впредь я постараюсь подготавливать людей к встрече с вами.
– Я очень рад, что мне пришлось повстречаться с людьми, не ждавшими известия. Теперь мне ясно, как много надо нести в себе мира и радости, чтобы успешно выполнить данное мне поручение. Не стремитесь оправдывать Деметро. Моё сердце уже его оправдало. Дело не в Деметро или ком-нибудь другом, но во мне – насколько я найду в себе такт и обаяние, чтобы выполнить, а не испортить порученное мне дело.
Мы расстались с сёстрами, пожелав им спокойной ночи, которая уже спускалась. Над нами светило яркое от многочисленных и крупных звёзд небо, изредка встречались возвращавшиеся по домам люди. Мы молча проходили дорожку за дорожкой. Вдруг Вячеслав остановился.
– Брат, я не знаю, как живут люди в далёком мире. Поэтому прости мне, если я совершаю бестактность, нарушая сейчас твоё молчание. Но Раданда не раз говаривал мне: «Если ты видишь, что встреча людей не началась и не кончилась в радости, постарайся хотя бы одному из участников такой встречи передать теплоту и мир твоей души, твоей любви».
Ты печален, и мне хочется объяснить тебе непонятное, на взгляд нового человека, поведение всех тех, кого ты только что встретил. Та часть Общины, которая занята выходцами из оазиса Дартана, почти не сливается с общей жизнью всех остальных трудящихся в Общине. Приехали они сюда, получив указание самостоятельно выбрать себе одну из отраслей труда в Общине. Они долго вообще ничего не стремились выбирать. После неоднократных бесед с ними Раданды они решились осмотреть все отрасли труда здесь. Но им ничего не понравилось. Только пятьдесят – шестьдесят человек, в том числе уже знакомые тебе сёстры, вошли в трудовое единение с нами, многому научили нас и кое-чему научились у нас сами. Остальные всё отвергли, решили трудиться отдельно, завели себе свои мастерские, школу – и в результате даже дети их если и обучаются, то только в наших школах. Сами же они живут в праздности и ничего не создают для своих собственных нужд, не говоря уже об общем благе для всей Общины. Некоторые, как Деметро, стараются показать видимость труда. Что-то рисуют, шьют, сажают, но плодов своего дела никому не показывают. Жестокая критика на всех нас от них сыплется как горох.
Так что не огорчайся своим первым неуспехом. Сам Раданда им не раз напоминал об их обещаниях Учителю Иллофиллиону, о том, что годы летят быстро, что надо будет показать ему результаты своей работы, и я помню одну его замечательную фразу, которую он им сказал в моём присутствии: «Мстит человеку лень его. Лень сжигает в человеке инициативу. А лишённый инициативы человек не многим выше животного. Чем длиннее период лени, тем горше распад энергии в человеке. Ряд лет, прожитых в лени, закрывает ему все возможности вступить на какой-либо из путей Света. Ибо сделать это может лишь тот, в ком жива гибкая воля к труду».
Ты видишь, как глубока здесь проблема. И можно ли было тебе сразу найти подход к взаимопониманию с ними?
– Что проблема их общей жизни огромна, в этом ты, Слава, прав, это несомненно. И не мне её разбирать. Но тот крохотный кусочек их жизни, прикоснуться к которому послали меня – передать им привет с родины, – должен быть выполнен в наивысшей радости и благородстве, на какие только я способен. Я буду молить моих великих друзей помочь мне в этой задаче.
Мы подошли к крылечку нашего дома, и первое, что я увидел, была Наталия Владимировна, державшая на коленях сонного, отяжелевшего Эту. Картина эта была так необычна, так несвойственна Андреевой. Она не питала особой симпатии к Эте. Даже некоторую долю брезгливости подмечал я в ней не раз по отношению к моей чудесной птичке. Теперь же она нежно и заботливо держала птицу, ласково прильнув головой к мягкой шейке Эты. Казалось, необычайно чуткая к шагам и всякому движению Наталия Владимировна на этот раз не слышала нашего приближения. Только когда мы уже встали на первую ступеньку, и она, и Эта одновременно подняли головы. Эта не замедлил перекочевать ко мне на плечо, а бедная Наталия Владимировна, хотя и весело смеялась, но с трудом поднялась и расправила затёкшие руки и ноги.
– Лёвушка, мне так хотелось побеседовать с вами, что я попросила у Иллофиллиона разрешения доставить вам Эту. Иллофиллион очень хитро поглядел на меня, исполнил мою просьбу, но… сколько хлопот доставил мне ваш каверзный друг! Понадобился весь авторитет Раданды, чтобы Эта соблаговолил подчиниться и отправился со мной. И как только мы скрылись из глаз Иллофиллиона и Раданды, он вскочил мне на руки, не пожелав идти пешком. Так и пришлось мне тащить его на руках до самого дома. А пришли сюда – заставил меня держать его на коленях. Хитрец так уморительно вознаграждал меня за обслуживание нежными взглядами и кокетливыми поворотами головки, что я ему простила всё утомление.
– Я очень огорчён, дорогая Наталия Владимировна, что Эта выявил свой деспотизм на вас. Совершенно не понимаю, как у вас хватило сил нести его. Он даже для меня становится тяжёлым.
Мы оба приглашали Славу побыть с нами, но он ушёл к себе, сказав, что его ждёт ещё работа. На мои укоры Эте, зачем он заставил Наталию Владимировну нести такую тяжесть, она весело сказала:
– Ну, ноша моя была мне легка! Я слово такое знаю. А вот хотела бы я вам рассказать, как поразил меня сегодня Раданда. В его библиотеке я нашла сочинения всех великих писателей Древней Греции и Рима в подлинниках. А когда я его спросила, кому же здесь нужны подобные произведения, он мне ответил: «Мне были нужны раньше, пока я не знал их наизусть. А теперь нужны всем образованным людям Общины, подготавливающим себя для служения ближним в том широком мире, куда вскоре поедут. Вот, позвольте вас познакомить с некоторыми из них», – радостно прибавил он, идя навстречу группе людей, совсем молодых, входивших в комнату, где мы сидели. Вы, Лёвушка, можете себе представить, в какой соляной столб я превратилась и как глупо было моё лицо, когда я здоровалась с представляемыми мне людьми, входившими в комнату. Раданда смеялся надо мной не меньше, чем тогда, когда Эта тормошил вас, о чём он нам рассказал с необычайным юмором. Но, Лёвушка, не думайте, что я смеялась над вами. Я всей душой вам сочувствовала, а смеялась только комизму той ситуации.
– Я именно так и думал, дорогая Наталия Владимировна, и в данную минуту очень тронут вашим вниманием ко мне. Если вас поразил своею учёностью и образованными молодыми людьми Раданда, то меня не менее поразил один из его учеников, наш брат-проводник по Общине.
И я рассказал ей обо всех впечатлениях вечера, подробно передав разговор с Вячеславом. Мы сидели вдвоём, зачарованные волшебной тишиной и сияющими звёздами. Наталия Владимировна говорила тихим, задушевным голосом:
– Как не похоже моё мироощущение этих минут на всё то, что приходилось мне переживать раньше. За короткие дни моей жизни здесь какая-то новая освобождённость родилась во мне. Когда, бывало, прежде мне выпадали минуты, не наполненные спешным, напряженным трудом, нечто вроде тоски накатывало на меня из каких-то подсознательных недр духа. Дивная ночь, если я проводила её без работы и без сна, навевала мне мысли не об очаровании божественного мира, но о своём одиночестве, о том, что на земле у меня больше ничего нет, что на ней я стою нагая среди миллионов людей, одетых во все страсти и привязанности временной любви. От них я отстала, а к небу ещё не поднялась… Я чувствовала себя как бы висящей в пространстве между небом и землёй, не имея незыблемой точки опоры. Но в эту минуту я сознаю в себе и небо, и землю. Примирённость и полное понимание смысла рождения и смерти сквозят для меня в каждом шорохе трав и листьев, в каждом смехе и рыдании, в каждой песне птицы и крике животного. Я знаю в себе великий Свет, независимо от формы окружения, от времени и места. И обретённая мной новая примирённость – моё постоянное Славословие Вечному, моя верность Ему – уже непоколебимы. Всё, что в моём сердце оставалось от условностей и предрассудков, всё, что ещё могло причинить раны из-за разлуки или лечь холодом на сердце из-за смерти любимых, из-за страданий и заблуждений близких и дорогих, – всё оторвалось, распалось прахом. Это освободило мою мысль и приготовило духу дорогу к более широкому восприятию Жизни.
Ваш опыт сегодняшнего дня, когда вы увидели на деле, как теряет смысл жизнь людей, не понявших значения труда, совпал с моим новым пониманием того, как должен жить человек на Земле. В том, что вообще Земля – арена труда, я никогда не сомневалась. Но как и для чего совершается труд каждого? Каково его значение в текущем дне для векового бытия человека? Практическое значение соединения того и другого я поняла только здесь. Величайшая схема: рождение, труд, смерть – вылилась для меня в три новых слова: сила, выносливость, самообладание. И все эти три слова зависят от самых простых истин. Эти истины каждый человек сам создаёт и из них строит себе и другим путь радости. Эти три начальных истины теперь выражаются для меня в словах: доброта, любовь, верность.
Совершенно неважно, в чём и как человек выявит эти три силы. Неважно, монах ли он или светский человек, дикарь или просвещённейший писатель; встретил ли он в своей жизни великих людей или прошёл весь свой путь в самом обычном окружении, важно только, что он выявил эти силы и на них объединялся с людьми. Если он на них строил свой обычный день – он достигнет встречи с Учителем.
Он обретёт не только умственное, теоретическое понимание вечности жизни, но постигнет сердцем полное знание того, что нет ни смерти, ни разлуки. Человек, умом понявший, что не надо оплакивать отошедшего друга, всё же будет плакать, если друг ушёл. Своими слезами он непременно будет притягивать друга к земле. Будет терзать его картинами своих мучений и создавать ему тысячи препятствий, нарушая его первейшую обязанность в новом мире, в который он перешёл.
И эта первейшая обязанность в новом мире – единственная, как вечная память, которой в церковном обряде провожают отходящего, – есть трудоспособность человека. Вот почему так тяжёл в общении праздный человек, не создающий себе вековых путей для единения с другими существами во всех мирах. Труд земли, как и труд неба, индивидуально разный. Труд одного может казаться бездельем другому. Но это неважно. Важен тот Свет, что открывается в человеке как результат его труда. Важны навыки, привычка мыслить в гармонии, то есть в сочетании доброты сердца и гибкости ума. Они ведут к примирённости. Любовь неотделима от гармоничного сочетания всех этих качеств в человеке, она и есть путь живой жизни в нём.
Сегодня с меня спали последние оковы личного. Ушло горестное ощущение, что я стою нагая над одетой и весёлой землёй, что всё порвано между мною и ею, нарядно цветущей. Напротив, теперь я одета в Свет, сияющий Свет доброты. Вся земля лежит в храме моего сердца, и больше нет для меня ни иллюзии смерти, ни разъединения с землёй. Во мне родилась и утвердилась примирённость. Земля, я и тот мир, куда уйдёт мой дух, покинув дорогую, многострадальную землю, – всё это едино. Радость жить, бесстрашие жить, бесстрашие умереть – всё слилось для меня в одно священное понятие: трудиться для блага людей.
Эта поднял головку, слегка вскрикнул и побежал по тёмной дорожке. Я догадался, что мой чуткий друг издали почувствовал приближение Иллофиллиона.
– Спокойной ночи, Лёвушка. Я пойду к себе. Запишу кое-что из впечатлений дня.
Наталия Владимировна простилась со мною, оставив меня под глубоким впечатлением от её слов. Слова эти проникли мне в сердце. Не раз в моём сердце вспыхивала тайная горечь от разлуки с моим братом-отцом. Как ни был я окружён величайшей любовью, как ни ценил и благоговел перед моими дивными и великими покровителями, всё равно из моего сердца иногда доносился стон. Хотелось почувствовать ни с чем не сравнимое нежное объятие брата Николая. Плоть от плоти моей и кровь от крови моей. Я хотел было пойти навстречу Иллофиллиону, но решил подождать его на крылечке. Быть может, и Иллофиллион был погружён в великие мысли и нуждался в минуте отдыха и одиночества.
Я не успел додумать своих мыслей до конца, как послышался разговор, и вскоре на полянке перед домом резко выделились две белые фигуры, рядом с которыми чинно шагал Эта. Я никогда не удивлялся, если видел Иллофиллиона в обществе неожиданных людей. Я уже привык видеть рядом с ним самые необычайные фигуры. Но на этот раз я удивился, так как Иллофиллион шёл рядом с седовласым Радандой, оживлённо рассказывавшим ему о новых изобретениях, достигнутых в производстве стекла. Когда же спал Раданда? Я слышал, что настоятель вставал раньше всех, что целый день он был занят самыми разнообразными делами. Когда же он отдыхал?
– Что, Лёвушка, усталое тело отдыха просит? – Раданда положил мне руку на плечо и быстро, совсем не по-стариковски, опустился рядом со мной на ступеньку. – Ты замечай, дитя, всё. Тебе неспроста дан путь писателя. Пиши о человеке «просто», как я тебе с первого взгляда сказал. Путь писателя бывает разным. Один много вещей напишет, будто бы и нужны они его современности. Ан, глядишь, прошла четверть века, и забыли люди этого писателя, хотя награждали его и жил он на земле в знатности. Другой мало или даже только одну вещь напишет, а его творение будет жить века, и даже в поговорки войдет. В чём же здесь дело? В самом простом. Один писал – и сам оценивал свои сочинения, думая, как угодить современникам и получить побольше благ. Он временного искал – временное ему и ответило. Другой в себе осознал единственную силу: огонь Вечного. Он и в других его старался подметить. Старался видеть, как и где человек грешил против законов этого Вечного и страдал от разрушения гармонии в себе. Замечал, как иной человек был счастлив, сливаясь с Вечным, и украшал жизнь окружающим. И такой писатель будет не только отражать порывы радости и бездны скорби людей в своих произведениях. Он будет стараться научиться так переживать их жизнь, как будто сам оказался в обстоятельствах того или иного человека. Но мало стать в обстоятельства того или иного человека, надо ещё найти оправдание каждому в своей доброте, и только тогда поймёт писатель, что значит описать жизнь человеческую «просто».
Голос Раданды звучал сейчас совсем по-иному. Бог мой, в скольких аспектах я увидел этого человека за самое короткое время! И я ясно почувствовал, что совершенно не знаю, кто такой в действительности Раданда. Не отдавая себе отчёта, можно ли так запросто говорить с ним, я по-мальчишески прямо заявил:
– Представляю себе, в каком жалком положении, гораздо более жалком, чем когда меня трепал Эта, оказался бы я, если бы кто-либо приказал мне описать вашу Общину и, главное, вас.
Раданда улыбнулся, положил мне свою крохотную ручку на голову и близко заглянул мне в глаза.
– Велик и далёк твой путь, дитя моё. Сейчас ты ещё дитя, и то уже многое можешь. Но будет время, и не обо мне, а о многом большом напишешь. Теперь же иди спать. Завтра я сам пойду с тобою по колонии Дартана. Там многому научишься и многое-многое из векового страдания людей прочтёшь. Не жди Иллофиллиона, ложись спать. Мы с ним обойдём ещё кое-кого, кто в эту ночь нуждается в утешении.
Раданда перекрестил меня. Мне стало необычно легко и радостно. Я, точно в сказке, всё забыл и, взяв Эту на руки, пошёл к себе. Как я был благодарен Раданде! И с другой стороны, как я понимал свою детскость! Ещё и ещё раз я увидел, как устойчива должна быть гармония в человеке, чтобы он мог чего-либо достичь в жизни и реальных делах, и какое мужество должна нести в себе духовная сила мужчины.
Уложив спать Эту, я благословил всё живое во Вселенной, благословил милосердие моих наставников и лёг на свою полотняную постель, впервые ясно сознавая, что стою на рубеже, ведущем от детства и юности к зрелой молодости.
Ночь минула быстро. Я проснулся от гудения колокола и толчков Эты. На этот раз я уже ясно и твёрдо осознавал, где я нахожусь и кто и что меня окружает. Первым, что бросилось мне в глаза, была записка Иллофиллиона, лежавшая на стуле рядом со мной.
«Как только встанешь и приведёшь себя в порядок, приходи в покои Раданды возле трапезной. Эту оставь у Мулги. Раньше чем уйдёшь из дома, зайди к Андреевой и передай ей, что я поручаю ей на сегодняшний день Бронского, Игоро и Герду. Пусть до самого ужина проведёт с ними день и распределит в нём занятия всем, как сама найдёт нужным».
Записка Иллофиллиона окрылила меня. Быстро справившись с делами, я полетел в покои Раданды. По дороге я несколько раз возвращался мыслью к Наталии Владимировне и не мог разгадать, почему, когда я передавал ей поручение Иллофиллиона, она пристально вгляделась в меня и сказала: «Счастливец, Лёвушка!» Мысли мои перескочили с неё на её близкого и неразлучного друга в Общине Али – Ольденкотта. Только сейчас я сообразил, что я его нигде не видел с самого въезда в Общину Раданды, что он не жил в нашем доме, не бывал с нами в трапезной и что я о нём ничего не слышал все эти дни. Я решил немедленно же спросить у Иллофиллиона об этом милом и чудесном добряке, но, пока шёл, поостыл в своём решении, вспомнив, что любопытство во мне не может порадовать Иллофиллиона. Должно быть, для Ольденкотта, как и для Зейхеда, которого я тоже не видел в Общине, предназначался особый путь уединения. Весь под впечатлением этих мыслей, я сдал Мулге Эту, что было принято обоими новыми друзьями более чем благосклонно, и постучался в дверь Раданды. Он сам открыл мне и, лукаво оглядывая меня с ног до головы, сказал:
– Беги скорее в душ, пока Иллофиллион тебя не видел. Где это ты так запылился, точно по пустыне бежал?
Я посмотрел на свои сандалии, которые так недавно усердно чистил и завязывал, переконфузился и даже расстроился: и сандалии, и весь подол одежды – всё было серым от пыли. Увлечённый размышлениями и жаждой поскорее увидеться с Иллофиллионом, я забыл об осторожности и лёгкости походки. Извинившись перед Радандой, я помчался в душ. Тут уж я сам прочёл себе предлинную нотацию и наконец очутился в приличном виде перед Иллофиллионом. Мой снисходительнейший наставник ни единым словом не дал мне понять, что знает о моей неловкости, не укорил за опоздание, но ласково со мной поздоровался.
– Пройди, Лёвушка, на балкон, там тебя ждёт завтрак. Кушай не спеша и вернись сюда. Ты пойдёшь с Радандой, как он тебе обещал, по сектору Дартана. С ним же вернёшься обратно и поедешь со мной навстречу возвращающемуся Яссе.
Навстречу дорогому, любимому Яссе! Тут я понял, почему сказала мне Андреева: «Счастливец, Лёвушка!» Да, действительно, я был счастливцем. Двери моего сердца широко раскрылись не только для Яссы, который – я был убеждён – возвращался победителем, но и для всего мира, точно вместившегося во мне. Мне открылось, как глубоко надо проникать в сознание встречного человека. Я ощутил живыми и действенными вечерние слова Раданды о том, что писатель должен уметь не только поставить себя в жизненные обстоятельства человека и выразить это в словах, но и оправдать каждого, понимая это слово не как оно обычно понимается в быту, но как чистое сердце может воспринять вечный путь ближнего. Я шёл, и радость пела во мне, хотя я отлично понимал: того, что я достиг сегодня, завтра будет уже мало. Всё же я был счастлив, не мог не улыбаться, и все, кто встречался мне, отвечали мне улыбками.
«Путь радости – путь счастливых избранников», – вспомнил я слова Иллофиллиона. И впервые оценил своё величайшее счастье, осознал на опыте дня, что иду путём творческой радости, внутри меня живущей.
Я быстро покончил с завтраком, и это казалось мне сегодня скучной необходимостью. Я возвратился к Иллофиллиону, где меня уже ждал Раданда с посохом в руках. Когда мы вышли из дома и оказались на ярком солнечном свете, я в первый раз имел возможность рассмотреть лицо настоятеля более внимательно. Я увидел, что старость Раданды, которая так поразила меня в момент первой встречи с ним, выражалась не в морщинах, а в какой-то особенной серьёзной мудрости. Кожа его была гладкая, тёмная, как древний пергамент. Добрые ясные глаза светились, как лампады. И цвет их всё время менялся от голубого к фиолетовому. Осанка его фигуры, как всегда окружённой светящимся радужным шаром, была прямой, и я теперь не понимал, почему Раданда в первую минуту встречи и в трапезной показался мне таким древним старцем. И вместе с тем я и сейчас воспринимал его необычайно древним, точно он жил уже века.
– Не углубляйся в преждевременные вопросы, друг. Думай только о поручении Дартана. Оно составляет твоё главнейшее «сейчас», – как всегда, ответил на мои невысказанные вопросы Раданда и неожиданно для меня свернул в тенистую аллею.
Голос его звучал добротой, в его тоне не было строгости, но всё же в нём чувствовалась такая огромная серьёзность, что это сразу напомнило мне, к какой священной и ответственной задаче я готовился приступить. Лицо Раданды, когда он посмотрел на меня, было похоже на лик одного из святых, которых русские живописцы так любят изображать со светящимися нимбами. Из его глаз, лба, горла точно выскакивали искры рубинового цвета и кололи меня, как маленькие электрические разряды. Сначала они только кололи меня, но через несколько минут я стал чувствовать такую бодрость и радостность, такая сила умиротворённости проникла в меня, что я невольно прильнул к Раданде и поцеловал его сухонькую ручку. Он ответил мне пожатием и притянул к себе.
– Мы с тобой подходим к часовне Радости, дружок. Её происхождение очень, очень древнее. По преданиям, она была возведена Божественными силами в незапамятные времена. Это было тогда, когда пустыня была морем, а место, где теперь находится Община, – островом. В противоположном конце, за скитом уединённых, есть вторая столь же древняя часовня – часовня Скорби, или часовня печальных. Когда созреешь и окрепнешь духом, чтобы нести утешение печальным и плачущим, мы с тобой посетим и ту часовню.
На этот же раз мы припадём к стопам дивной статуи Великой Матери, высеченной из никому не ведомого камня. Говорят, что она высечена из белого коралла, но я знаю, что не так называется этот материал. Ты сам увидишь, что сияние статуи, её пропорциональность и красота, все линии, создающие одно гармоничное целое, не могли быть созданы рукой обычного ваятеля. Скульптор обладал не только гениальным художественным даром, но и дух его должен был гореть огнём Вечного. Сотворивший её не знал ни единого мгновения угасания Радости, иначе он не мог бы создать подобной красоты. Надо было носить её в себе, чистую, неомрачаемую Радость, чтобы каждое сознание, преклоняющееся в чистоте перед этим отражением его духа, его живого Единого, укреплялось и собиралось в непобедимую силу Радости. Сама Жизнь одухотворяла ваятеля и одухотворяет до сих пор его произведение. Преклоняясь перед хранимым здесь изображением Великой Матери, которую мы зовём Звучащей Радостью, надо самому звучать всей полнотой счастья жить, всей верностью заветам своего Учителя, чтобы слиться с той силой, что изливает Великая Мать на каждого склоняющегося пред Нею в своей полной гармонии.
Я связал тебя с моей аурой и передавал тебе искры моей Любви, чтобы ты мог войти в часовню, неся в сердце песнь торжествующей Любви. Возьми мою руку. Слейся с моим Единым. Проси Великую Мать помочь тебе посвятить всю силу твоей преданности чудесному делу служения Жизни в форме современного тебе человечества, как писателю – слуге своего народа. Склоняясь, благодари, благословляй Величие, давшее тебе частицу своего гения. Проси Мать принять под свою защиту твой дар, чтобы никогда сомнение или колебание не овладели тобой. Возноси Ей хвалу и проси лёгкости твоей мысли, силы твоему слову, образности твоей фразе, мощи твоей проникновенной фантазии – той творческой фантазии, которая черпает своё начало в интуиции, но не в эмоциях чувственности. Проси понимания того, где лежит путь к Вечному в каждом и как в каждом оправдать его топкое болото слёз и страстей. И тогда ты найдёшь путь писать просто.
Раданда взял меня за руку и свернул на маленькую, еле заметную тропочку, ведущую в густые заросли искривлённых кустарникообразных деревьев, никогда мною не виданных. Без него я и не разглядел бы эту тропинку. Она извивалась, и много раз мне казалось, что она упирается прямо в стену густого высоченного кустарника. Но каждый раз Раданда находил узенький, едва заметный проход. Сделав много поворотов в этом лабиринте, мы вышли на небольшую площадку, где полукругом росли мощные кедры, и в самом их центре стояла часовня.
Как описать мне это дивное зрелище? На тёмном фоне кедров, под синим небом, под знойным, сверкающим южным солнцем, высоко над белой, резной, как тончайшее кружево, лестницей стояла такая же белая, лёгкая – казалось, дуновения ветра довольно, чтобы унести её с места, – часовня. И внутри её высилась статуя, изображавшая женщину, на прекрасную голову и плечи которой ниспадало розовое покрывало.
Когда я прощался с сёстрами у их балкона, Роланда задержала мою руку в своей.
– Это я всему виною. Они все – добрые люди, но их легкомыслие ни с чем не сравнимо, разве что с их любовью к праздности. Мне надо было заранее предупредить их, тогда вам не пришлось бы наблюдать всей этой тягостной сцены. Впредь я постараюсь подготавливать людей к встрече с вами.
– Я очень рад, что мне пришлось повстречаться с людьми, не ждавшими известия. Теперь мне ясно, как много надо нести в себе мира и радости, чтобы успешно выполнить данное мне поручение. Не стремитесь оправдывать Деметро. Моё сердце уже его оправдало. Дело не в Деметро или ком-нибудь другом, но во мне – насколько я найду в себе такт и обаяние, чтобы выполнить, а не испортить порученное мне дело.
Мы расстались с сёстрами, пожелав им спокойной ночи, которая уже спускалась. Над нами светило яркое от многочисленных и крупных звёзд небо, изредка встречались возвращавшиеся по домам люди. Мы молча проходили дорожку за дорожкой. Вдруг Вячеслав остановился.
– Брат, я не знаю, как живут люди в далёком мире. Поэтому прости мне, если я совершаю бестактность, нарушая сейчас твоё молчание. Но Раданда не раз говаривал мне: «Если ты видишь, что встреча людей не началась и не кончилась в радости, постарайся хотя бы одному из участников такой встречи передать теплоту и мир твоей души, твоей любви».
Ты печален, и мне хочется объяснить тебе непонятное, на взгляд нового человека, поведение всех тех, кого ты только что встретил. Та часть Общины, которая занята выходцами из оазиса Дартана, почти не сливается с общей жизнью всех остальных трудящихся в Общине. Приехали они сюда, получив указание самостоятельно выбрать себе одну из отраслей труда в Общине. Они долго вообще ничего не стремились выбирать. После неоднократных бесед с ними Раданды они решились осмотреть все отрасли труда здесь. Но им ничего не понравилось. Только пятьдесят – шестьдесят человек, в том числе уже знакомые тебе сёстры, вошли в трудовое единение с нами, многому научили нас и кое-чему научились у нас сами. Остальные всё отвергли, решили трудиться отдельно, завели себе свои мастерские, школу – и в результате даже дети их если и обучаются, то только в наших школах. Сами же они живут в праздности и ничего не создают для своих собственных нужд, не говоря уже об общем благе для всей Общины. Некоторые, как Деметро, стараются показать видимость труда. Что-то рисуют, шьют, сажают, но плодов своего дела никому не показывают. Жестокая критика на всех нас от них сыплется как горох.
Так что не огорчайся своим первым неуспехом. Сам Раданда им не раз напоминал об их обещаниях Учителю Иллофиллиону, о том, что годы летят быстро, что надо будет показать ему результаты своей работы, и я помню одну его замечательную фразу, которую он им сказал в моём присутствии: «Мстит человеку лень его. Лень сжигает в человеке инициативу. А лишённый инициативы человек не многим выше животного. Чем длиннее период лени, тем горше распад энергии в человеке. Ряд лет, прожитых в лени, закрывает ему все возможности вступить на какой-либо из путей Света. Ибо сделать это может лишь тот, в ком жива гибкая воля к труду».
Ты видишь, как глубока здесь проблема. И можно ли было тебе сразу найти подход к взаимопониманию с ними?
– Что проблема их общей жизни огромна, в этом ты, Слава, прав, это несомненно. И не мне её разбирать. Но тот крохотный кусочек их жизни, прикоснуться к которому послали меня – передать им привет с родины, – должен быть выполнен в наивысшей радости и благородстве, на какие только я способен. Я буду молить моих великих друзей помочь мне в этой задаче.
Мы подошли к крылечку нашего дома, и первое, что я увидел, была Наталия Владимировна, державшая на коленях сонного, отяжелевшего Эту. Картина эта была так необычна, так несвойственна Андреевой. Она не питала особой симпатии к Эте. Даже некоторую долю брезгливости подмечал я в ней не раз по отношению к моей чудесной птичке. Теперь же она нежно и заботливо держала птицу, ласково прильнув головой к мягкой шейке Эты. Казалось, необычайно чуткая к шагам и всякому движению Наталия Владимировна на этот раз не слышала нашего приближения. Только когда мы уже встали на первую ступеньку, и она, и Эта одновременно подняли головы. Эта не замедлил перекочевать ко мне на плечо, а бедная Наталия Владимировна, хотя и весело смеялась, но с трудом поднялась и расправила затёкшие руки и ноги.
– Лёвушка, мне так хотелось побеседовать с вами, что я попросила у Иллофиллиона разрешения доставить вам Эту. Иллофиллион очень хитро поглядел на меня, исполнил мою просьбу, но… сколько хлопот доставил мне ваш каверзный друг! Понадобился весь авторитет Раданды, чтобы Эта соблаговолил подчиниться и отправился со мной. И как только мы скрылись из глаз Иллофиллиона и Раданды, он вскочил мне на руки, не пожелав идти пешком. Так и пришлось мне тащить его на руках до самого дома. А пришли сюда – заставил меня держать его на коленях. Хитрец так уморительно вознаграждал меня за обслуживание нежными взглядами и кокетливыми поворотами головки, что я ему простила всё утомление.
– Я очень огорчён, дорогая Наталия Владимировна, что Эта выявил свой деспотизм на вас. Совершенно не понимаю, как у вас хватило сил нести его. Он даже для меня становится тяжёлым.
Мы оба приглашали Славу побыть с нами, но он ушёл к себе, сказав, что его ждёт ещё работа. На мои укоры Эте, зачем он заставил Наталию Владимировну нести такую тяжесть, она весело сказала:
– Ну, ноша моя была мне легка! Я слово такое знаю. А вот хотела бы я вам рассказать, как поразил меня сегодня Раданда. В его библиотеке я нашла сочинения всех великих писателей Древней Греции и Рима в подлинниках. А когда я его спросила, кому же здесь нужны подобные произведения, он мне ответил: «Мне были нужны раньше, пока я не знал их наизусть. А теперь нужны всем образованным людям Общины, подготавливающим себя для служения ближним в том широком мире, куда вскоре поедут. Вот, позвольте вас познакомить с некоторыми из них», – радостно прибавил он, идя навстречу группе людей, совсем молодых, входивших в комнату, где мы сидели. Вы, Лёвушка, можете себе представить, в какой соляной столб я превратилась и как глупо было моё лицо, когда я здоровалась с представляемыми мне людьми, входившими в комнату. Раданда смеялся надо мной не меньше, чем тогда, когда Эта тормошил вас, о чём он нам рассказал с необычайным юмором. Но, Лёвушка, не думайте, что я смеялась над вами. Я всей душой вам сочувствовала, а смеялась только комизму той ситуации.
– Я именно так и думал, дорогая Наталия Владимировна, и в данную минуту очень тронут вашим вниманием ко мне. Если вас поразил своею учёностью и образованными молодыми людьми Раданда, то меня не менее поразил один из его учеников, наш брат-проводник по Общине.
И я рассказал ей обо всех впечатлениях вечера, подробно передав разговор с Вячеславом. Мы сидели вдвоём, зачарованные волшебной тишиной и сияющими звёздами. Наталия Владимировна говорила тихим, задушевным голосом:
– Как не похоже моё мироощущение этих минут на всё то, что приходилось мне переживать раньше. За короткие дни моей жизни здесь какая-то новая освобождённость родилась во мне. Когда, бывало, прежде мне выпадали минуты, не наполненные спешным, напряженным трудом, нечто вроде тоски накатывало на меня из каких-то подсознательных недр духа. Дивная ночь, если я проводила её без работы и без сна, навевала мне мысли не об очаровании божественного мира, но о своём одиночестве, о том, что на земле у меня больше ничего нет, что на ней я стою нагая среди миллионов людей, одетых во все страсти и привязанности временной любви. От них я отстала, а к небу ещё не поднялась… Я чувствовала себя как бы висящей в пространстве между небом и землёй, не имея незыблемой точки опоры. Но в эту минуту я сознаю в себе и небо, и землю. Примирённость и полное понимание смысла рождения и смерти сквозят для меня в каждом шорохе трав и листьев, в каждом смехе и рыдании, в каждой песне птицы и крике животного. Я знаю в себе великий Свет, независимо от формы окружения, от времени и места. И обретённая мной новая примирённость – моё постоянное Славословие Вечному, моя верность Ему – уже непоколебимы. Всё, что в моём сердце оставалось от условностей и предрассудков, всё, что ещё могло причинить раны из-за разлуки или лечь холодом на сердце из-за смерти любимых, из-за страданий и заблуждений близких и дорогих, – всё оторвалось, распалось прахом. Это освободило мою мысль и приготовило духу дорогу к более широкому восприятию Жизни.
Ваш опыт сегодняшнего дня, когда вы увидели на деле, как теряет смысл жизнь людей, не понявших значения труда, совпал с моим новым пониманием того, как должен жить человек на Земле. В том, что вообще Земля – арена труда, я никогда не сомневалась. Но как и для чего совершается труд каждого? Каково его значение в текущем дне для векового бытия человека? Практическое значение соединения того и другого я поняла только здесь. Величайшая схема: рождение, труд, смерть – вылилась для меня в три новых слова: сила, выносливость, самообладание. И все эти три слова зависят от самых простых истин. Эти истины каждый человек сам создаёт и из них строит себе и другим путь радости. Эти три начальных истины теперь выражаются для меня в словах: доброта, любовь, верность.
Совершенно неважно, в чём и как человек выявит эти три силы. Неважно, монах ли он или светский человек, дикарь или просвещённейший писатель; встретил ли он в своей жизни великих людей или прошёл весь свой путь в самом обычном окружении, важно только, что он выявил эти силы и на них объединялся с людьми. Если он на них строил свой обычный день – он достигнет встречи с Учителем.
Он обретёт не только умственное, теоретическое понимание вечности жизни, но постигнет сердцем полное знание того, что нет ни смерти, ни разлуки. Человек, умом понявший, что не надо оплакивать отошедшего друга, всё же будет плакать, если друг ушёл. Своими слезами он непременно будет притягивать друга к земле. Будет терзать его картинами своих мучений и создавать ему тысячи препятствий, нарушая его первейшую обязанность в новом мире, в который он перешёл.
И эта первейшая обязанность в новом мире – единственная, как вечная память, которой в церковном обряде провожают отходящего, – есть трудоспособность человека. Вот почему так тяжёл в общении праздный человек, не создающий себе вековых путей для единения с другими существами во всех мирах. Труд земли, как и труд неба, индивидуально разный. Труд одного может казаться бездельем другому. Но это неважно. Важен тот Свет, что открывается в человеке как результат его труда. Важны навыки, привычка мыслить в гармонии, то есть в сочетании доброты сердца и гибкости ума. Они ведут к примирённости. Любовь неотделима от гармоничного сочетания всех этих качеств в человеке, она и есть путь живой жизни в нём.
Сегодня с меня спали последние оковы личного. Ушло горестное ощущение, что я стою нагая над одетой и весёлой землёй, что всё порвано между мною и ею, нарядно цветущей. Напротив, теперь я одета в Свет, сияющий Свет доброты. Вся земля лежит в храме моего сердца, и больше нет для меня ни иллюзии смерти, ни разъединения с землёй. Во мне родилась и утвердилась примирённость. Земля, я и тот мир, куда уйдёт мой дух, покинув дорогую, многострадальную землю, – всё это едино. Радость жить, бесстрашие жить, бесстрашие умереть – всё слилось для меня в одно священное понятие: трудиться для блага людей.
Эта поднял головку, слегка вскрикнул и побежал по тёмной дорожке. Я догадался, что мой чуткий друг издали почувствовал приближение Иллофиллиона.
– Спокойной ночи, Лёвушка. Я пойду к себе. Запишу кое-что из впечатлений дня.
Наталия Владимировна простилась со мною, оставив меня под глубоким впечатлением от её слов. Слова эти проникли мне в сердце. Не раз в моём сердце вспыхивала тайная горечь от разлуки с моим братом-отцом. Как ни был я окружён величайшей любовью, как ни ценил и благоговел перед моими дивными и великими покровителями, всё равно из моего сердца иногда доносился стон. Хотелось почувствовать ни с чем не сравнимое нежное объятие брата Николая. Плоть от плоти моей и кровь от крови моей. Я хотел было пойти навстречу Иллофиллиону, но решил подождать его на крылечке. Быть может, и Иллофиллион был погружён в великие мысли и нуждался в минуте отдыха и одиночества.
Я не успел додумать своих мыслей до конца, как послышался разговор, и вскоре на полянке перед домом резко выделились две белые фигуры, рядом с которыми чинно шагал Эта. Я никогда не удивлялся, если видел Иллофиллиона в обществе неожиданных людей. Я уже привык видеть рядом с ним самые необычайные фигуры. Но на этот раз я удивился, так как Иллофиллион шёл рядом с седовласым Радандой, оживлённо рассказывавшим ему о новых изобретениях, достигнутых в производстве стекла. Когда же спал Раданда? Я слышал, что настоятель вставал раньше всех, что целый день он был занят самыми разнообразными делами. Когда же он отдыхал?
– Что, Лёвушка, усталое тело отдыха просит? – Раданда положил мне руку на плечо и быстро, совсем не по-стариковски, опустился рядом со мной на ступеньку. – Ты замечай, дитя, всё. Тебе неспроста дан путь писателя. Пиши о человеке «просто», как я тебе с первого взгляда сказал. Путь писателя бывает разным. Один много вещей напишет, будто бы и нужны они его современности. Ан, глядишь, прошла четверть века, и забыли люди этого писателя, хотя награждали его и жил он на земле в знатности. Другой мало или даже только одну вещь напишет, а его творение будет жить века, и даже в поговорки войдет. В чём же здесь дело? В самом простом. Один писал – и сам оценивал свои сочинения, думая, как угодить современникам и получить побольше благ. Он временного искал – временное ему и ответило. Другой в себе осознал единственную силу: огонь Вечного. Он и в других его старался подметить. Старался видеть, как и где человек грешил против законов этого Вечного и страдал от разрушения гармонии в себе. Замечал, как иной человек был счастлив, сливаясь с Вечным, и украшал жизнь окружающим. И такой писатель будет не только отражать порывы радости и бездны скорби людей в своих произведениях. Он будет стараться научиться так переживать их жизнь, как будто сам оказался в обстоятельствах того или иного человека. Но мало стать в обстоятельства того или иного человека, надо ещё найти оправдание каждому в своей доброте, и только тогда поймёт писатель, что значит описать жизнь человеческую «просто».
Голос Раданды звучал сейчас совсем по-иному. Бог мой, в скольких аспектах я увидел этого человека за самое короткое время! И я ясно почувствовал, что совершенно не знаю, кто такой в действительности Раданда. Не отдавая себе отчёта, можно ли так запросто говорить с ним, я по-мальчишески прямо заявил:
– Представляю себе, в каком жалком положении, гораздо более жалком, чем когда меня трепал Эта, оказался бы я, если бы кто-либо приказал мне описать вашу Общину и, главное, вас.
Раданда улыбнулся, положил мне свою крохотную ручку на голову и близко заглянул мне в глаза.
– Велик и далёк твой путь, дитя моё. Сейчас ты ещё дитя, и то уже многое можешь. Но будет время, и не обо мне, а о многом большом напишешь. Теперь же иди спать. Завтра я сам пойду с тобою по колонии Дартана. Там многому научишься и многое-многое из векового страдания людей прочтёшь. Не жди Иллофиллиона, ложись спать. Мы с ним обойдём ещё кое-кого, кто в эту ночь нуждается в утешении.
Раданда перекрестил меня. Мне стало необычно легко и радостно. Я, точно в сказке, всё забыл и, взяв Эту на руки, пошёл к себе. Как я был благодарен Раданде! И с другой стороны, как я понимал свою детскость! Ещё и ещё раз я увидел, как устойчива должна быть гармония в человеке, чтобы он мог чего-либо достичь в жизни и реальных делах, и какое мужество должна нести в себе духовная сила мужчины.
Уложив спать Эту, я благословил всё живое во Вселенной, благословил милосердие моих наставников и лёг на свою полотняную постель, впервые ясно сознавая, что стою на рубеже, ведущем от детства и юности к зрелой молодости.
Ночь минула быстро. Я проснулся от гудения колокола и толчков Эты. На этот раз я уже ясно и твёрдо осознавал, где я нахожусь и кто и что меня окружает. Первым, что бросилось мне в глаза, была записка Иллофиллиона, лежавшая на стуле рядом со мной.
«Как только встанешь и приведёшь себя в порядок, приходи в покои Раданды возле трапезной. Эту оставь у Мулги. Раньше чем уйдёшь из дома, зайди к Андреевой и передай ей, что я поручаю ей на сегодняшний день Бронского, Игоро и Герду. Пусть до самого ужина проведёт с ними день и распределит в нём занятия всем, как сама найдёт нужным».
Записка Иллофиллиона окрылила меня. Быстро справившись с делами, я полетел в покои Раданды. По дороге я несколько раз возвращался мыслью к Наталии Владимировне и не мог разгадать, почему, когда я передавал ей поручение Иллофиллиона, она пристально вгляделась в меня и сказала: «Счастливец, Лёвушка!» Мысли мои перескочили с неё на её близкого и неразлучного друга в Общине Али – Ольденкотта. Только сейчас я сообразил, что я его нигде не видел с самого въезда в Общину Раданды, что он не жил в нашем доме, не бывал с нами в трапезной и что я о нём ничего не слышал все эти дни. Я решил немедленно же спросить у Иллофиллиона об этом милом и чудесном добряке, но, пока шёл, поостыл в своём решении, вспомнив, что любопытство во мне не может порадовать Иллофиллиона. Должно быть, для Ольденкотта, как и для Зейхеда, которого я тоже не видел в Общине, предназначался особый путь уединения. Весь под впечатлением этих мыслей, я сдал Мулге Эту, что было принято обоими новыми друзьями более чем благосклонно, и постучался в дверь Раданды. Он сам открыл мне и, лукаво оглядывая меня с ног до головы, сказал:
– Беги скорее в душ, пока Иллофиллион тебя не видел. Где это ты так запылился, точно по пустыне бежал?
Я посмотрел на свои сандалии, которые так недавно усердно чистил и завязывал, переконфузился и даже расстроился: и сандалии, и весь подол одежды – всё было серым от пыли. Увлечённый размышлениями и жаждой поскорее увидеться с Иллофиллионом, я забыл об осторожности и лёгкости походки. Извинившись перед Радандой, я помчался в душ. Тут уж я сам прочёл себе предлинную нотацию и наконец очутился в приличном виде перед Иллофиллионом. Мой снисходительнейший наставник ни единым словом не дал мне понять, что знает о моей неловкости, не укорил за опоздание, но ласково со мной поздоровался.
– Пройди, Лёвушка, на балкон, там тебя ждёт завтрак. Кушай не спеша и вернись сюда. Ты пойдёшь с Радандой, как он тебе обещал, по сектору Дартана. С ним же вернёшься обратно и поедешь со мной навстречу возвращающемуся Яссе.
Навстречу дорогому, любимому Яссе! Тут я понял, почему сказала мне Андреева: «Счастливец, Лёвушка!» Да, действительно, я был счастливцем. Двери моего сердца широко раскрылись не только для Яссы, который – я был убеждён – возвращался победителем, но и для всего мира, точно вместившегося во мне. Мне открылось, как глубоко надо проникать в сознание встречного человека. Я ощутил живыми и действенными вечерние слова Раданды о том, что писатель должен уметь не только поставить себя в жизненные обстоятельства человека и выразить это в словах, но и оправдать каждого, понимая это слово не как оно обычно понимается в быту, но как чистое сердце может воспринять вечный путь ближнего. Я шёл, и радость пела во мне, хотя я отлично понимал: того, что я достиг сегодня, завтра будет уже мало. Всё же я был счастлив, не мог не улыбаться, и все, кто встречался мне, отвечали мне улыбками.
«Путь радости – путь счастливых избранников», – вспомнил я слова Иллофиллиона. И впервые оценил своё величайшее счастье, осознал на опыте дня, что иду путём творческой радости, внутри меня живущей.
Я быстро покончил с завтраком, и это казалось мне сегодня скучной необходимостью. Я возвратился к Иллофиллиону, где меня уже ждал Раданда с посохом в руках. Когда мы вышли из дома и оказались на ярком солнечном свете, я в первый раз имел возможность рассмотреть лицо настоятеля более внимательно. Я увидел, что старость Раданды, которая так поразила меня в момент первой встречи с ним, выражалась не в морщинах, а в какой-то особенной серьёзной мудрости. Кожа его была гладкая, тёмная, как древний пергамент. Добрые ясные глаза светились, как лампады. И цвет их всё время менялся от голубого к фиолетовому. Осанка его фигуры, как всегда окружённой светящимся радужным шаром, была прямой, и я теперь не понимал, почему Раданда в первую минуту встречи и в трапезной показался мне таким древним старцем. И вместе с тем я и сейчас воспринимал его необычайно древним, точно он жил уже века.
– Не углубляйся в преждевременные вопросы, друг. Думай только о поручении Дартана. Оно составляет твоё главнейшее «сейчас», – как всегда, ответил на мои невысказанные вопросы Раданда и неожиданно для меня свернул в тенистую аллею.
Голос его звучал добротой, в его тоне не было строгости, но всё же в нём чувствовалась такая огромная серьёзность, что это сразу напомнило мне, к какой священной и ответственной задаче я готовился приступить. Лицо Раданды, когда он посмотрел на меня, было похоже на лик одного из святых, которых русские живописцы так любят изображать со светящимися нимбами. Из его глаз, лба, горла точно выскакивали искры рубинового цвета и кололи меня, как маленькие электрические разряды. Сначала они только кололи меня, но через несколько минут я стал чувствовать такую бодрость и радостность, такая сила умиротворённости проникла в меня, что я невольно прильнул к Раданде и поцеловал его сухонькую ручку. Он ответил мне пожатием и притянул к себе.
– Мы с тобой подходим к часовне Радости, дружок. Её происхождение очень, очень древнее. По преданиям, она была возведена Божественными силами в незапамятные времена. Это было тогда, когда пустыня была морем, а место, где теперь находится Община, – островом. В противоположном конце, за скитом уединённых, есть вторая столь же древняя часовня – часовня Скорби, или часовня печальных. Когда созреешь и окрепнешь духом, чтобы нести утешение печальным и плачущим, мы с тобой посетим и ту часовню.
На этот же раз мы припадём к стопам дивной статуи Великой Матери, высеченной из никому не ведомого камня. Говорят, что она высечена из белого коралла, но я знаю, что не так называется этот материал. Ты сам увидишь, что сияние статуи, её пропорциональность и красота, все линии, создающие одно гармоничное целое, не могли быть созданы рукой обычного ваятеля. Скульптор обладал не только гениальным художественным даром, но и дух его должен был гореть огнём Вечного. Сотворивший её не знал ни единого мгновения угасания Радости, иначе он не мог бы создать подобной красоты. Надо было носить её в себе, чистую, неомрачаемую Радость, чтобы каждое сознание, преклоняющееся в чистоте перед этим отражением его духа, его живого Единого, укреплялось и собиралось в непобедимую силу Радости. Сама Жизнь одухотворяла ваятеля и одухотворяет до сих пор его произведение. Преклоняясь перед хранимым здесь изображением Великой Матери, которую мы зовём Звучащей Радостью, надо самому звучать всей полнотой счастья жить, всей верностью заветам своего Учителя, чтобы слиться с той силой, что изливает Великая Мать на каждого склоняющегося пред Нею в своей полной гармонии.
Я связал тебя с моей аурой и передавал тебе искры моей Любви, чтобы ты мог войти в часовню, неся в сердце песнь торжествующей Любви. Возьми мою руку. Слейся с моим Единым. Проси Великую Мать помочь тебе посвятить всю силу твоей преданности чудесному делу служения Жизни в форме современного тебе человечества, как писателю – слуге своего народа. Склоняясь, благодари, благословляй Величие, давшее тебе частицу своего гения. Проси Мать принять под свою защиту твой дар, чтобы никогда сомнение или колебание не овладели тобой. Возноси Ей хвалу и проси лёгкости твоей мысли, силы твоему слову, образности твоей фразе, мощи твоей проникновенной фантазии – той творческой фантазии, которая черпает своё начало в интуиции, но не в эмоциях чувственности. Проси понимания того, где лежит путь к Вечному в каждом и как в каждом оправдать его топкое болото слёз и страстей. И тогда ты найдёшь путь писать просто.
Раданда взял меня за руку и свернул на маленькую, еле заметную тропочку, ведущую в густые заросли искривлённых кустарникообразных деревьев, никогда мною не виданных. Без него я и не разглядел бы эту тропинку. Она извивалась, и много раз мне казалось, что она упирается прямо в стену густого высоченного кустарника. Но каждый раз Раданда находил узенький, едва заметный проход. Сделав много поворотов в этом лабиринте, мы вышли на небольшую площадку, где полукругом росли мощные кедры, и в самом их центре стояла часовня.
Как описать мне это дивное зрелище? На тёмном фоне кедров, под синим небом, под знойным, сверкающим южным солнцем, высоко над белой, резной, как тончайшее кружево, лестницей стояла такая же белая, лёгкая – казалось, дуновения ветра довольно, чтобы унести её с места, – часовня. И внутри её высилась статуя, изображавшая женщину, на прекрасную голову и плечи которой ниспадало розовое покрывало.