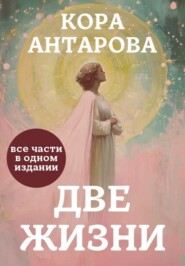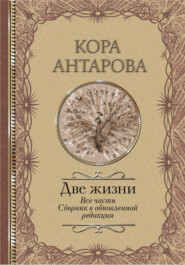По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Две жизни. Часть 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я вернулся в комнату больного с братом милосердия. Иллофиллион сделал Игоро укол довольно толстой иглой и, дав дежурному все указания, обещал через два часа прислать фельдшерицу. Мы собрали аптечку, тщательно вымыли руки и спустились вниз к ждавшему нас Бронскому.
Жара была уже очень сильная. Иллофиллион нахлобучил мне шляпу и спустил вуаль, посоветовав сделать то же самое и своему новому ученику, и мы, перейдя несколько дорожек, очутились в доме Аннинова.
Всё в этом доме было какое-то особенное. Сразу же меня поразило, что из небольшой передней дверь выходила прямо в просторный белый зал, где посреди комнаты стоял белый рояль, а по стенам несколько диванов – жёстких и тоже белых. На тумбе из чёрного мрамора была какая-то небольшая статуя, показавшаяся мне сначала скульптурным портретом Данте. Потом я увидел, что это было изображение Будды.
Слуга провел Иллофиллиона через большой зал в следующую комнату, а мы с Бронским остались ждать в зале. Он стал мне рассказывать об Аннинове, его гениальности, успехе у публики и о его страданиях. Он давно покинул родину, очень страдал от тоски по ней, но никогда туда не возвращался, скитаясь по всему свету. Бронский не знал, что заставило музыканта покинуть родину, так горячо им любимую. Но он был уверен, что главная причина его болезни сердца состояла в его постоянной тоске по ней.
Иллофиллион довольно долго пробыл у больного. Бронский, видя мой восторг при описании его впечатлений от встречи с Флорентийцем, и сам, очевидно, находясь под сильным влиянием мудрости и благородства моего высокого друга, рассказал мне подробно, как он был в особняке Флорентийца в Лондоне, встречал там моего брата и от него получил мой рассказ. Он видел также Наль и её подругу Алису, красотой которых был так поражён и восхищён, что до сих пор не знает, которая из них лучше. Бронский утверждал, что Алиса – это Дездемона, а Наль такая юная и вместе с тем столь величественная, что для неё он не находит имени в своём артистическом словаре. По словам артиста, такой женщины он ещё не видел и готов был бы заподозрить в преувеличении всех, кто ему рассказал бы об обитателях особняка Флорентийца.
– Я и сейчас порой спрашиваю себя, не во сне ли я видел этих людей? Возможно ли, чтобы такое количество красоты и доброты было собрано в одном месте Лондона? – Бронский задумался, точно куда-то уносясь мыслями, и тихо продолжал: – Когда я увидел Иллофиллиона входящим в столовую, я сразу понял, что это именно он, хотя никто мне этого не говорил. Помимо его исключительной красоты, в Иллофиллионе есть что-то, чего я не умею выразить, но что совершенно определённо напоминает мне Флорентийца. Что это, я ещё не понимаю, но это нечто такое, что никому, кроме этих двух людей, не свойственно. Много я повидал людей, и людей великих, но в Иллофиллионе и во Флорентийце что-то божественное – до того оно высоко – бросилось мне в глаза и поразило меня.
У двери послышались голоса, и в зал вошли Иллофиллион и Аннинов. На щеках музыканта горели пятна, очевидно, или у него был жар, или он пережил очень сильное волнение. Он приветливо поздоровался с нами, предложил нам фрукты и прохладительные напитки, но ни того, ни другого у нас просто не нашлось времени отведать.
– Итак, заканчивайте ваш труд, Сергей Константинович, и отложите концерт на несколько дней. С вашего разрешения, я приведу потом целую толпу народа, жаждущую послушать вас. Вы совершенно здоровы. А кроме того, вам ещё придётся помочь мне лечить вашей музыкой двух больных. Без музыки в данный момент их не вылечить. Мы с вами выработаем программу и, я надеюсь, вернём им разум, – прощаясь, говорил Иллофиллион.
Тут уж я был поражён до полного ловиворонства. Лечить музыкой? Так я и ушёл, не собрав мозгов, и, если бы не жара, стоял бы, наверное, на месте. Но солнце жгло немилосердно даже сквозь вуаль, и Иллофиллион набросил мне на голову толстенное махровое полотенце Бронского, которое смочил в фонтане, чем привёл меня несколько в себя. Дома Иллофиллион велел мне полежать, пока он приготовит лекарство для Максы, а Бронского попросил разыскать Кастанду.
Едва я лёг, как мгновенно заснул. Мне показалось, что я спал бог знает как долго. На самом же деле оказалось, что проспал я не более двадцати минут, а отдохнул при этом чудесно. Иллофиллион разбудил меня, дал мне очень вкусное питьё, сказав, что теперь пить можно. Я взял микстуру для Максы, ещё какие-то лекарства для передачи сестре Александре и должен был привести с собой обратно сестру милосердия специально для Игоро. Я радовался, что сейчас пойду чудесным лесом. Напиток, который дал мне Иллофиллион, сделал меня малочувствительным к жаре. Мне хотелось побыть одному и подумать обо всём пережитом за эти дни. Но возвратился Бронский и, узнав, что я иду в незнакомое ему место, так умоляюще посмотрел на Иллофиллиона, что тот рассмеялся и, лукаво посмотрев на меня, сказал:
– Там у Лёвушки завелась зазнобушка, Алдаз! Если он решится на самопожертвование и возьмёт вас туда с собой, я буду рад. Для вас там найдётся много интересного, на что можно посмотреть.
– Лёвушка, я буду нем, как пень, услужлив, как раб, благодарен, как ребёнок. Возьмите меня.
Я даже подавился от смеха, такое необычайное выражение, вернее, целая гамма сменяющихся выражений промелькнула на его лице. Он выпрямился и громовым голосом, точно клятву на мече, выговорил:
– Буду нем, как пень. – Потом согнулся, точно весь сузился, точь-в-точь льстивый раб, и сахарным голосом произнёс: – Услужлив, как раб.
И вдруг, широко улыбнувшись, распустил все складки лица, только что сморщенного и подлизывающегося, и ясным, детским голосом, наивно глядя мне в глаза, очаровательно шепелявя, сказал:
– Благодарен, как ребёнок.
Всё это было для меня так неожиданно, что я, разумеется, всё на свете забыл, бросился ему на шею и заявил, что теперь понимаю, почему он покорил мир.
Всё ещё смеясь, мы пустились в путь к сестре Александре. Я хорошо запомнил дорогу, и, хотя Бронский был таким увлекательным собеседником, что легко можно было впасть в рассеянность, я чувствовал себя вдвойне ответственным и перед Иллофиллионом, и перед моим новым знакомым, в котором так многое меня пленяло, и потому был всё время настороже и не перепутал ни одного поворота.
Макса ещё спал, а сестра Алдаз на ломаном русском языке, который едва можно было понять, с помощью жестов и мимики своего прелестного личика старалась объяснить мне, что бедный Макса очень страдает. Я обещал передать это Иллофиллиону и прибежать ещё раз к ней, если Иллофиллион даст для больного что-либо облегчающее.
Мы повидали сестру Александру, и она познакомила нас с сиделкой, которой она поручила ухаживать за Игоро; вместе с ней мы поспешили обратно. Во время моего разговора с Алдаз Бронский не спускал с неё глаз, и лицо его выражало нескрываемое восхищение. Взглянув на него после того, как мы вошли в лес, где я снова ожидал услышать его увлекательные рассказы, я увидел печальное, углублённое в себя лицо совсем нового человека. С ним произошла полная метаморфоза. На лице его отражалось какое-то мудрое спокойствие, нечто похожее на то выражение, которое я часто подмечал на лице брата Николая. Но на лице Бронского эта мудрость носила сейчас печать скорби.
Его высокий лоб прорезала морщина, глаза точно не видели ничего окружающего, губы были плотно сжаты, как будто бы он решал новую, внезапно вставшую перед ним проблему. Я не посмел нарушить его сосредоточенности и даже старался идти медленно и бесшумно, чтобы не мешать его мыслям. Я представлял себе, что именно таким мудрецом бывает Бронский, когда обдумывает наедине свои роли. Уже почти на опушке леса он вдруг глубоко вздохнул, провёл рукой по лицу и волосам и улыбнулся мне.
– Я так далеко был сейчас, Лёвушка. Иногда моя фантазия уносит меня от действительности, я впадаю в какую-то прострацию и рисую себе прошлое тех образов или людей, которых мне надо изобразить на сцене, или же тех живых людей, которые произвели на меня глубокое впечатление. Прав я или нет в своих сценических образах, – о том судить людям, так или иначе воспринимающим созданные мною образы. Но самое странное в игре моего воображения – это то, что в реальном прошлом живых людей, если только они меня целиком захватили, я никогда до сих пор не ошибался. Не знаю сам, как и почему, но я читаю их прошлое совершенно ясно, как ряд мелькающих передо мной картин. Сейчас весь внешний вид и мимика этой вашей очаровательной приятельницы Алдаз так меня пленили, что я впал в это состояние прострации и увидел много-много картин из её прошлого. Я увидел сначала малютку-индианку, спящую в мешке за спиною у матери – индианки с тёмно-красной кожей. Рядом с ней шёл отец девочки, неся на спине мешок с тяжёлым грузом. Потом я увидел ту же мать уже с девочкой-подростком, оплакивающими убитого отца. Дальше: высокий, страшно высокий красавец на коне подобрал обеих несчастных, сидевших в отчаянии ночью у костра. Потом я увидел мать и дочь с караваном верблюдов, пересекающих пустыню, затем – нечто вроде школы, где я увидел Алдаз уже одну, лет тринадцати, и наконец, больницу, где Алдаз давала лекарство какому-то старику. Меня поразила жизнь этой юной девушки, такая безрадостная, монотонная, протекающая в лесах и дебрях, а ведь у неё ярчайший мимический талант. Судя по её движениям, необычайно пластичной походке и пропорциональности сложения, она должна танцевать как богиня, восхищать людей и пробуждать в них самое высокое и светлое чувство восторга. А она прозябает в глуши. Даже в древности, и то она проявила бы свой талант в обществе, была бы жрицей, танцовщицей в каком-нибудь храме. Вот о чём я думал, и, как всегда, судьбы людей и их неописуемая сказочность потрясли меня и на этот раз. Надо же было в глухом лесном уголке появиться рыцарю и спасти мать и дочь, уже смиренно приготовившихся быть растерзанными дикими зверями! И для чего же он их спас? Чтобы гениальный дар девочки погиб у коек больных!
Я стоял, разинув рот, у опушки леса, смотрел на Бронского и раздумывал, кто из нас помешанный, не замечая того, что сестра милосердия, шедшая с нами – тоже туземка, не понимающая русского языка, на котором мы с Бронским говорили, – выражала все признаки нетерпения. Должно быть, потеряв его окончательно, она мне сказала на плохом английском языке:
– Скоро, скоро, господин, вперёд. Доктор меня ждёт.
Я извинился перед нею и бросился вперёд с такой быстротой, что мои спутники еле поспевали за мной. Доставив к Кастанде сестру и Бронского, я поспешил к Иллофиллиону. Конечно, я сейчас снова ворвался бы к нему с ещё большим темпераментом, чем в первый раз, но, к счастью, встретил его у площадки лестницы шедшим мне навстречу. Он, очевидно, намеревался сказать мне что-то другое, но, увидев моё лицо, спросил:
– Что с тобой приключилось, друг?
– Пойдёмте в вашу комнату, Иллофиллион, мне необходимо вам кое-что сказать. Вы знаете, что Бронский колдун? Он может читать прошлое людей. Иллофиллион, миленький, вы можете знать, кем и чем был человек до встречи с вами?
Я торопился, говорил сбивчиво, с очень серьёзным видом, и всё же не мог не заметить, каким юмором светились глаза Иллофиллиона. Он привёл меня в себя, и я рассказал ему всё, что говорил мне Бронский, в том числе и то, как он прочёл прошлое Алдаз.
– Как бы я хотел узнать, правду ли видел Бронский насчёт жизни Алдаз. Иллофиллион, дорогой, можете ли вы это узнать?! – Я спрашивал, горя нетерпением, и никак не мог понять, как это Иллофиллион может спокойно сидеть, когда я ему передаю такие потрясающие вести.
– Я думаю, что тебе проще всего узнать самому, Лёвушка, правдиво ли Бронский описал тебе прошлое сестры Алдаз.
– Как же это? Сколько бы я ни старался, я ещё ни разу не видел никаких картин. Или вы думаете, что я должен очень сильно думать о Флорентийце и спросить его? – выпалил я, снова впадая в азарт желания узнать истину или убедиться, что Бронский просто маньяк, одержимый определённым пунктиком.
Иллофиллион засмеялся и, поглаживая меня по голове, что помогло мне мгновенно прийти в себя, сказал:
– Экое ты дитя малое, Лёвушка. Неужели я мог бы посоветовать тебе беспокоить твоего великого друга такими мелкими делами. Это всё равно, что обращаться к нему с вопросами, как тебе научиться правильно завязывать сандалии или ставить на их подошвы заплаты. Я имел в виду самое простое, ничуть не превышающее твоих сил дело, – всё так же ласково поглаживая мою голову и улыбаясь, говорил мне обожаемый, снисходительный друг. – Ты сам спроси Алдаз, когда вечером, после чая, мы пойдём накладывать Максе новые повязки. Кстати, возьми эту сумку, здесь всё, что нам будет необходимо при вечернем обходе. А теперь пойди прими душ и приляг отдохнуть в своей комнате. Ты так бежал, что тебе необходимо прийти в себя. Если, вернувшись сюда через полчаса, я найду тебя в спокойном состоянии, мы пойдём в комнату Али, и я дам тебе книги для первоначального знакомства с языком пали.
– О, Иллофиллион, какой же вы добрый! Я опять проштрафился, а вы мне даже выговора не сделали. Можете не сомневаться, вы найдёте меня совершенно спокойным денди!
– Смотри, вот тут-то и не проштрафься, – улыбнулся мне на прощание Иллофиллион.
Я и не заметил, какой пылью я оказался покрытым после дороги. Даже на блестящем полу я оставлял пыльные следы. С помощью Яссы я привёл себя в порядок, убрал комнату Иллофиллиона и стал поджидать моего друга, который немного задерживался.
Образ Бронского снова встал передо мной, и нарисованные им в лесу картины оживали в моей фантазии. Мне так и представлялся высоченный рыцарь с чёрной бородой, подхватывающий мать и дитя в своё седло в страшном, темнеющем лесу. Так как я никогда не видел живого рыцаря, а образ высоченного черноволосого человека жил в моей душе только один, то я связал картину Бронского с личностью Али.
Как хорошо всё укладывалось дальше в моей поэтической фантазии! Али подобрал несчастных мать и дочь и со своим караваном переправил их в Общину, где Алдаз и поступила в школу. Образ Али завладел мною. Я уже готов был мысленно позвать его и спросить, не подбирал ли он на дороге двух сирот, как дверь открылась и Иллофиллион окликнул меня.
– Я теперь знаю, кто был тот всадник, спасший Алдаз. Это был, конечно, Али. И дальше всё складно выходит, – не дав опомниться Иллофиллиону, бросился я к нему.
– Али или не Али спас Алдаз – это не так важно. Но то, что ты всё же не проникся достаточным вниманием к моим словам и хотел беспокоить Али по пустякам, – это нехорошо. Делать сейчас такую печальную мину и огорчаться не следует, но обрати внимание на две вещи: ни одного лишнего слова не говори, пока окончательно не обдумаешь то, о чём хочешь говорить или просить. Это одно. Второе: если я дал тебе задачу, а я сказал, что мы пойдём в комнату Али учиться, надо было приготовить себя, привести в себе всё в равновесие, чтобы твоё рабочее место оказалось в гармонии со всеми твоими творческими способностями. Мы пойдём в комнату великого мудреца, милосердие которого равно его мудрости. Милосердие его к тебе огромно. А твоё внимание, вообще очень ограниченное, собрано ли оно сейчас? Очистил ли ты его от мелких мыслей суеты? Проникся ли ты великой радостью служить когда-нибудь человеку благодаря тем знаниям, которые тебе решил открыть Али, посылая тебя сюда?
Только тогда ты можешь встретиться с Али и Флорентийцем и стать сотрудником в общей с ними работе, когда научишься входить в полную сосредоточенность. Тогда ты разделишь их труд и будешь полезен в их работе всем тем, кто тебя окружает. Ты проникнешь в их творческий путь настолько, насколько твоя верность им будет связывать тебя постоянно, легко и просто, с ними и с их путём любви к человеку. Ты здесь присутствуешь не только для того, чтобы обновить свой организм в течение нескольких лет и снова уйти в труд, через который будешь расточать перлы своего гения в утешение и помощь людям. Ты здесь гость Вечности, в Ней ты здесь встречен, с Нею уйдёшь. И каждый день твоей жизни – день дежурства у черты Вечности. Не в Общине ты «погостил» и не из неё уйдешь, – здесь весь смысл твоего существования. Ты из Вечности пришёл, в Ней живёшь в форме временного Лёвушки на земле и к Ней уйдёшь, но уйдёшь, обогащённый новым опытом, с открытыми глазами, постигая путь к совершенствованию и зная, как работать над собой, чтобы добиваться духовной освобождённости. Ты увидишь здесь многих гениев, узнаешь особый путь их жизни на земле. Ты узнаешь здесь ещё больше простых людей, в которых раскрываются лишь некоторые черты их талантов. Тяжкий или лёгкий путь, которым они следуют, зависит лишь от того количества предрассудков и личных слабостей, которые им удаётся с себя сбросить, то есть всё определяется тем, насколько они сумеют освободить заключённую в них Вечность от условностей.
Всё это говорил мне Иллофиллион, пока мы шли на островок Али, где нас снова встретили сторож и белый павлин. Поднимаясь в комнату Али, я был полон благоговения и благодарности к моему дорогому наставнику. Как-то особенно чётко ложилось сегодня мне на сердце каждое его слово. И в первый раз я не испытывал никаких сомнений и сожалений о собственной малости и неспособности, легко и просто подходя к книжным шкафам.
Иллофиллион тронул какую-то кнопку, и стенка раздвинулась, открывая за собою ещё ряд белых полок, полных книг. И каких только книг здесь не было! Иллофиллион вынул три небольшие книги, очень старинного вида, снова нажал невидимую мне кнопку, стенка сдвинулась, и я даже не мог различить, где она только что раскрывалась.
Подойдя к письменному столу Али, Иллофиллион раскрыл его куполообразную крышку из пальмового дерева, изображавшую два больших листа латании[2 - Латания – разновидность пальмы. – Прим. ред.]. Он усадил меня за стол, сел рядом и стал объяснять мне написание и произношение букв языка пали. Мне всё казалось очень трудным, так как я вообще не знал ни одного восточного языка, и потому первые слова незнакомого языка, такого чуждого мне, озадачивали меня.
Но преподавательский талант моего мудрого Учителя был на такой высоте, что, когда ударил первый гонг к обеду, я уже мог свободно читать и произносить некоторые слова. Иллофиллион показал мне, как закрывать и открывать стол, задал мне урок к следующему дню, и мы спустились в парк, в обеденную столовую.
Первое, на кого я обратил внимание, когда мы вошли в столовую, была Андреева, беседовавшая с каким-то стариком на непонятном мне языке. Судя по интонациям, я понял, что она на чём-то настаивает, а старик не поддаётся и в свою очередь пытается её убедить. Сидевший рядом Ольденкотт, очевидно, тоже не понимал этого языка и, когда мы вошли, беспомощно посмотрел на Иллофиллиона, как бы прося его вмешаться в их разговор. Но Иллофиллион, взяв меня под руку, поклонился им и прошёл прямо к нашим местам.
Постепенно столовая наполнилась, заняли свои места и Бронский с художницей. Снова я заметил среди присутствующих несколько особенно интересных лиц, но никак не мог охватить взглядом всех, кто сидел за столами.
– Не спеши узнать всех сразу, Лёвушка, постепенно ты познакомишься со всеми. Многих ты сможешь увидеть поближе завтра у Аннинова. А сейчас – я вижу, как тебя это интересует – я тебе объясню, о чём спорит Наталия Владимировна. Ей хочется посмотреть на развалины одного очень и очень древнего города. Со свойственным ей темпераментом она готова немедленно двинуться в путь, а старик-проводник отказывается ехать туда прямо сейчас, уверяя, что в данную минуту это опасно. Пути туда почти восемь суток по знойной, безводной пустыне или же через глухие топкие джунгли, где много диких зверей и змей. Надо выждать. Недели через три туда пойдёт караван, и можно будет, присоединившись к нему, проехать безопасно.
Лицо Андреевой показалось мне сейчас бурным ураганом. Ольденкотт несколько раз вздохнул и что-то тихо сказал своей соседке. Та рассмеялась, посмотрела на меня и сказала довольно громко мне через стол:
– Я собираю компанию бесстрашных людей, любящих путешествовать в пустыне. Не хотите ли поехать с нами, чтобы осмотреть один интереснейший древний город, вернее, его развалины? Говорят, днём они мертвы, но с закатом солнца на этих развалинах появляются тигры, львы, шакалы и обезьяны в таком количестве, что всё вокруг буквально кишит ими.
Жара была уже очень сильная. Иллофиллион нахлобучил мне шляпу и спустил вуаль, посоветовав сделать то же самое и своему новому ученику, и мы, перейдя несколько дорожек, очутились в доме Аннинова.
Всё в этом доме было какое-то особенное. Сразу же меня поразило, что из небольшой передней дверь выходила прямо в просторный белый зал, где посреди комнаты стоял белый рояль, а по стенам несколько диванов – жёстких и тоже белых. На тумбе из чёрного мрамора была какая-то небольшая статуя, показавшаяся мне сначала скульптурным портретом Данте. Потом я увидел, что это было изображение Будды.
Слуга провел Иллофиллиона через большой зал в следующую комнату, а мы с Бронским остались ждать в зале. Он стал мне рассказывать об Аннинове, его гениальности, успехе у публики и о его страданиях. Он давно покинул родину, очень страдал от тоски по ней, но никогда туда не возвращался, скитаясь по всему свету. Бронский не знал, что заставило музыканта покинуть родину, так горячо им любимую. Но он был уверен, что главная причина его болезни сердца состояла в его постоянной тоске по ней.
Иллофиллион довольно долго пробыл у больного. Бронский, видя мой восторг при описании его впечатлений от встречи с Флорентийцем, и сам, очевидно, находясь под сильным влиянием мудрости и благородства моего высокого друга, рассказал мне подробно, как он был в особняке Флорентийца в Лондоне, встречал там моего брата и от него получил мой рассказ. Он видел также Наль и её подругу Алису, красотой которых был так поражён и восхищён, что до сих пор не знает, которая из них лучше. Бронский утверждал, что Алиса – это Дездемона, а Наль такая юная и вместе с тем столь величественная, что для неё он не находит имени в своём артистическом словаре. По словам артиста, такой женщины он ещё не видел и готов был бы заподозрить в преувеличении всех, кто ему рассказал бы об обитателях особняка Флорентийца.
– Я и сейчас порой спрашиваю себя, не во сне ли я видел этих людей? Возможно ли, чтобы такое количество красоты и доброты было собрано в одном месте Лондона? – Бронский задумался, точно куда-то уносясь мыслями, и тихо продолжал: – Когда я увидел Иллофиллиона входящим в столовую, я сразу понял, что это именно он, хотя никто мне этого не говорил. Помимо его исключительной красоты, в Иллофиллионе есть что-то, чего я не умею выразить, но что совершенно определённо напоминает мне Флорентийца. Что это, я ещё не понимаю, но это нечто такое, что никому, кроме этих двух людей, не свойственно. Много я повидал людей, и людей великих, но в Иллофиллионе и во Флорентийце что-то божественное – до того оно высоко – бросилось мне в глаза и поразило меня.
У двери послышались голоса, и в зал вошли Иллофиллион и Аннинов. На щеках музыканта горели пятна, очевидно, или у него был жар, или он пережил очень сильное волнение. Он приветливо поздоровался с нами, предложил нам фрукты и прохладительные напитки, но ни того, ни другого у нас просто не нашлось времени отведать.
– Итак, заканчивайте ваш труд, Сергей Константинович, и отложите концерт на несколько дней. С вашего разрешения, я приведу потом целую толпу народа, жаждущую послушать вас. Вы совершенно здоровы. А кроме того, вам ещё придётся помочь мне лечить вашей музыкой двух больных. Без музыки в данный момент их не вылечить. Мы с вами выработаем программу и, я надеюсь, вернём им разум, – прощаясь, говорил Иллофиллион.
Тут уж я был поражён до полного ловиворонства. Лечить музыкой? Так я и ушёл, не собрав мозгов, и, если бы не жара, стоял бы, наверное, на месте. Но солнце жгло немилосердно даже сквозь вуаль, и Иллофиллион набросил мне на голову толстенное махровое полотенце Бронского, которое смочил в фонтане, чем привёл меня несколько в себя. Дома Иллофиллион велел мне полежать, пока он приготовит лекарство для Максы, а Бронского попросил разыскать Кастанду.
Едва я лёг, как мгновенно заснул. Мне показалось, что я спал бог знает как долго. На самом же деле оказалось, что проспал я не более двадцати минут, а отдохнул при этом чудесно. Иллофиллион разбудил меня, дал мне очень вкусное питьё, сказав, что теперь пить можно. Я взял микстуру для Максы, ещё какие-то лекарства для передачи сестре Александре и должен был привести с собой обратно сестру милосердия специально для Игоро. Я радовался, что сейчас пойду чудесным лесом. Напиток, который дал мне Иллофиллион, сделал меня малочувствительным к жаре. Мне хотелось побыть одному и подумать обо всём пережитом за эти дни. Но возвратился Бронский и, узнав, что я иду в незнакомое ему место, так умоляюще посмотрел на Иллофиллиона, что тот рассмеялся и, лукаво посмотрев на меня, сказал:
– Там у Лёвушки завелась зазнобушка, Алдаз! Если он решится на самопожертвование и возьмёт вас туда с собой, я буду рад. Для вас там найдётся много интересного, на что можно посмотреть.
– Лёвушка, я буду нем, как пень, услужлив, как раб, благодарен, как ребёнок. Возьмите меня.
Я даже подавился от смеха, такое необычайное выражение, вернее, целая гамма сменяющихся выражений промелькнула на его лице. Он выпрямился и громовым голосом, точно клятву на мече, выговорил:
– Буду нем, как пень. – Потом согнулся, точно весь сузился, точь-в-точь льстивый раб, и сахарным голосом произнёс: – Услужлив, как раб.
И вдруг, широко улыбнувшись, распустил все складки лица, только что сморщенного и подлизывающегося, и ясным, детским голосом, наивно глядя мне в глаза, очаровательно шепелявя, сказал:
– Благодарен, как ребёнок.
Всё это было для меня так неожиданно, что я, разумеется, всё на свете забыл, бросился ему на шею и заявил, что теперь понимаю, почему он покорил мир.
Всё ещё смеясь, мы пустились в путь к сестре Александре. Я хорошо запомнил дорогу, и, хотя Бронский был таким увлекательным собеседником, что легко можно было впасть в рассеянность, я чувствовал себя вдвойне ответственным и перед Иллофиллионом, и перед моим новым знакомым, в котором так многое меня пленяло, и потому был всё время настороже и не перепутал ни одного поворота.
Макса ещё спал, а сестра Алдаз на ломаном русском языке, который едва можно было понять, с помощью жестов и мимики своего прелестного личика старалась объяснить мне, что бедный Макса очень страдает. Я обещал передать это Иллофиллиону и прибежать ещё раз к ней, если Иллофиллион даст для больного что-либо облегчающее.
Мы повидали сестру Александру, и она познакомила нас с сиделкой, которой она поручила ухаживать за Игоро; вместе с ней мы поспешили обратно. Во время моего разговора с Алдаз Бронский не спускал с неё глаз, и лицо его выражало нескрываемое восхищение. Взглянув на него после того, как мы вошли в лес, где я снова ожидал услышать его увлекательные рассказы, я увидел печальное, углублённое в себя лицо совсем нового человека. С ним произошла полная метаморфоза. На лице его отражалось какое-то мудрое спокойствие, нечто похожее на то выражение, которое я часто подмечал на лице брата Николая. Но на лице Бронского эта мудрость носила сейчас печать скорби.
Его высокий лоб прорезала морщина, глаза точно не видели ничего окружающего, губы были плотно сжаты, как будто бы он решал новую, внезапно вставшую перед ним проблему. Я не посмел нарушить его сосредоточенности и даже старался идти медленно и бесшумно, чтобы не мешать его мыслям. Я представлял себе, что именно таким мудрецом бывает Бронский, когда обдумывает наедине свои роли. Уже почти на опушке леса он вдруг глубоко вздохнул, провёл рукой по лицу и волосам и улыбнулся мне.
– Я так далеко был сейчас, Лёвушка. Иногда моя фантазия уносит меня от действительности, я впадаю в какую-то прострацию и рисую себе прошлое тех образов или людей, которых мне надо изобразить на сцене, или же тех живых людей, которые произвели на меня глубокое впечатление. Прав я или нет в своих сценических образах, – о том судить людям, так или иначе воспринимающим созданные мною образы. Но самое странное в игре моего воображения – это то, что в реальном прошлом живых людей, если только они меня целиком захватили, я никогда до сих пор не ошибался. Не знаю сам, как и почему, но я читаю их прошлое совершенно ясно, как ряд мелькающих передо мной картин. Сейчас весь внешний вид и мимика этой вашей очаровательной приятельницы Алдаз так меня пленили, что я впал в это состояние прострации и увидел много-много картин из её прошлого. Я увидел сначала малютку-индианку, спящую в мешке за спиною у матери – индианки с тёмно-красной кожей. Рядом с ней шёл отец девочки, неся на спине мешок с тяжёлым грузом. Потом я увидел ту же мать уже с девочкой-подростком, оплакивающими убитого отца. Дальше: высокий, страшно высокий красавец на коне подобрал обеих несчастных, сидевших в отчаянии ночью у костра. Потом я увидел мать и дочь с караваном верблюдов, пересекающих пустыню, затем – нечто вроде школы, где я увидел Алдаз уже одну, лет тринадцати, и наконец, больницу, где Алдаз давала лекарство какому-то старику. Меня поразила жизнь этой юной девушки, такая безрадостная, монотонная, протекающая в лесах и дебрях, а ведь у неё ярчайший мимический талант. Судя по её движениям, необычайно пластичной походке и пропорциональности сложения, она должна танцевать как богиня, восхищать людей и пробуждать в них самое высокое и светлое чувство восторга. А она прозябает в глуши. Даже в древности, и то она проявила бы свой талант в обществе, была бы жрицей, танцовщицей в каком-нибудь храме. Вот о чём я думал, и, как всегда, судьбы людей и их неописуемая сказочность потрясли меня и на этот раз. Надо же было в глухом лесном уголке появиться рыцарю и спасти мать и дочь, уже смиренно приготовившихся быть растерзанными дикими зверями! И для чего же он их спас? Чтобы гениальный дар девочки погиб у коек больных!
Я стоял, разинув рот, у опушки леса, смотрел на Бронского и раздумывал, кто из нас помешанный, не замечая того, что сестра милосердия, шедшая с нами – тоже туземка, не понимающая русского языка, на котором мы с Бронским говорили, – выражала все признаки нетерпения. Должно быть, потеряв его окончательно, она мне сказала на плохом английском языке:
– Скоро, скоро, господин, вперёд. Доктор меня ждёт.
Я извинился перед нею и бросился вперёд с такой быстротой, что мои спутники еле поспевали за мной. Доставив к Кастанде сестру и Бронского, я поспешил к Иллофиллиону. Конечно, я сейчас снова ворвался бы к нему с ещё большим темпераментом, чем в первый раз, но, к счастью, встретил его у площадки лестницы шедшим мне навстречу. Он, очевидно, намеревался сказать мне что-то другое, но, увидев моё лицо, спросил:
– Что с тобой приключилось, друг?
– Пойдёмте в вашу комнату, Иллофиллион, мне необходимо вам кое-что сказать. Вы знаете, что Бронский колдун? Он может читать прошлое людей. Иллофиллион, миленький, вы можете знать, кем и чем был человек до встречи с вами?
Я торопился, говорил сбивчиво, с очень серьёзным видом, и всё же не мог не заметить, каким юмором светились глаза Иллофиллиона. Он привёл меня в себя, и я рассказал ему всё, что говорил мне Бронский, в том числе и то, как он прочёл прошлое Алдаз.
– Как бы я хотел узнать, правду ли видел Бронский насчёт жизни Алдаз. Иллофиллион, дорогой, можете ли вы это узнать?! – Я спрашивал, горя нетерпением, и никак не мог понять, как это Иллофиллион может спокойно сидеть, когда я ему передаю такие потрясающие вести.
– Я думаю, что тебе проще всего узнать самому, Лёвушка, правдиво ли Бронский описал тебе прошлое сестры Алдаз.
– Как же это? Сколько бы я ни старался, я ещё ни разу не видел никаких картин. Или вы думаете, что я должен очень сильно думать о Флорентийце и спросить его? – выпалил я, снова впадая в азарт желания узнать истину или убедиться, что Бронский просто маньяк, одержимый определённым пунктиком.
Иллофиллион засмеялся и, поглаживая меня по голове, что помогло мне мгновенно прийти в себя, сказал:
– Экое ты дитя малое, Лёвушка. Неужели я мог бы посоветовать тебе беспокоить твоего великого друга такими мелкими делами. Это всё равно, что обращаться к нему с вопросами, как тебе научиться правильно завязывать сандалии или ставить на их подошвы заплаты. Я имел в виду самое простое, ничуть не превышающее твоих сил дело, – всё так же ласково поглаживая мою голову и улыбаясь, говорил мне обожаемый, снисходительный друг. – Ты сам спроси Алдаз, когда вечером, после чая, мы пойдём накладывать Максе новые повязки. Кстати, возьми эту сумку, здесь всё, что нам будет необходимо при вечернем обходе. А теперь пойди прими душ и приляг отдохнуть в своей комнате. Ты так бежал, что тебе необходимо прийти в себя. Если, вернувшись сюда через полчаса, я найду тебя в спокойном состоянии, мы пойдём в комнату Али, и я дам тебе книги для первоначального знакомства с языком пали.
– О, Иллофиллион, какой же вы добрый! Я опять проштрафился, а вы мне даже выговора не сделали. Можете не сомневаться, вы найдёте меня совершенно спокойным денди!
– Смотри, вот тут-то и не проштрафься, – улыбнулся мне на прощание Иллофиллион.
Я и не заметил, какой пылью я оказался покрытым после дороги. Даже на блестящем полу я оставлял пыльные следы. С помощью Яссы я привёл себя в порядок, убрал комнату Иллофиллиона и стал поджидать моего друга, который немного задерживался.
Образ Бронского снова встал передо мной, и нарисованные им в лесу картины оживали в моей фантазии. Мне так и представлялся высоченный рыцарь с чёрной бородой, подхватывающий мать и дитя в своё седло в страшном, темнеющем лесу. Так как я никогда не видел живого рыцаря, а образ высоченного черноволосого человека жил в моей душе только один, то я связал картину Бронского с личностью Али.
Как хорошо всё укладывалось дальше в моей поэтической фантазии! Али подобрал несчастных мать и дочь и со своим караваном переправил их в Общину, где Алдаз и поступила в школу. Образ Али завладел мною. Я уже готов был мысленно позвать его и спросить, не подбирал ли он на дороге двух сирот, как дверь открылась и Иллофиллион окликнул меня.
– Я теперь знаю, кто был тот всадник, спасший Алдаз. Это был, конечно, Али. И дальше всё складно выходит, – не дав опомниться Иллофиллиону, бросился я к нему.
– Али или не Али спас Алдаз – это не так важно. Но то, что ты всё же не проникся достаточным вниманием к моим словам и хотел беспокоить Али по пустякам, – это нехорошо. Делать сейчас такую печальную мину и огорчаться не следует, но обрати внимание на две вещи: ни одного лишнего слова не говори, пока окончательно не обдумаешь то, о чём хочешь говорить или просить. Это одно. Второе: если я дал тебе задачу, а я сказал, что мы пойдём в комнату Али учиться, надо было приготовить себя, привести в себе всё в равновесие, чтобы твоё рабочее место оказалось в гармонии со всеми твоими творческими способностями. Мы пойдём в комнату великого мудреца, милосердие которого равно его мудрости. Милосердие его к тебе огромно. А твоё внимание, вообще очень ограниченное, собрано ли оно сейчас? Очистил ли ты его от мелких мыслей суеты? Проникся ли ты великой радостью служить когда-нибудь человеку благодаря тем знаниям, которые тебе решил открыть Али, посылая тебя сюда?
Только тогда ты можешь встретиться с Али и Флорентийцем и стать сотрудником в общей с ними работе, когда научишься входить в полную сосредоточенность. Тогда ты разделишь их труд и будешь полезен в их работе всем тем, кто тебя окружает. Ты проникнешь в их творческий путь настолько, насколько твоя верность им будет связывать тебя постоянно, легко и просто, с ними и с их путём любви к человеку. Ты здесь присутствуешь не только для того, чтобы обновить свой организм в течение нескольких лет и снова уйти в труд, через который будешь расточать перлы своего гения в утешение и помощь людям. Ты здесь гость Вечности, в Ней ты здесь встречен, с Нею уйдёшь. И каждый день твоей жизни – день дежурства у черты Вечности. Не в Общине ты «погостил» и не из неё уйдешь, – здесь весь смысл твоего существования. Ты из Вечности пришёл, в Ней живёшь в форме временного Лёвушки на земле и к Ней уйдёшь, но уйдёшь, обогащённый новым опытом, с открытыми глазами, постигая путь к совершенствованию и зная, как работать над собой, чтобы добиваться духовной освобождённости. Ты увидишь здесь многих гениев, узнаешь особый путь их жизни на земле. Ты узнаешь здесь ещё больше простых людей, в которых раскрываются лишь некоторые черты их талантов. Тяжкий или лёгкий путь, которым они следуют, зависит лишь от того количества предрассудков и личных слабостей, которые им удаётся с себя сбросить, то есть всё определяется тем, насколько они сумеют освободить заключённую в них Вечность от условностей.
Всё это говорил мне Иллофиллион, пока мы шли на островок Али, где нас снова встретили сторож и белый павлин. Поднимаясь в комнату Али, я был полон благоговения и благодарности к моему дорогому наставнику. Как-то особенно чётко ложилось сегодня мне на сердце каждое его слово. И в первый раз я не испытывал никаких сомнений и сожалений о собственной малости и неспособности, легко и просто подходя к книжным шкафам.
Иллофиллион тронул какую-то кнопку, и стенка раздвинулась, открывая за собою ещё ряд белых полок, полных книг. И каких только книг здесь не было! Иллофиллион вынул три небольшие книги, очень старинного вида, снова нажал невидимую мне кнопку, стенка сдвинулась, и я даже не мог различить, где она только что раскрывалась.
Подойдя к письменному столу Али, Иллофиллион раскрыл его куполообразную крышку из пальмового дерева, изображавшую два больших листа латании[2 - Латания – разновидность пальмы. – Прим. ред.]. Он усадил меня за стол, сел рядом и стал объяснять мне написание и произношение букв языка пали. Мне всё казалось очень трудным, так как я вообще не знал ни одного восточного языка, и потому первые слова незнакомого языка, такого чуждого мне, озадачивали меня.
Но преподавательский талант моего мудрого Учителя был на такой высоте, что, когда ударил первый гонг к обеду, я уже мог свободно читать и произносить некоторые слова. Иллофиллион показал мне, как закрывать и открывать стол, задал мне урок к следующему дню, и мы спустились в парк, в обеденную столовую.
Первое, на кого я обратил внимание, когда мы вошли в столовую, была Андреева, беседовавшая с каким-то стариком на непонятном мне языке. Судя по интонациям, я понял, что она на чём-то настаивает, а старик не поддаётся и в свою очередь пытается её убедить. Сидевший рядом Ольденкотт, очевидно, тоже не понимал этого языка и, когда мы вошли, беспомощно посмотрел на Иллофиллиона, как бы прося его вмешаться в их разговор. Но Иллофиллион, взяв меня под руку, поклонился им и прошёл прямо к нашим местам.
Постепенно столовая наполнилась, заняли свои места и Бронский с художницей. Снова я заметил среди присутствующих несколько особенно интересных лиц, но никак не мог охватить взглядом всех, кто сидел за столами.
– Не спеши узнать всех сразу, Лёвушка, постепенно ты познакомишься со всеми. Многих ты сможешь увидеть поближе завтра у Аннинова. А сейчас – я вижу, как тебя это интересует – я тебе объясню, о чём спорит Наталия Владимировна. Ей хочется посмотреть на развалины одного очень и очень древнего города. Со свойственным ей темпераментом она готова немедленно двинуться в путь, а старик-проводник отказывается ехать туда прямо сейчас, уверяя, что в данную минуту это опасно. Пути туда почти восемь суток по знойной, безводной пустыне или же через глухие топкие джунгли, где много диких зверей и змей. Надо выждать. Недели через три туда пойдёт караван, и можно будет, присоединившись к нему, проехать безопасно.
Лицо Андреевой показалось мне сейчас бурным ураганом. Ольденкотт несколько раз вздохнул и что-то тихо сказал своей соседке. Та рассмеялась, посмотрела на меня и сказала довольно громко мне через стол:
– Я собираю компанию бесстрашных людей, любящих путешествовать в пустыне. Не хотите ли поехать с нами, чтобы осмотреть один интереснейший древний город, вернее, его развалины? Говорят, днём они мертвы, но с закатом солнца на этих развалинах появляются тигры, львы, шакалы и обезьяны в таком количестве, что всё вокруг буквально кишит ими.