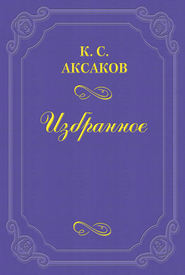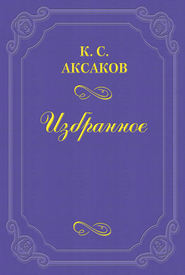По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Обозрение современной литературы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Далеко небеса ушли —
И к ним морская даль ушла.
Так робко набегает тень,
Так тайно свет уходит прочь,
Что ты не скажешь: минул день,
Не говоришь: настала ночь.
Стихотворения г. Жемчужникова[9 - Жемчужников А. М. (1821–1908) – поэт-лирик и сатирик, один на создателей Козьмы Пруткова.], при очень свободном легком стихе, исполнены подчас значения и даже мысли верной и благой, останавливающей внимание читателя.
Звучный прекрасный стих, лишенный, впрочем, всякой особенности и показывающий только, до какой степени выработалось у нас стихотворное искусство, – вот все, что можно сказать о г. Мее[10 - Мей Л. А. (1823–1862) – поэт, драматург, переводчик.].
Стихотворения Щербины[11 - Щербина Н. Ф. (1821–1869) – поэт, прозаик, автор антологических стихотворений.] – это тоже прекрасные стихи, сделавшиеся доступным достоинством для многих. Сочувствие его преимущественно, и кажется до излишества, устремлено к древнему миру. Больше не имеем мы ничего сказать о г. Щербине.
Стихотворения г. Стаховича[12 - Стахович М. А. (1809–1858) – поэт, драматург, фольклорист, музыкант, собирал и оранжировал для фортепиано и гитары народные песни (четыре тетради вышли в 1851–1854 гг.), написал книгу «Очерки семиструнной гитары» (1854).] имеют свою особенность. Стих его запечатлен чистосердечностью и задушевностью; он вырывается у него, как песня, – и как все искреннее, он пробуждает живое сочувствие в читателе, запоминается и не раз повторяется потом охотно.
В заключение скажем еще об одном поэте, который недавно довольно резко отделился от других: это гр. А. К. Толстой[13 - Толстой А. К. (1812–1875) – поэт, драматург, прозаик, сатирик, создатель, вместе с братьями Жемчужниковыми, Козьмы Пруткова.]. Еще и прежде в прекрасных стихах его слышна была русская струна и русское сочувствие; но в прошлом году было напечатано несколько его стихотворений, чрезвычайно замечательных. Всего замечательнее по своему, особому какому-то, строю стиха баллада «Волки», также «Ой, кабы Волга-матушка да вспять побежала» и «Колокол». Хороши и стихи «Дождя отшумевшего капли»[14 - Эти стихи, а также цитируемая ниже «Смесь», были напечатаны в журнале «Современник», 1856, т. 2, с. 273–276.], в них слышно раздумье о прошлых годах и какою-то искренностию звучат слова:
Не знаю, была ли в то время
Душа непорочна моя, —
Но многому б я не поверил,
Не сделал бы многого я.
Все это прекрасные стихотворения, полные мысли, мысли, которая рвется за пределы стиха, а в наше переходное время только такие стихотворения и могут иметь настоящее живое достоинство. Но особенно хорошо стихотворение, или, лучше, русская песня «Спесь». Она так хороша, что уже кажется не подражанием песне народной, но самою этою народною песнею. Чувствуешь, что вдохновение поэта само облеклось в эту народную форму, которая одела его, как собственная одежда, а не как заемный костюм. Одна эта возможность, чуть ли не впервые явившаяся, есть уже чрезвычайно важная заслуга; в этой песне уже не слышен автор: ее как будто народ спел. Хотя слишком дерзко отдельному лицу решать дело за народ, но осмеливаемся сказать, что, кажется, сам народ принял бы песню «Спесь» за свою. Приведем эту песню:
Ходит Спесь надуваючись,
С боку на бок переваливаясь.
Ростом-то Спесь аршин с четвертью,
Шапка-то на нем во целу сажень.
Пузо-то у него все в жемчуге;
Сзади-то у него раззолочено.
Зашел бы Спесь к отцу, к матери:
Да ворота некрашены;
Помолился бы Спесь в церкви божией:
Да пол не метён.
Идет Спесь, видит: на небе радуга;
Повернул Спесь в другую сторону:
Не пригоже-де мне нагибатися.
Вот что думаем мы о наиболее замечательных современных стихотворцах. Вообще же должно сознаться, что стихотворство современное потеряло прежнюю веру само в себя: стихи пишутся вяло, пишут их без убеждения, по какому-то преданию. Эта эпоха упадка стихотворной поэзии обозначилась появлением женщин-поэтов. Но и те пишут реже, однако пишут. Одна из них одарена истинным поэтическим талантом: это К. К. Павлова.
Кроме поэтов-стихотворцев, которых число, как и число их произведений, очень ограниченно, есть писатели-прозаики, тоже поэты, ибо сочиняют изящные произведения. Скажем здесь вообще об этой современной литературе, предоставляя себе ниже сказать особо о писателях, значительных по таланту.
Повести, романы и комедии в прозе читаются больше стихотворений, ибо тут есть описание вседневной жизни да еще анекдотический интерес, который так любезен праздному любопытству. Эта лукавая изящная проза продержится долее, чем откровенный стих. Впрочем, дурных повестей не найдешь теперь ни за какие деньги; все повести не дурны: в том-то и беда. Читаешь: есть как будто и занимательность, и как будто что-то вроде характеров, и слог не дурен, и даже как будто есть мысль; но все это одни призраки. Прочтешь: никакого впечатления не осталось: повесть или комедия забывается, как ничего не принесшая: ни мысли, ни образа, достойного утвердиться в душе после чтения; если же и встречаются кой-какие исключения, то они редки и отличаются от прочих повестей тем, что впечатление остается несколько дольше. Эти недурные повести не могут занять ни мысли, ни чувства. Представьте себе человека, который и не глуп и не умен, который обо всем имеет поверхностное понятие, говорит гладко – ничего не скажет, кажется умным по наружности, не будучи таким на самом деле, между тем имеет весь лоск приличия, так что даже никаким нечаянным оригинальным движением не выкажет себя самого и не отличится от других: согласитесь, что такой господин невыносимо скучен; всякая положительная глупость интереснее. Наши современные недурные повести, романы и комедии сильно похожи на означенного господина. Один из современных писателей (г. Авдеев)[15 - Авдеев М. В. (1824–1870) – прозаик, критик.] задал себе как-то очень искренний вопрос, на который он сам не нашел что отвечать: «Для чего мы все пишем?» В самом деле, господа, для чего вы пишете? Для чего пишут многочисленные авторы недурных повестей и романов? Немолчной потребности творческой в них не видно. Мысли, которой в жертву приносится вся жизнь и которая стремится высказаться везде, повесть ли это или драма, или другое сочинение, – такой мысли в них неприметно. Что заставляет их писать? А бог их знает. Настоящей побудительной причины, кажется, нет. Мы не спросили бы, конечно, Гоголя, для чего он пишет. Великий художественный гений, попавший в наше нехудожественное время и болезненно несший тяжесть его бремени, он, окруженный толпой микроскопических последователей, все свое литературное поприще проживающих одной какой-нибудь его фразой, одним оборотом его речи, – он стремился сказать нам многое, что нужно в это время вопросов и сомнений. Мы не спросим людей ученых, зачем они пишут? Они трудятся над решением великого вопроса русской жизни, как бы ни решали его розно. Но не можем не повторить вопроса многим, выступившим наружу, современным литераторам: для чего они пишут?
Как бы то ни было, как бы ни хлопотали г-да писатели, они бессилием своим создать что-нибудь – доказывают, что миновала их эпоха. Чаша прежней поэзии выпита; на дне теперь остается один отсед. Будем же иметь мужество правды и скажем: да, минула эпоха отвлеченной литературы, во всем обширном смысле этого слова; минула она еще ощутительнее в смысле более частном, в смысле литературы изящной, и минула она всего явственнее в том отделе изящной литературы (как и должно быть), который наиболее, самою формою своею, принадлежит художественным произведениям: то есть в отделе собственно так называемой поэзии, в отделе стихов. Что касается до произведений изящных в прозе, то здесь кипит еще целый рой немощных писателей, набежавших со всех сторон на опустевшее поприще. В области же стихотворства, даже и во внешнем смысле, становится пусто; стихотворения редки, в них нет поэтической искренней веры; бывают в них и мысль высока и стих силен, но стих и мысль не сливаются в одно цельное звучное созданье, и они не останавливают на себе общего внимания, по крайней мере, надолго. Хоть и жестка правда, а сказать ее надо. Отвлеченный стихотворный период, начавшийся с Кантемира и в особенности с Ломоносова, давший много прекрасных, поэтических, хотя отвлеченных, не народных созданий и продолжавшийся до сих пор, – стихотворный период в России окончился.
Бог с ним, с этим временем, временем отвлеченной и заемной умственной деятельности! Хорошо, что мы уже понимаем его ложность. Лучше былых самообольщений, лучше заемной неискренней, чуждой родной почве поэзии – наше строгое не поэтическое время. Когда и как явится опять поэзия, какой образ примет она, будет ли она чем-то невиданным, вновь ли поэтическое произведение будет принадлежать, как песня, всему народу: это связано с жизнью, и этого решить мы пока не беремся. Во всяком случае, прежняя отвлеченная поэзия прошла; новой, действительной и народной, – еще нет.
В наше время поэтическое произведение, хотя написанное с талантом (ибо таланты всегда возможны), может быть только средством, одним из способов для выражения той или другой мысли. Известен анекдот об математике, который, выслушав изящное произведение, спросил: что этим доказывается? Как ни странен этот вопрос в приведенном случае, но есть эпохи в жизни народной, когда при всяком, даже поэтическом, произведении, является вопрос: что этим доказывается? Таковы эпохи исканий, исследований, трудовые эпохи постижения и решения общих вопросов. Такова наша эпоха.
Все ли понимают великий вопрос, предстоящий теперь русскому человеку? Не все его понимают, но все испытывают его присутствие; одни сознательно идут к разрешению вопроса ели стоят перед ним в недоумении; на других отразился он отсутствием прежней деятельности, скукою, апатиею.
В области науки именно заметно у нас много полезной деятельности, которая должна дать богатые и живые плоды. Наука первая пробует свои силы и старается выйти из отвлеченности и подражательности, старается встать на свои ноги. Всего более чести в наше время ученым занятиям, предмет которых Россия со всех сторон. Изыскания, исследования, преимущественно по части русской истории и русского быта, должны по-настоящему быть делом всякого русского, неравнодушного к вопросу мысленной и жизненной самобытности в России; это личный вопрос каждого из нас. Общее дело России должно быть частным делом каждого русского.
Мы уже сказали о стихах и выразились вообще о прозаической изящной словесности. Но теперь надобно поговорить подробнее о тех писателях-прозаиках, которые выдаются из толпы. На поприще литературы имеется у нас много писателей с талантом, которые пишут, действуют, как будто защищая права литературы в современной эпохе, но которые не в силах остановить хода истории и всею массою, вместе с самою ареною увлекаются потоком времени. Кроме того, в них самих, как в писателях (мы говорим о писателях с талантом), в их произведениях обозначается, однако, ход, направление времени, историческая задача.
Просим не забывать, что мы пишем обозрение современной литературы, а не критику современных ее писателей; этому в нашей статье мы не намерены ни давать подробного отчета во всех отдельных произведениях того или другого писателя, ни составлять полной его литературной характеристики.
Находясь под влиянием чуждым, долго литература наша в повестях своих занималась преимущественно обществом, так называемым высшим или образованным, именно тем обществом, которое, отделясь от народа и лишась живительных корней родной почвы, всплыло на поверхность, отражая на своей плоскости все иностранные направления и интересы. Долго балы с соответственными княжнами и графами изображались пером наших писателей. Потом, после того, как гениальный художник указал с горьким смехом на действительность русской жизни, возникла так называемая натуральная школа, задавшая себе задачею быть естественною, натуральною и оттого принявшая это наименование. Иные говорят, что она создана Гоголем; нет, она возникла вследствие ложного понимания художественного гения, вследствие усвоения себе внешних его приемов, но не идеи и, конечно, не таланта великого художника. Искусственность и неестественность отношения к жизни еще более здесь выразились; ибо здесь было притязание на жизнь, и притязание совершенно отвлеченное. Механическое – отражение жизни, со всеми ее мелочами, но без ее смысла, производило обратное впечатление, и вся эта наружная верность жизни была клеветою на жизнь. Но всякое явление, не имеющее состоятельности внутренней, недолго держится и падает само собою: так пала и натуральная школа, и название ее перестало употребляться. Недолговечна наша литература в своих явлениях! Натуральная школа, ища натуральной пищи, спускалась в так называемые низменные слои общества и в силу этого доходила и до крестьян. Но и здесь она брала сперва лишь то, что ярче бросалось в глаза ее мелочному взгляду, лишь те случайные резкости, которые окружают жизнь, лишь одни родинки и бородавки. И как доволен был натуральный писатель, когда подслушивал у народа оборот или слово или даже произношение особенное; с какою гордостью писал он: тоись вместо: то есть! Но так как эти подвиги были не трудны, то вскоре появилось множество писателей, без труда усвоивших себе натуральные приемы, и образовалась целая фабрика повестей и романов: ее изделия скоро наполнили все журналы. Повести писались вдвоем и чуть ли не втроем. Но люди с талантом не могли долго удовлетворяться этой сухой, дешевой фабричной деятельностью. Прикосновение к крестьянину и, в лице его, к земле русской подействовало освежительно на писателей с талантом, – и крестьянин, взятый сперва как самый натуральный субъект, невольно представился им, хотя далеко еще не вполне, с другой, высшей своей стороны. Эта честь прежде всего принадлежит г. Тургеневу, за ним г. Григоровичу (в его «Деревне» крестьянин выставлен еще в духе натуральной школы), а за ним и другим более или менее талантливым писателям. Цель и самое название натуральной школы исчезли сами собою; но приемы ее остались; остался ее мелкий взгляд, ее пустое щеголянье ненужными подробностями: от всего этого доселе не могут избавиться почти все, даже наиболее даровитые, наши писатели. Как бы то ни было, писатели наши догадались или смутно почувствовали, что для литературы есть поважнее задачи и вопросы, чем удачное списывание того, что видит глаз и слышит ухо, и что достоинство их произведений есть дело, приобретаемое довольно легко, лишь только надо вооружиться терпением и откинуть от себя все серьезные требования мысли и искусства. И вот произведения писателей приняли иной, более степенный вид, но с прежними натуральными приемами и прежнею мелкостью взгляда. Справедливо заметил А. С. Хомяков, что в литературе нашей, хотя и заемной и искусственной, но все же производящейся в России, составляет главную задачу – вопрос общественный. В особенности видим мы это в комедии. В самом деле, предмет русской комедии – не отдельная личность, но общество, общественное зло, общественная ложь – таковы «Недоросль» и «Бригадир», «Ябеда», «Горе от ума», «Ревизор», «Игроки». Это – чисто аристофановское свойство комедии. То же стремление к общественному значению видим мы теперь и в изящной литературе нашей. Но это направление получило особенный вид. Предметом повестей наших и драм стали сословия. Сперва сословие крестьянское, которое глубоким содержанием и значением своим, все-таки непонятным, смутило беззаботных наших писателей и столкнуло их с пошлой дороги натуральной школы на более важную дорогу. Крестьяне стали предметом повестей, романов, даже драм. Потом явились купцы, сделавшиеся предметом преимущественно драматической литературы, но зато как-то особенно показавшиеся заманчивыми для наших комиков. Мы надеемся иметь случай сказать подробнее об этой литературе, когда будем говорить о сочинителях, почти исключительно посвятивших себя крестьянам или купцам. Обозначив общее значение нашей литературы, переходим к нашим писателям.
Прежде всего скажем о г. Тургеневе. Деятельность этого писателя с несомненным талантом перешла много изменений и представляет сама в себе ход нашей современной литературы, вполне ему соответствуя. Г. Тургенев начал со стихов. В первых его стихотворных произведениях сильно отзывалось лермонтовское направление, это странное хвастовство бездушного эгоизма, эта самодовольная насмешка надо всем, обличающая пустоту внутреннюю. Недавно вышли повести и рассказы г. Тургенева[16 - Имеются в виду «Повести и рассказы И. С. Тургенева с 1844 по 1856 г.», ч. 1–3. Спб., 1856.]; в них не вошли «Записки охотника», ни стихотворные его пьесы, ни драматические сочинения. Тем не менее в них, благодаря хронологическому (самому лучшему) порядку издания, виден весь ход нашего автора, а вместе и литературы нашей, которой он был и есть одним из соответственных представителей. Повести первого тома до того слабы, до того лишены всякого достоинства, что о них не следовало бы вовсе и упоминать. Но в них выражается то ложное настроение, которое довольно явственно выступило в нашей литературе, и потому скажем несколько слов и о них. «Андрей Колосов» еще весь проникнут тем лермонтовским направлением, которое под ложным видом будто бы силы скрывает только совершенное бездушие, самый сухой эгоизм и крайнее бесстыдство; эта сила – вещь весьма дешевая, как скоро бороться не с чем. Повесть «Три портрета» самым возмутительным и оскорбительным образом выражает то же направление. Из уважения к г. Тургеневу мы бы не желали видеть этой повести в печати. В своей повести «Андрей Колосов» автор называет мелкими хорошими чувствами раскаянье и сожаленье!.. Кажется, то же самое автор сказал как-то стихами:
Но, слабых душ мученья,
Не знал раскаянья и сожаленья[17 - К. Аксаков оговорился. Процитированных им строк в стихотворениях Тургенева нет.].
Это отголосок известных стихов Лермонтова:
Я понял, что душа ее была
Из тех, которым рано все понятно;
Для мук и счастья, для добра и зла,
В них пищи много; только невозвратно
Они идут, куда их повела
Случайность, – без раскаянья, упреков
И жалобы: им в жизни нет уроков[18 - Строки из поэмы Лермонтова «Сказка для детей» (строфа 21).].
Была же возможность так думать и говорить! Могли же до такой степени искажаться понятия. Раскаянье, сожаленье: это лучшее достояние души человеческой. Лучшее, неотъемлемое свойство человека – возможность сознать свою ошибку, откинуть ложный путь, осудить самого себя; только бездушная природа не знает раскаянья и вечно готова, но человек вечно не готов, человек есть постоянный зиждитель самого себя. И вдруг является, воззрение, где проповедуется постоянное себя оправдание, отсутствие суда над собою, отсутствие сожаленья и раскаянья… Что это, как не бездушный эгоизм? Но зачем тревожить прах отжившего учения! Оно превосходно заключило себя Тамариным[19 - Герой одноименного романа М. В. Авдеева.] и исчезло. Воспоминание об нем вызывает сожаление и смех.
Итак, вот с чего начал наш автор. Скоро остался он без опоры, ибо направление лермонтовское он бросил, а куда идти – еще не знал. Такую совершенно бесцветную деятельность, такое состояние автора, не знающего, куда преклонить голову, выражают его повести «Жид», «Брётер». Смысла их и понять нельзя. Но вот, наконец, сквозь самодовольную толпу разновидных господ с бритыми подбородками в немецких костюмах протеснился и стал перед автором образ русского крестьянина, и автор изобразил его с сочувствием. В 1847 году появились впервые «Записки охотника». Они начинались с рассказа «Хорь и Калиныч». «Московский сборник», написавший резкую статью о г. Тургеневе, поспешил изъявить сочувствие новому виду его авторской деятельности, признать замечательное достоинство «Записок охотника» и от души пожелать успехов автору на новом пути[20 - К. Аксаков имеет в виду свои «Три статьи г-на Имрек», опубликованные в «Московском литературном и ученом сборнике на 1847 год».]; это доброе желание было недаром. Г. Тургенев точно пошел по новому пути; появился ряд рассказов под общим названием: «Записки охотника», из которых многие истинно прекрасны; та живая струя России, струя народная, до которой коснулся г. Тургенев в первом рассказе, не раз блещет в них и освежительно действует на читателя, приближая его к той великой тайне жизни, которая лежит в русском народе, и давая ему ее предчувствовать: это уже заслуга. Замечательно, что рассказы из другого быта, в «Записках охотника», а также и отдельно написанные в то время, тоже получили достоинство, которого они не имели прежде, и выразили собою направление, совершенно противоположное прежнему. Нет, уже не хвастовство эгоизма явилось в них, а напротив, сознание дряиности человеческой! В них выражается большею частью то бессилие, та мелкая ложь, которые у нас сопровождают и проникают часто и ум и чувство и составляют болезнь нашего века. Какая перемена, какая разница, и разница спасительная, с предыдущим содержанием повестей и рассказов. Долой маску и геройский костюм! Вот оно, изнуренное лицо современного человека, не отмеченное ни властительною мыслию, ни глубокою любовью братскою. Это направление выражается даже в «Петушкове», особенно в «Дневнике лишнего человека», также в «Гамлете Щигровского уезда» (в этой повести, сверх того, еще затронута важная мысль о деспотическом, страшном значении кружка) и, наконец, в «Переписке». Мы должны, однако, сказать, что в «Записках охотника» у г. Тургенева, собственно в рассказах, не касающихся крестьянского быта, развилась чрезмерная подробность в описаниях: так и видно, как автор не прямо смотрит на предмет и на человека, а наблюдает и списывает; он чуть не сосчитывает жилки на щеках, волоски на бровях. Если автор думает этим средством схватить физиономию и жизнь явления, то это очень ошибочно; подобная подробность налагается, как рамка, на представление читателя, ибо ему ничего не остается дополнять, ибо свобода его собственного представления, которую необходимо должно возбуждать в нем чтение изящного произведения, стеснена, и явление утрачивает свою живость. Напротив того, схватите основные черты предмета и оставьте все остальное дополнить самому читателю; не связывайте свободы его представления. В каждом произведении деятельно участвует и читатель; породите в нем целый ряд таких ощущений, о которых вы не говорите, но которые возникают, ибо вы сумели тронуть то, что их производит. В истинно изящных произведениях сказано много того, о чем и не говорит автор; а наши авторы-статистики, кажется, добиваются, чтоб читателю ничего не оставалось желать и думать более. Они очень ошибаются, ибо они ограничивают впечатление и вместо полноты дают неполное (ибо ограниченное) представление, вместо богатства дают бедность, вместо силы слабость. В таких мелких, ничтожных описаниях заметно усилие, а усилие всегда отнимает силу. Жажда быть верным действительности доходит часто до цинизма у г. Тургенева. Но наш автор снова коснулся народа в двух превосходных своих рассказах «Муму» и «Постоялый двор». Это решительный шаг вперед. Эти повести выше «Записок охотника» как по более трезвому, более зрелому и более полновесному слову, так и по глубине содержания, особенно вторая. Здесь г. Тургенев относится к народу несравненно с большим сочувствием и пониманием, чем прежде; глубже зачерпнул сочинитель этой живой воды народной. Лицо Герасима в «Муму», лицо Акима в «Постоялом дворе»: это уже типические, глубоко значительные лица, в особенности второе. Мы не пишем здесь критики сочинений г. Тургенева, не даем полного отчета о каждом авторе, а пишем только обозрение современной литературы, потому и не распространяемся об этих двух прекрасных повестях, которые сами по себе заслуживают полного разбора. Кроме повестей из народного быта г. Тургенев написал еще и другие повести, из которых также видно, что он не стоит на одном месте, а идет вперед. Повесть «Два приятеля» показывает, что г. Тургенев не останавливается на картине одного бессилия прекрасной души, но ищет выхода. Этот выход находит он здесь в цельности и простоте жизни, которую выражают Верочка и Петр Васильевич. Весь рассказ прост и выразителен и уже изъят от подробной описи выводимых лиц. Справедливость требует сказать, что этой литературной статистики, если можно так выразиться, вообще меньше теперь у г. Тургенева. То же побуждение (стремление к простоте и искренности) видим, отчасти, и в «Якове Пасынкове», где с сочувствием выставлен человек, вовсе не разочарованный, вовсе не гордый, а напротив, кроткий и любящий. Недавно было у нас в моде смеяться над такими лицами; эта недостойная насмешка выходила из собственной бедности душевной насмехающихся, и потому тем с большим удовольствием встретили мы сочувствие автора к такому лицу, как Пасынков, – сочувствие, к какому способна лишь добросовестная, любящая душа. Нам остается сказать о двух повестях; «Рудин» и «Фауст». «Рудин» – едва ли не самое обработанное и глубоко задуманное сочинение г. Тургенева; здесь выставлен человек замечательный: с умом сильным, интересом высоким, но отвлеченный и путающийся в жизни вследствие желания строить ее отвлеченно, вследствие попытки все определять, объяснять, возводить в теорию. Лицо Рудина, изображенное автором, несмотря на недостатки свои, возбуждает в то же время сочувствие. «Фауст» есть последнее произведение г. Тургенева. Здесь противополагает он дрянности человеческой уже не только простую цельную естественную природу души, но цельность духовного начала, нравственную истину, вечную и крепкую, – опору, прибежище и силу человека. Эта повесть есть новый шаг вперед, есть уже верное и высокое созерцание; дай бог г. Тургеневу продолжать по этому пути.
Мы сказали о г. Тургеневе гораздо подробнее, нежели сколько допускали это пределы литературного обозрения; но г. Тургенев имеет понятное право на такое внимание, как писатель, деятельность которого представляет переходы самой литературы нашей, как писатель, не каменеющий в ошибочно избранной форме, но имеющий силы отделаться от ложного определения, постоянно идущий вперед в созерцании жизни и наконец зреющий и мужающий в самом таланте своем.
Г. Григорович не примыкает к лермонтовской эпохе литературы. Он прямо начинает с крестьянского быта. Описание крестьянского быта составляет его специальность, так сказать. Описание это очень верно (речь крестьянская изумительно подслушана в ее оттенках), но это достоинство было бы еще не велико. Нет, у г. Григоровича есть уважение к крестьянину, есть любовь, и вот почему его талант передает иногда живо образ крестьянина, иногда угадывает внутренний смысл его жизни, т<о> е<сть> русской жизни. «Антон-Горемыка», «Четыре времени года», «Мать и дочь», «Смедовская долина» – все это прекрасные, живые рассказы. «Рыбаки» есть уже целый роман из крестьянского быта; верности описания здесь очень много, даже слишком много, как и во всем, что пишет г. Григорович; но талант выбивается даже из-под этой наружной верности описаний; видно подчас одушевление и теплое чувство. С повестей г. Григоровича возник у нас особый отдел литературы, предметом которой – простой народ. Это направление утешительно, хотя изображение крестьянина почти всегда поверхностно и постоянно является ниже подлинника. Скажем несколько слов вообще об этом народном отделе нашей литературы.
Не так давно еще время, когда наша литература была собранием бледных копий с западного общества, изображением доморощенных героев и героинь a la Balzac, a la George Sand, наделенных столь богато подражательными страданиями и страстями. Вся эта область жизни, согретая искусственным жаром теплицы, может быть предметом для созерцания художника только с точки зрения высококомической, только в силу обличения ее лжи, элемента ее существования. Юмористический рассказ, комедия: вот где настоящее место для Печориных, для светских страстей и страданий. Попытки такого изображения этой сферы были, но попытки эти не были вполне искренни и падали только на некоторых представителей этой сферы, а не на самую сферу. Между тем мысль уже давно указывала на ложь всей этой области жизни, оторванной от жизни народной, указывала на простой народ, как на хранителя русских начал, указывала на его быт как на быт самостоятельно русский, в котором лежит для нас опора, наставление и надежда, из которого, как из зерна, разовьется самостоятельная жизнь для России, обогащенная опытом, укрепленная сознательною мыслию, прошедшая сквозь соблазн подражательности, сквозь искушение отрицания. Литература наша, относившись доселе с чувством какой-то гордости к крестьянам и вообще ко всему своебытному, приветствуя народ насмешкою, наконец иначе обратилась к русской народности, сперва с некоторым почтением, которого как будто стыдилась; как будто совестилась, что с русским мужиком она входит в сношения серьезные; но мало-помалу сила правды подействовала на наших писателей, и в них заговорило, может быть, родное чувство и родилось желание изобразить русского крестьянина во всем его великом человеческом достоинстве. Таким путем образовалось целое направление литературы, имеющее целью изображение простого народа, преимущественно крестьянина. Самые замечательные на этом поприще писатели: гг. Григорович, Писемский, Потехин и Стахович.
Стремление прекрасное, и за доброе желание нельзя не благодарить, но осуществляется ли оно на деле?
Предмет наших авторов другой: это правда; но произошла ли нужная перемена в них самих? Они изображают народность, но пробудилась ли она в самих писателях, поняли ли они русский народ, исполнились ли хотя отвлеченно, хотя в разумении, его духа? Одним словом, писатели наши, обратившись к народу, перестали ли сами быть иностранцами? Вот важные вопросы. На них ответ дают произведения писателей, и ответ этот не совсем благоприятен. Правда, мы должны сказать, что есть искреннее стремление понять народ и быть народным, а искреннее стремление не бывает бесплодным, что писатели смутно чуют народ и тайну его жизни, что они угадывают кой-что и сколько-нибудь приближаются к нему. Но столетнее верование не исчезает вдруг, и отделаться от него легко нельзя. В произведениях писателей наших мы это видим. Когда писатель обращается к такому народу, которому он чужд внутренне, и хочет изобразить его, то на что прежде всего обратит он внимание? Разумеется, на наружность: на то, что поразит его зрение, слух; он старается наблюдать и подмечать, он в народе видит ухватки: их может он уловить верно; точно так же с внешней стороны схватывается и речь народа. Такое явление представляет нам наша литература в своих народных повестях и рассказах. Писатели наши жадно кидаются на все внешние признаки народности, на родинки, бородавки и пятнышки народного образа, народной речи, и не видят, что истинная народность и быта и слова ускользает от них за этими внешними признаками, которые в жизни незаметны, а перенесенные в искусство становятся ярки и значат более, чем на деле. Все, что переносится на бумагу, получает особое значение, особенную выпуклость; все эти мелочи наружности и речей, поглощаемые в жизни общим значением, – записанные на бумагу, закрепляются, так сказать, получают выпуклость и значительность, какой они не могут иметь в жизни, и таким образом эта верность становится неверностью. Уловить так, по приметам, народный быт – не трудно. Доказательством тому служит изобилие наших изобразителей народного быта. А между тем народный быт точно может быть изображен. Должен быть схвачен общий тон жизни, все существенное, а не одни наружные приметы, они выразятся сами собою, во сколько это нужно. Народная речь не заключается в евто, тоись и т. п. Народная речь есть такая же общая человеческая речь и отличается внутренним складом, оборотом слова. Наша же русская народная речь отличается от нашей отвлеченной тем, что она богаче, сильнее, слова употребляет в живом и точном значении, обороты ее живы и сильны, самая последовательность слов разнообразнее и гибче, одним словом, – это настоящая живая русская речь.
Чисто внешних признаков одних не существует, а поэтому писатель, хотя и употребляет талант свой и внимание на изображение этих одних внешностей, не может при них остаться. Тут наблюдение идет далее и старается подметить выражение физиономии; подмеченное передается, и портрет становится похожим наружно, или во столько, во сколько наружность, принятая за основание, передает внутреннее.
Кроме г. Григоровича пишет народные повести и рассказы г. Писемский. У г. Писемского есть, бесспорно, наблюдательность, также наружная, но мастерская. Замечательно, что желчное расположение, которое проникает все другие сочинения г. Писемского, исчезает, когда говорит он о крестьянине; но, однако, в его повестях менее, чем у других писателей, затронута душа народная. У него преобладает наружное сходство. Но о г. Писемском мы намерены сказать особо, как о писателе ненародных повестей. Г. Стахович во всех народных произведениях[21 - Имеются в виду пьесы Стаховича «Ночное», «Летняя сцена (из русского быта)» и др.] обладает тоже верностью, но верностью живою, и если он не схватил глубины духа народного, то часто схвачена у него его нравственная природа; в его произведениях много жизни и веселости. Г. Потехин, тоже писатель с талантом, несколько иначе относится к предмету своих произведений, по крайней мере он хочет относиться иначе, поглубже[22 - Жизни крестьян был посвящен целый ряд произведений Потехина А. А. (1829–1908), созданных в 1850-е годы: рассказы и повести «Тит Софроныч Казанов», «Бурмистр», «Барыня» и др., роман «Крестьянка», пьесы «Суд людской – не божий», «Шуба овечья – душа человечья», «Чужое добро впрок не идет».]. С одной стороны, мелкая копировка, в особенности в речи народа, доходит у него до крайности, до неприятного списывания и совершенно закрывает народную речь. С другой, он идет дальше и старается вывести русского крестьянина со стороны нравственной в важных событиях жизни, но по нашему мнению, это ему решительно не удается: с одной стороны, наружной, – тут и одежда и ухватки крестьянина, ко с другой стороны, со стороны духовной, – крестьянина нет, вся эта сторона навязана ему автором. Свои собственные понятия, с заданною мыслию, автор вложил в крестьянина, и понятия, вовсе не сродные крестьянину; окончательная цель была, кажется, представить крестьянина в выгодном свете, кажется, сочувствие водило пером автора, но надобно было найти в самом крестьянине его высокое, важное значение, а не навязывать ему разных страстей и подвигов, или отвлеченно общих, или ему чуждых. Крестьянский костюм, сделанный г. Потехиным, бесспорно отличный, но все же это костюм, и в него наряжен не крестьянин.
Г. Писемский весьма замечателен в своих ненародных произведениях, талант его имеет особую оригинальность. В нем видно постоянно какое-то желчное отношение к лицам, им изображаемым. С удивительною верностью и цепкостью, так сказать, схватывает он характер изображаемого лица, заставляет читателя устремлять на него внимание и ждать раскрытия полного, но вдруг останавливается; характер не раскрыт, не исчерпан до глубины, писатель остается при одном начале, едко издеваясь над выставляемым лицом, – и только; характеры, выводимые г. Писемским, скорее одни меткие заглавия характеров. Читателем, при дальнейшем чтении его произведений, овладевает неприятная скука. Верность тоже доходит у него до самой неприятной точности. Эта неприятная точность и эта странная желчность к людям в особенности выразились в комедии г. Писемского «Ипохондрик», о которой так много говорили до напечатания. Разберем ее подробно.
Ипохондрия! Страшный бич нравственный! Страна призраков, примыкающая к ужасным вратам сумасшествия! Конечно, странно выводить болезнь на сцену, но много здесь можно было затронуть важного и таинственного, можно было заглянуть в глубины и пропасти духа, могли быть освещены темные бездны души, откуда выходят призраки, можно было проникнуть в жилище того безграничного ужаса, объемлющего порою все существо человека. Художественность бы, может быть, потерпела, но сама мысль произведения была бы важна. Впечатление могло быть тяжело и в свою очередь произвести ипохондрию.
С таким описанием принялись мы за чтение комедии «Ипохондрик», но опасение наше было напрасно: ни до чего до этого дело не дошло. Предмет затронут уж вовсе не глубоко.
И к ним морская даль ушла.
Так робко набегает тень,
Так тайно свет уходит прочь,
Что ты не скажешь: минул день,
Не говоришь: настала ночь.
Стихотворения г. Жемчужникова[9 - Жемчужников А. М. (1821–1908) – поэт-лирик и сатирик, один на создателей Козьмы Пруткова.], при очень свободном легком стихе, исполнены подчас значения и даже мысли верной и благой, останавливающей внимание читателя.
Звучный прекрасный стих, лишенный, впрочем, всякой особенности и показывающий только, до какой степени выработалось у нас стихотворное искусство, – вот все, что можно сказать о г. Мее[10 - Мей Л. А. (1823–1862) – поэт, драматург, переводчик.].
Стихотворения Щербины[11 - Щербина Н. Ф. (1821–1869) – поэт, прозаик, автор антологических стихотворений.] – это тоже прекрасные стихи, сделавшиеся доступным достоинством для многих. Сочувствие его преимущественно, и кажется до излишества, устремлено к древнему миру. Больше не имеем мы ничего сказать о г. Щербине.
Стихотворения г. Стаховича[12 - Стахович М. А. (1809–1858) – поэт, драматург, фольклорист, музыкант, собирал и оранжировал для фортепиано и гитары народные песни (четыре тетради вышли в 1851–1854 гг.), написал книгу «Очерки семиструнной гитары» (1854).] имеют свою особенность. Стих его запечатлен чистосердечностью и задушевностью; он вырывается у него, как песня, – и как все искреннее, он пробуждает живое сочувствие в читателе, запоминается и не раз повторяется потом охотно.
В заключение скажем еще об одном поэте, который недавно довольно резко отделился от других: это гр. А. К. Толстой[13 - Толстой А. К. (1812–1875) – поэт, драматург, прозаик, сатирик, создатель, вместе с братьями Жемчужниковыми, Козьмы Пруткова.]. Еще и прежде в прекрасных стихах его слышна была русская струна и русское сочувствие; но в прошлом году было напечатано несколько его стихотворений, чрезвычайно замечательных. Всего замечательнее по своему, особому какому-то, строю стиха баллада «Волки», также «Ой, кабы Волга-матушка да вспять побежала» и «Колокол». Хороши и стихи «Дождя отшумевшего капли»[14 - Эти стихи, а также цитируемая ниже «Смесь», были напечатаны в журнале «Современник», 1856, т. 2, с. 273–276.], в них слышно раздумье о прошлых годах и какою-то искренностию звучат слова:
Не знаю, была ли в то время
Душа непорочна моя, —
Но многому б я не поверил,
Не сделал бы многого я.
Все это прекрасные стихотворения, полные мысли, мысли, которая рвется за пределы стиха, а в наше переходное время только такие стихотворения и могут иметь настоящее живое достоинство. Но особенно хорошо стихотворение, или, лучше, русская песня «Спесь». Она так хороша, что уже кажется не подражанием песне народной, но самою этою народною песнею. Чувствуешь, что вдохновение поэта само облеклось в эту народную форму, которая одела его, как собственная одежда, а не как заемный костюм. Одна эта возможность, чуть ли не впервые явившаяся, есть уже чрезвычайно важная заслуга; в этой песне уже не слышен автор: ее как будто народ спел. Хотя слишком дерзко отдельному лицу решать дело за народ, но осмеливаемся сказать, что, кажется, сам народ принял бы песню «Спесь» за свою. Приведем эту песню:
Ходит Спесь надуваючись,
С боку на бок переваливаясь.
Ростом-то Спесь аршин с четвертью,
Шапка-то на нем во целу сажень.
Пузо-то у него все в жемчуге;
Сзади-то у него раззолочено.
Зашел бы Спесь к отцу, к матери:
Да ворота некрашены;
Помолился бы Спесь в церкви божией:
Да пол не метён.
Идет Спесь, видит: на небе радуга;
Повернул Спесь в другую сторону:
Не пригоже-де мне нагибатися.
Вот что думаем мы о наиболее замечательных современных стихотворцах. Вообще же должно сознаться, что стихотворство современное потеряло прежнюю веру само в себя: стихи пишутся вяло, пишут их без убеждения, по какому-то преданию. Эта эпоха упадка стихотворной поэзии обозначилась появлением женщин-поэтов. Но и те пишут реже, однако пишут. Одна из них одарена истинным поэтическим талантом: это К. К. Павлова.
Кроме поэтов-стихотворцев, которых число, как и число их произведений, очень ограниченно, есть писатели-прозаики, тоже поэты, ибо сочиняют изящные произведения. Скажем здесь вообще об этой современной литературе, предоставляя себе ниже сказать особо о писателях, значительных по таланту.
Повести, романы и комедии в прозе читаются больше стихотворений, ибо тут есть описание вседневной жизни да еще анекдотический интерес, который так любезен праздному любопытству. Эта лукавая изящная проза продержится долее, чем откровенный стих. Впрочем, дурных повестей не найдешь теперь ни за какие деньги; все повести не дурны: в том-то и беда. Читаешь: есть как будто и занимательность, и как будто что-то вроде характеров, и слог не дурен, и даже как будто есть мысль; но все это одни призраки. Прочтешь: никакого впечатления не осталось: повесть или комедия забывается, как ничего не принесшая: ни мысли, ни образа, достойного утвердиться в душе после чтения; если же и встречаются кой-какие исключения, то они редки и отличаются от прочих повестей тем, что впечатление остается несколько дольше. Эти недурные повести не могут занять ни мысли, ни чувства. Представьте себе человека, который и не глуп и не умен, который обо всем имеет поверхностное понятие, говорит гладко – ничего не скажет, кажется умным по наружности, не будучи таким на самом деле, между тем имеет весь лоск приличия, так что даже никаким нечаянным оригинальным движением не выкажет себя самого и не отличится от других: согласитесь, что такой господин невыносимо скучен; всякая положительная глупость интереснее. Наши современные недурные повести, романы и комедии сильно похожи на означенного господина. Один из современных писателей (г. Авдеев)[15 - Авдеев М. В. (1824–1870) – прозаик, критик.] задал себе как-то очень искренний вопрос, на который он сам не нашел что отвечать: «Для чего мы все пишем?» В самом деле, господа, для чего вы пишете? Для чего пишут многочисленные авторы недурных повестей и романов? Немолчной потребности творческой в них не видно. Мысли, которой в жертву приносится вся жизнь и которая стремится высказаться везде, повесть ли это или драма, или другое сочинение, – такой мысли в них неприметно. Что заставляет их писать? А бог их знает. Настоящей побудительной причины, кажется, нет. Мы не спросили бы, конечно, Гоголя, для чего он пишет. Великий художественный гений, попавший в наше нехудожественное время и болезненно несший тяжесть его бремени, он, окруженный толпой микроскопических последователей, все свое литературное поприще проживающих одной какой-нибудь его фразой, одним оборотом его речи, – он стремился сказать нам многое, что нужно в это время вопросов и сомнений. Мы не спросим людей ученых, зачем они пишут? Они трудятся над решением великого вопроса русской жизни, как бы ни решали его розно. Но не можем не повторить вопроса многим, выступившим наружу, современным литераторам: для чего они пишут?
Как бы то ни было, как бы ни хлопотали г-да писатели, они бессилием своим создать что-нибудь – доказывают, что миновала их эпоха. Чаша прежней поэзии выпита; на дне теперь остается один отсед. Будем же иметь мужество правды и скажем: да, минула эпоха отвлеченной литературы, во всем обширном смысле этого слова; минула она еще ощутительнее в смысле более частном, в смысле литературы изящной, и минула она всего явственнее в том отделе изящной литературы (как и должно быть), который наиболее, самою формою своею, принадлежит художественным произведениям: то есть в отделе собственно так называемой поэзии, в отделе стихов. Что касается до произведений изящных в прозе, то здесь кипит еще целый рой немощных писателей, набежавших со всех сторон на опустевшее поприще. В области же стихотворства, даже и во внешнем смысле, становится пусто; стихотворения редки, в них нет поэтической искренней веры; бывают в них и мысль высока и стих силен, но стих и мысль не сливаются в одно цельное звучное созданье, и они не останавливают на себе общего внимания, по крайней мере, надолго. Хоть и жестка правда, а сказать ее надо. Отвлеченный стихотворный период, начавшийся с Кантемира и в особенности с Ломоносова, давший много прекрасных, поэтических, хотя отвлеченных, не народных созданий и продолжавшийся до сих пор, – стихотворный период в России окончился.
Бог с ним, с этим временем, временем отвлеченной и заемной умственной деятельности! Хорошо, что мы уже понимаем его ложность. Лучше былых самообольщений, лучше заемной неискренней, чуждой родной почве поэзии – наше строгое не поэтическое время. Когда и как явится опять поэзия, какой образ примет она, будет ли она чем-то невиданным, вновь ли поэтическое произведение будет принадлежать, как песня, всему народу: это связано с жизнью, и этого решить мы пока не беремся. Во всяком случае, прежняя отвлеченная поэзия прошла; новой, действительной и народной, – еще нет.
В наше время поэтическое произведение, хотя написанное с талантом (ибо таланты всегда возможны), может быть только средством, одним из способов для выражения той или другой мысли. Известен анекдот об математике, который, выслушав изящное произведение, спросил: что этим доказывается? Как ни странен этот вопрос в приведенном случае, но есть эпохи в жизни народной, когда при всяком, даже поэтическом, произведении, является вопрос: что этим доказывается? Таковы эпохи исканий, исследований, трудовые эпохи постижения и решения общих вопросов. Такова наша эпоха.
Все ли понимают великий вопрос, предстоящий теперь русскому человеку? Не все его понимают, но все испытывают его присутствие; одни сознательно идут к разрешению вопроса ели стоят перед ним в недоумении; на других отразился он отсутствием прежней деятельности, скукою, апатиею.
В области науки именно заметно у нас много полезной деятельности, которая должна дать богатые и живые плоды. Наука первая пробует свои силы и старается выйти из отвлеченности и подражательности, старается встать на свои ноги. Всего более чести в наше время ученым занятиям, предмет которых Россия со всех сторон. Изыскания, исследования, преимущественно по части русской истории и русского быта, должны по-настоящему быть делом всякого русского, неравнодушного к вопросу мысленной и жизненной самобытности в России; это личный вопрос каждого из нас. Общее дело России должно быть частным делом каждого русского.
Мы уже сказали о стихах и выразились вообще о прозаической изящной словесности. Но теперь надобно поговорить подробнее о тех писателях-прозаиках, которые выдаются из толпы. На поприще литературы имеется у нас много писателей с талантом, которые пишут, действуют, как будто защищая права литературы в современной эпохе, но которые не в силах остановить хода истории и всею массою, вместе с самою ареною увлекаются потоком времени. Кроме того, в них самих, как в писателях (мы говорим о писателях с талантом), в их произведениях обозначается, однако, ход, направление времени, историческая задача.
Просим не забывать, что мы пишем обозрение современной литературы, а не критику современных ее писателей; этому в нашей статье мы не намерены ни давать подробного отчета во всех отдельных произведениях того или другого писателя, ни составлять полной его литературной характеристики.
Находясь под влиянием чуждым, долго литература наша в повестях своих занималась преимущественно обществом, так называемым высшим или образованным, именно тем обществом, которое, отделясь от народа и лишась живительных корней родной почвы, всплыло на поверхность, отражая на своей плоскости все иностранные направления и интересы. Долго балы с соответственными княжнами и графами изображались пером наших писателей. Потом, после того, как гениальный художник указал с горьким смехом на действительность русской жизни, возникла так называемая натуральная школа, задавшая себе задачею быть естественною, натуральною и оттого принявшая это наименование. Иные говорят, что она создана Гоголем; нет, она возникла вследствие ложного понимания художественного гения, вследствие усвоения себе внешних его приемов, но не идеи и, конечно, не таланта великого художника. Искусственность и неестественность отношения к жизни еще более здесь выразились; ибо здесь было притязание на жизнь, и притязание совершенно отвлеченное. Механическое – отражение жизни, со всеми ее мелочами, но без ее смысла, производило обратное впечатление, и вся эта наружная верность жизни была клеветою на жизнь. Но всякое явление, не имеющее состоятельности внутренней, недолго держится и падает само собою: так пала и натуральная школа, и название ее перестало употребляться. Недолговечна наша литература в своих явлениях! Натуральная школа, ища натуральной пищи, спускалась в так называемые низменные слои общества и в силу этого доходила и до крестьян. Но и здесь она брала сперва лишь то, что ярче бросалось в глаза ее мелочному взгляду, лишь те случайные резкости, которые окружают жизнь, лишь одни родинки и бородавки. И как доволен был натуральный писатель, когда подслушивал у народа оборот или слово или даже произношение особенное; с какою гордостью писал он: тоись вместо: то есть! Но так как эти подвиги были не трудны, то вскоре появилось множество писателей, без труда усвоивших себе натуральные приемы, и образовалась целая фабрика повестей и романов: ее изделия скоро наполнили все журналы. Повести писались вдвоем и чуть ли не втроем. Но люди с талантом не могли долго удовлетворяться этой сухой, дешевой фабричной деятельностью. Прикосновение к крестьянину и, в лице его, к земле русской подействовало освежительно на писателей с талантом, – и крестьянин, взятый сперва как самый натуральный субъект, невольно представился им, хотя далеко еще не вполне, с другой, высшей своей стороны. Эта честь прежде всего принадлежит г. Тургеневу, за ним г. Григоровичу (в его «Деревне» крестьянин выставлен еще в духе натуральной школы), а за ним и другим более или менее талантливым писателям. Цель и самое название натуральной школы исчезли сами собою; но приемы ее остались; остался ее мелкий взгляд, ее пустое щеголянье ненужными подробностями: от всего этого доселе не могут избавиться почти все, даже наиболее даровитые, наши писатели. Как бы то ни было, писатели наши догадались или смутно почувствовали, что для литературы есть поважнее задачи и вопросы, чем удачное списывание того, что видит глаз и слышит ухо, и что достоинство их произведений есть дело, приобретаемое довольно легко, лишь только надо вооружиться терпением и откинуть от себя все серьезные требования мысли и искусства. И вот произведения писателей приняли иной, более степенный вид, но с прежними натуральными приемами и прежнею мелкостью взгляда. Справедливо заметил А. С. Хомяков, что в литературе нашей, хотя и заемной и искусственной, но все же производящейся в России, составляет главную задачу – вопрос общественный. В особенности видим мы это в комедии. В самом деле, предмет русской комедии – не отдельная личность, но общество, общественное зло, общественная ложь – таковы «Недоросль» и «Бригадир», «Ябеда», «Горе от ума», «Ревизор», «Игроки». Это – чисто аристофановское свойство комедии. То же стремление к общественному значению видим мы теперь и в изящной литературе нашей. Но это направление получило особенный вид. Предметом повестей наших и драм стали сословия. Сперва сословие крестьянское, которое глубоким содержанием и значением своим, все-таки непонятным, смутило беззаботных наших писателей и столкнуло их с пошлой дороги натуральной школы на более важную дорогу. Крестьяне стали предметом повестей, романов, даже драм. Потом явились купцы, сделавшиеся предметом преимущественно драматической литературы, но зато как-то особенно показавшиеся заманчивыми для наших комиков. Мы надеемся иметь случай сказать подробнее об этой литературе, когда будем говорить о сочинителях, почти исключительно посвятивших себя крестьянам или купцам. Обозначив общее значение нашей литературы, переходим к нашим писателям.
Прежде всего скажем о г. Тургеневе. Деятельность этого писателя с несомненным талантом перешла много изменений и представляет сама в себе ход нашей современной литературы, вполне ему соответствуя. Г. Тургенев начал со стихов. В первых его стихотворных произведениях сильно отзывалось лермонтовское направление, это странное хвастовство бездушного эгоизма, эта самодовольная насмешка надо всем, обличающая пустоту внутреннюю. Недавно вышли повести и рассказы г. Тургенева[16 - Имеются в виду «Повести и рассказы И. С. Тургенева с 1844 по 1856 г.», ч. 1–3. Спб., 1856.]; в них не вошли «Записки охотника», ни стихотворные его пьесы, ни драматические сочинения. Тем не менее в них, благодаря хронологическому (самому лучшему) порядку издания, виден весь ход нашего автора, а вместе и литературы нашей, которой он был и есть одним из соответственных представителей. Повести первого тома до того слабы, до того лишены всякого достоинства, что о них не следовало бы вовсе и упоминать. Но в них выражается то ложное настроение, которое довольно явственно выступило в нашей литературе, и потому скажем несколько слов и о них. «Андрей Колосов» еще весь проникнут тем лермонтовским направлением, которое под ложным видом будто бы силы скрывает только совершенное бездушие, самый сухой эгоизм и крайнее бесстыдство; эта сила – вещь весьма дешевая, как скоро бороться не с чем. Повесть «Три портрета» самым возмутительным и оскорбительным образом выражает то же направление. Из уважения к г. Тургеневу мы бы не желали видеть этой повести в печати. В своей повести «Андрей Колосов» автор называет мелкими хорошими чувствами раскаянье и сожаленье!.. Кажется, то же самое автор сказал как-то стихами:
Но, слабых душ мученья,
Не знал раскаянья и сожаленья[17 - К. Аксаков оговорился. Процитированных им строк в стихотворениях Тургенева нет.].
Это отголосок известных стихов Лермонтова:
Я понял, что душа ее была
Из тех, которым рано все понятно;
Для мук и счастья, для добра и зла,
В них пищи много; только невозвратно
Они идут, куда их повела
Случайность, – без раскаянья, упреков
И жалобы: им в жизни нет уроков[18 - Строки из поэмы Лермонтова «Сказка для детей» (строфа 21).].
Была же возможность так думать и говорить! Могли же до такой степени искажаться понятия. Раскаянье, сожаленье: это лучшее достояние души человеческой. Лучшее, неотъемлемое свойство человека – возможность сознать свою ошибку, откинуть ложный путь, осудить самого себя; только бездушная природа не знает раскаянья и вечно готова, но человек вечно не готов, человек есть постоянный зиждитель самого себя. И вдруг является, воззрение, где проповедуется постоянное себя оправдание, отсутствие суда над собою, отсутствие сожаленья и раскаянья… Что это, как не бездушный эгоизм? Но зачем тревожить прах отжившего учения! Оно превосходно заключило себя Тамариным[19 - Герой одноименного романа М. В. Авдеева.] и исчезло. Воспоминание об нем вызывает сожаление и смех.
Итак, вот с чего начал наш автор. Скоро остался он без опоры, ибо направление лермонтовское он бросил, а куда идти – еще не знал. Такую совершенно бесцветную деятельность, такое состояние автора, не знающего, куда преклонить голову, выражают его повести «Жид», «Брётер». Смысла их и понять нельзя. Но вот, наконец, сквозь самодовольную толпу разновидных господ с бритыми подбородками в немецких костюмах протеснился и стал перед автором образ русского крестьянина, и автор изобразил его с сочувствием. В 1847 году появились впервые «Записки охотника». Они начинались с рассказа «Хорь и Калиныч». «Московский сборник», написавший резкую статью о г. Тургеневе, поспешил изъявить сочувствие новому виду его авторской деятельности, признать замечательное достоинство «Записок охотника» и от души пожелать успехов автору на новом пути[20 - К. Аксаков имеет в виду свои «Три статьи г-на Имрек», опубликованные в «Московском литературном и ученом сборнике на 1847 год».]; это доброе желание было недаром. Г. Тургенев точно пошел по новому пути; появился ряд рассказов под общим названием: «Записки охотника», из которых многие истинно прекрасны; та живая струя России, струя народная, до которой коснулся г. Тургенев в первом рассказе, не раз блещет в них и освежительно действует на читателя, приближая его к той великой тайне жизни, которая лежит в русском народе, и давая ему ее предчувствовать: это уже заслуга. Замечательно, что рассказы из другого быта, в «Записках охотника», а также и отдельно написанные в то время, тоже получили достоинство, которого они не имели прежде, и выразили собою направление, совершенно противоположное прежнему. Нет, уже не хвастовство эгоизма явилось в них, а напротив, сознание дряиности человеческой! В них выражается большею частью то бессилие, та мелкая ложь, которые у нас сопровождают и проникают часто и ум и чувство и составляют болезнь нашего века. Какая перемена, какая разница, и разница спасительная, с предыдущим содержанием повестей и рассказов. Долой маску и геройский костюм! Вот оно, изнуренное лицо современного человека, не отмеченное ни властительною мыслию, ни глубокою любовью братскою. Это направление выражается даже в «Петушкове», особенно в «Дневнике лишнего человека», также в «Гамлете Щигровского уезда» (в этой повести, сверх того, еще затронута важная мысль о деспотическом, страшном значении кружка) и, наконец, в «Переписке». Мы должны, однако, сказать, что в «Записках охотника» у г. Тургенева, собственно в рассказах, не касающихся крестьянского быта, развилась чрезмерная подробность в описаниях: так и видно, как автор не прямо смотрит на предмет и на человека, а наблюдает и списывает; он чуть не сосчитывает жилки на щеках, волоски на бровях. Если автор думает этим средством схватить физиономию и жизнь явления, то это очень ошибочно; подобная подробность налагается, как рамка, на представление читателя, ибо ему ничего не остается дополнять, ибо свобода его собственного представления, которую необходимо должно возбуждать в нем чтение изящного произведения, стеснена, и явление утрачивает свою живость. Напротив того, схватите основные черты предмета и оставьте все остальное дополнить самому читателю; не связывайте свободы его представления. В каждом произведении деятельно участвует и читатель; породите в нем целый ряд таких ощущений, о которых вы не говорите, но которые возникают, ибо вы сумели тронуть то, что их производит. В истинно изящных произведениях сказано много того, о чем и не говорит автор; а наши авторы-статистики, кажется, добиваются, чтоб читателю ничего не оставалось желать и думать более. Они очень ошибаются, ибо они ограничивают впечатление и вместо полноты дают неполное (ибо ограниченное) представление, вместо богатства дают бедность, вместо силы слабость. В таких мелких, ничтожных описаниях заметно усилие, а усилие всегда отнимает силу. Жажда быть верным действительности доходит часто до цинизма у г. Тургенева. Но наш автор снова коснулся народа в двух превосходных своих рассказах «Муму» и «Постоялый двор». Это решительный шаг вперед. Эти повести выше «Записок охотника» как по более трезвому, более зрелому и более полновесному слову, так и по глубине содержания, особенно вторая. Здесь г. Тургенев относится к народу несравненно с большим сочувствием и пониманием, чем прежде; глубже зачерпнул сочинитель этой живой воды народной. Лицо Герасима в «Муму», лицо Акима в «Постоялом дворе»: это уже типические, глубоко значительные лица, в особенности второе. Мы не пишем здесь критики сочинений г. Тургенева, не даем полного отчета о каждом авторе, а пишем только обозрение современной литературы, потому и не распространяемся об этих двух прекрасных повестях, которые сами по себе заслуживают полного разбора. Кроме повестей из народного быта г. Тургенев написал еще и другие повести, из которых также видно, что он не стоит на одном месте, а идет вперед. Повесть «Два приятеля» показывает, что г. Тургенев не останавливается на картине одного бессилия прекрасной души, но ищет выхода. Этот выход находит он здесь в цельности и простоте жизни, которую выражают Верочка и Петр Васильевич. Весь рассказ прост и выразителен и уже изъят от подробной описи выводимых лиц. Справедливость требует сказать, что этой литературной статистики, если можно так выразиться, вообще меньше теперь у г. Тургенева. То же побуждение (стремление к простоте и искренности) видим, отчасти, и в «Якове Пасынкове», где с сочувствием выставлен человек, вовсе не разочарованный, вовсе не гордый, а напротив, кроткий и любящий. Недавно было у нас в моде смеяться над такими лицами; эта недостойная насмешка выходила из собственной бедности душевной насмехающихся, и потому тем с большим удовольствием встретили мы сочувствие автора к такому лицу, как Пасынков, – сочувствие, к какому способна лишь добросовестная, любящая душа. Нам остается сказать о двух повестях; «Рудин» и «Фауст». «Рудин» – едва ли не самое обработанное и глубоко задуманное сочинение г. Тургенева; здесь выставлен человек замечательный: с умом сильным, интересом высоким, но отвлеченный и путающийся в жизни вследствие желания строить ее отвлеченно, вследствие попытки все определять, объяснять, возводить в теорию. Лицо Рудина, изображенное автором, несмотря на недостатки свои, возбуждает в то же время сочувствие. «Фауст» есть последнее произведение г. Тургенева. Здесь противополагает он дрянности человеческой уже не только простую цельную естественную природу души, но цельность духовного начала, нравственную истину, вечную и крепкую, – опору, прибежище и силу человека. Эта повесть есть новый шаг вперед, есть уже верное и высокое созерцание; дай бог г. Тургеневу продолжать по этому пути.
Мы сказали о г. Тургеневе гораздо подробнее, нежели сколько допускали это пределы литературного обозрения; но г. Тургенев имеет понятное право на такое внимание, как писатель, деятельность которого представляет переходы самой литературы нашей, как писатель, не каменеющий в ошибочно избранной форме, но имеющий силы отделаться от ложного определения, постоянно идущий вперед в созерцании жизни и наконец зреющий и мужающий в самом таланте своем.
Г. Григорович не примыкает к лермонтовской эпохе литературы. Он прямо начинает с крестьянского быта. Описание крестьянского быта составляет его специальность, так сказать. Описание это очень верно (речь крестьянская изумительно подслушана в ее оттенках), но это достоинство было бы еще не велико. Нет, у г. Григоровича есть уважение к крестьянину, есть любовь, и вот почему его талант передает иногда живо образ крестьянина, иногда угадывает внутренний смысл его жизни, т<о> е<сть> русской жизни. «Антон-Горемыка», «Четыре времени года», «Мать и дочь», «Смедовская долина» – все это прекрасные, живые рассказы. «Рыбаки» есть уже целый роман из крестьянского быта; верности описания здесь очень много, даже слишком много, как и во всем, что пишет г. Григорович; но талант выбивается даже из-под этой наружной верности описаний; видно подчас одушевление и теплое чувство. С повестей г. Григоровича возник у нас особый отдел литературы, предметом которой – простой народ. Это направление утешительно, хотя изображение крестьянина почти всегда поверхностно и постоянно является ниже подлинника. Скажем несколько слов вообще об этом народном отделе нашей литературы.
Не так давно еще время, когда наша литература была собранием бледных копий с западного общества, изображением доморощенных героев и героинь a la Balzac, a la George Sand, наделенных столь богато подражательными страданиями и страстями. Вся эта область жизни, согретая искусственным жаром теплицы, может быть предметом для созерцания художника только с точки зрения высококомической, только в силу обличения ее лжи, элемента ее существования. Юмористический рассказ, комедия: вот где настоящее место для Печориных, для светских страстей и страданий. Попытки такого изображения этой сферы были, но попытки эти не были вполне искренни и падали только на некоторых представителей этой сферы, а не на самую сферу. Между тем мысль уже давно указывала на ложь всей этой области жизни, оторванной от жизни народной, указывала на простой народ, как на хранителя русских начал, указывала на его быт как на быт самостоятельно русский, в котором лежит для нас опора, наставление и надежда, из которого, как из зерна, разовьется самостоятельная жизнь для России, обогащенная опытом, укрепленная сознательною мыслию, прошедшая сквозь соблазн подражательности, сквозь искушение отрицания. Литература наша, относившись доселе с чувством какой-то гордости к крестьянам и вообще ко всему своебытному, приветствуя народ насмешкою, наконец иначе обратилась к русской народности, сперва с некоторым почтением, которого как будто стыдилась; как будто совестилась, что с русским мужиком она входит в сношения серьезные; но мало-помалу сила правды подействовала на наших писателей, и в них заговорило, может быть, родное чувство и родилось желание изобразить русского крестьянина во всем его великом человеческом достоинстве. Таким путем образовалось целое направление литературы, имеющее целью изображение простого народа, преимущественно крестьянина. Самые замечательные на этом поприще писатели: гг. Григорович, Писемский, Потехин и Стахович.
Стремление прекрасное, и за доброе желание нельзя не благодарить, но осуществляется ли оно на деле?
Предмет наших авторов другой: это правда; но произошла ли нужная перемена в них самих? Они изображают народность, но пробудилась ли она в самих писателях, поняли ли они русский народ, исполнились ли хотя отвлеченно, хотя в разумении, его духа? Одним словом, писатели наши, обратившись к народу, перестали ли сами быть иностранцами? Вот важные вопросы. На них ответ дают произведения писателей, и ответ этот не совсем благоприятен. Правда, мы должны сказать, что есть искреннее стремление понять народ и быть народным, а искреннее стремление не бывает бесплодным, что писатели смутно чуют народ и тайну его жизни, что они угадывают кой-что и сколько-нибудь приближаются к нему. Но столетнее верование не исчезает вдруг, и отделаться от него легко нельзя. В произведениях писателей наших мы это видим. Когда писатель обращается к такому народу, которому он чужд внутренне, и хочет изобразить его, то на что прежде всего обратит он внимание? Разумеется, на наружность: на то, что поразит его зрение, слух; он старается наблюдать и подмечать, он в народе видит ухватки: их может он уловить верно; точно так же с внешней стороны схватывается и речь народа. Такое явление представляет нам наша литература в своих народных повестях и рассказах. Писатели наши жадно кидаются на все внешние признаки народности, на родинки, бородавки и пятнышки народного образа, народной речи, и не видят, что истинная народность и быта и слова ускользает от них за этими внешними признаками, которые в жизни незаметны, а перенесенные в искусство становятся ярки и значат более, чем на деле. Все, что переносится на бумагу, получает особое значение, особенную выпуклость; все эти мелочи наружности и речей, поглощаемые в жизни общим значением, – записанные на бумагу, закрепляются, так сказать, получают выпуклость и значительность, какой они не могут иметь в жизни, и таким образом эта верность становится неверностью. Уловить так, по приметам, народный быт – не трудно. Доказательством тому служит изобилие наших изобразителей народного быта. А между тем народный быт точно может быть изображен. Должен быть схвачен общий тон жизни, все существенное, а не одни наружные приметы, они выразятся сами собою, во сколько это нужно. Народная речь не заключается в евто, тоись и т. п. Народная речь есть такая же общая человеческая речь и отличается внутренним складом, оборотом слова. Наша же русская народная речь отличается от нашей отвлеченной тем, что она богаче, сильнее, слова употребляет в живом и точном значении, обороты ее живы и сильны, самая последовательность слов разнообразнее и гибче, одним словом, – это настоящая живая русская речь.
Чисто внешних признаков одних не существует, а поэтому писатель, хотя и употребляет талант свой и внимание на изображение этих одних внешностей, не может при них остаться. Тут наблюдение идет далее и старается подметить выражение физиономии; подмеченное передается, и портрет становится похожим наружно, или во столько, во сколько наружность, принятая за основание, передает внутреннее.
Кроме г. Григоровича пишет народные повести и рассказы г. Писемский. У г. Писемского есть, бесспорно, наблюдательность, также наружная, но мастерская. Замечательно, что желчное расположение, которое проникает все другие сочинения г. Писемского, исчезает, когда говорит он о крестьянине; но, однако, в его повестях менее, чем у других писателей, затронута душа народная. У него преобладает наружное сходство. Но о г. Писемском мы намерены сказать особо, как о писателе ненародных повестей. Г. Стахович во всех народных произведениях[21 - Имеются в виду пьесы Стаховича «Ночное», «Летняя сцена (из русского быта)» и др.] обладает тоже верностью, но верностью живою, и если он не схватил глубины духа народного, то часто схвачена у него его нравственная природа; в его произведениях много жизни и веселости. Г. Потехин, тоже писатель с талантом, несколько иначе относится к предмету своих произведений, по крайней мере он хочет относиться иначе, поглубже[22 - Жизни крестьян был посвящен целый ряд произведений Потехина А. А. (1829–1908), созданных в 1850-е годы: рассказы и повести «Тит Софроныч Казанов», «Бурмистр», «Барыня» и др., роман «Крестьянка», пьесы «Суд людской – не божий», «Шуба овечья – душа человечья», «Чужое добро впрок не идет».]. С одной стороны, мелкая копировка, в особенности в речи народа, доходит у него до крайности, до неприятного списывания и совершенно закрывает народную речь. С другой, он идет дальше и старается вывести русского крестьянина со стороны нравственной в важных событиях жизни, но по нашему мнению, это ему решительно не удается: с одной стороны, наружной, – тут и одежда и ухватки крестьянина, ко с другой стороны, со стороны духовной, – крестьянина нет, вся эта сторона навязана ему автором. Свои собственные понятия, с заданною мыслию, автор вложил в крестьянина, и понятия, вовсе не сродные крестьянину; окончательная цель была, кажется, представить крестьянина в выгодном свете, кажется, сочувствие водило пером автора, но надобно было найти в самом крестьянине его высокое, важное значение, а не навязывать ему разных страстей и подвигов, или отвлеченно общих, или ему чуждых. Крестьянский костюм, сделанный г. Потехиным, бесспорно отличный, но все же это костюм, и в него наряжен не крестьянин.
Г. Писемский весьма замечателен в своих ненародных произведениях, талант его имеет особую оригинальность. В нем видно постоянно какое-то желчное отношение к лицам, им изображаемым. С удивительною верностью и цепкостью, так сказать, схватывает он характер изображаемого лица, заставляет читателя устремлять на него внимание и ждать раскрытия полного, но вдруг останавливается; характер не раскрыт, не исчерпан до глубины, писатель остается при одном начале, едко издеваясь над выставляемым лицом, – и только; характеры, выводимые г. Писемским, скорее одни меткие заглавия характеров. Читателем, при дальнейшем чтении его произведений, овладевает неприятная скука. Верность тоже доходит у него до самой неприятной точности. Эта неприятная точность и эта странная желчность к людям в особенности выразились в комедии г. Писемского «Ипохондрик», о которой так много говорили до напечатания. Разберем ее подробно.
Ипохондрия! Страшный бич нравственный! Страна призраков, примыкающая к ужасным вратам сумасшествия! Конечно, странно выводить болезнь на сцену, но много здесь можно было затронуть важного и таинственного, можно было заглянуть в глубины и пропасти духа, могли быть освещены темные бездны души, откуда выходят призраки, можно было проникнуть в жилище того безграничного ужаса, объемлющего порою все существо человека. Художественность бы, может быть, потерпела, но сама мысль произведения была бы важна. Впечатление могло быть тяжело и в свою очередь произвести ипохондрию.
С таким описанием принялись мы за чтение комедии «Ипохондрик», но опасение наше было напрасно: ни до чего до этого дело не дошло. Предмет затронут уж вовсе не глубоко.