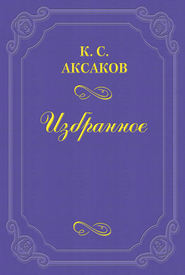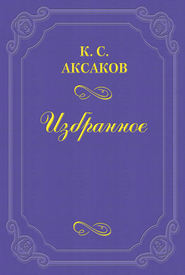По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Три критические статьи г-на Имрек
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но это еще не все; выпишем еще несколько мест для яснейшей характеристики автора:
«С другой стороны, чувствуешь, что разум уважает права, нужды и даже невинные прихоти действительности, что он не запирается в свои подоблачные чертоги, чтобы своими отвлеченными, строгими догматами устрашать оттуда умы человеческие, а не править ими. Неизъяснимо отрадно видеть, как жизнь, вообще столь шаткая и грустная, доверчиво простирает объятия свои к силе, где сосредоточивается и хранится неизбежный закон и непреложный порядок, и как эта сила приветною улыбкою милости озаряет вокруг себя суровый мрак могущества беспредельного и неодолимого»
(стр. 46).
Вот образец особенной чувствительности:
«Могущество это чувствуют, его благославляют или клянут: оно вызвало ряд деяний. Хотя заглянуть в лицо ему, столь победоносно властвующему: его никто не увидит, лица этого нет; это что-то неосязаемее, чем пар вашего дыхания, чем робкий вздох девственного сердца, когда оно в первый раз чувствует жажду любить; это идея без вещества, без имени, но полная слез, восторгов, мук, блаженства и славы»
(стр. 53, 54).
В том же духе:
«Здесь (в усилиях науки понять основание всего) наука изменяет своему строгому, испытующему характеру; она забывает священное помазание правды и достоверности, которыми опыт уполномачивает ее царствовать над миром мысли; из скромной, важной, величественной жрицы Истины она становится догадкою, предположением, умствованием, системой, софизмом; она возбуждает к себе недоверчивость и сомнения, столь противные ее чести и благу людей, и вдается в ребяческие состязания с здравым рассудком, который отходит наконец в сторону от своей благородной и прекрасной сестры, чтобы в тишине и одиночестве сетовать о ее нецеломудренных поползновениях» (!!!)
(стр. 58–59).
Но мы устаем выписывать; однако вот еще несколько примеров:
«Умная, благовоспитанная, т. е. историей воспитанная философия, вовсе не имеет глупой гордости думать, будто бы она вещам может давать направление без их, так сказать, ведома и сочувствия, вопреки их природе, по собственному идеалу истины»
(стр. 67).
Какой же философ скажет это? и если найдется философия, которой можно сделать этот упрек, то какая же философия сама это думает?
Вот еще пример:
«Несмотря на блестящие замыслы и прикрасы, они все как-то похожи на ученый трактат, решающий какую-нибудь отвлеченную задачу ума: они принадлежат идее, а не людям, а известно, что идея без участия в человеческих нуждах, без слез и улыбки, прекрасна, но холодна как кокетка, любящая жертвы, но ни одного из жертвователей (!!!). Специалист-мыслитель или специалист-дилетант может наслаждаться этими произведениями с утонченною сибаритскою роскошью, которая любит не одни вкусные блюда, но и вкусные мысли; но кто человечество ставит выше ремесла, тот не будет довольствоваться одним, искусством изображения, изящным исполнением, удачными оборотами мысли и речи – этой гимнастикой таланта, в которой он выказывает и силу и ловкость свою; он потребует от таланта красоты, но красоты, вылитой из нужд, страстей, желаний и надежд наших, потому что хотя она и дщерь неба, однако ж должна жить в святом и целомудренном браке с сердцем человеческим»
(стр. 70–71).
Вот еще один пример:
«Отсюда произошли все эти заносчивые и вместе жалкие теории словесности, которых боялись школьники и не слушались таланты и которые однако ж, быв облечены незаконно в сан науки, затрудняли общий ход литературы, как брюзгливая старая надзирательница затрудняет ворчаньем своим милое и грациозное обращение молодой девушки»
(стр. 87).
Но довольно; надеемся, мы показали достаточный образец этой бесплодной речи, в которой одно слово погоняет другое без всякой внутренней причины, – речи, лишенной всего внутреннего. Антропоморфизм[15 - Антропоморфизм (греч.) – перенесение свойств и особенностей, присущих человеку, на окружающие его предметы, природу и т. п.] в рассуждениях г. автора доходит до невозможной степени. Литература, наука чувствуют, сердятся друг на друга, живут в браке. Право, почти ожидаешь, что он начнет описывать, какие лица у литературы и науки, скажет, белокурая ли одна и черноволосая ли другая. Нельзя не убедиться также (это видели мы из вышеприведенных примеров) в нежности и сентиментальности сердца г. сочинителя.
Обратимся к другой стороне, постараемся из этого хаоса и чувствительных описаний достать какое-нибудь положение.
Г. Никитенко думает, что определяет литературу так:
«Литература есть мысль человеческая, возникающая у народа вместе с ним из его духа, жизни исторических и местных обстоятельств, и посредством слова выражающая свое народочеловеческое развитие под совокупным влиянием верховных и всеобщих идей истинного и изящного»
(24–25).
Итак, литература – это мысль под влиянием идей истинного и изящного. Мысль под влиянием идеи истинного? Но мысль есть сама явление истины; если же она под влиянием истинного, то она, следовательно, есть что-то вне истины находящееся; стало быть, она не истина, даже, может быть, ложная мысль и только находится под влиянием истины. Что же она такое? Под влиянием идеи истинного и изящного. Но что же такое изящное, как не истинное в образе, в непосредственном представлении? И что же такое после этого литература по будто бы определению г. Никитенки? Бог знает что; здесь нет даже положительной ошибки, нет даже ложного мнения; не на что даже напасть; а все разваливается, как только возьмешь в руки: ибо нет смысла.
Г. Никитенко между прочим говорит:
«Метода науки так определенна, что ее можно найти и изучить в любой логике»
(стр. 29).
Каково вам это покажется? Мы бы желали встретить эту «любую логику». Вся исполинская сила логики Гегеля направлена именно на то, чтобы определить, явить науку; и кто сколько-нибудь знаком с его логикой, тот знает те умственные усилия, которые надо совершать, чтобы подвигаться в ней на полшага, тот испытал то трудное дыхание от разряженного воздуха логической сферы; а г. Никитенко нашел методу науки в любой логике!
Вот еще мнение:
«Литература может быть очень правильною, очень художественною и в то же время безжизненною и непривлекательною, то есть чуждою интересам сердца человеческого, интересам века, в которых зреют, мужают, делаются существенными и историческими великие и всеобщие истины»
(стр. 42).
Литература может ли быть художественною и безжизненною в одно время? Странное заключение.
Из приведенных примеров мы видели, как нежен и чувствителен г. Никитенко, – так нежен, что даже сам Манилов уступит ему в приторности; но посмотрите, как нежный г. сочинитель иногда выражается:
«Она (народность) может говорить, напр., совершенно по-русски, не только языком Бовы-королевича[16 - То есть язык русских народных сказок.], но и языком Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Пушкина. И без сомнения – в наше время она гораздо более делает себе чести, изъясняясь их очищенным, художнически усовершенствованным, народно-человеческим словом, чем речью брадатых стилистов толкучего рынка и их безбородых подражателей»
(стр. 77).
Но, впрочем, что же? Нежность и деликатность должны быть для высшего сословия, для лиц высшего круга общества; ведь низшее этого не понимает. Почему, подавши учтиво перчатку даме, ее уронившей, не толкнуть тут же локтем бородатого мужика?!! Как вы думаете?
Наконец, в главе IV г. Никитенко говорит о идее и значении истории литературы русской.
Здесь является безусловный панегирик Петру Первому. Между прочим, г. автор говорит:
«Между тем, как таким образом все переменялось, или, лучше сказать, запутывалось на высоте общественных понятий и верований, из недр материальной силы народа возникало чудовище дикое и свирепое, с жаждою крови, вина и денег, соединявшее в своем зверском брадатом лице все ужасы, все пороки, весь осадок татарского элемента – мы говорим о стрельцах».
В своем зверском брадатом лице? Отчего же так? неужто борода имеет в себе что-нибудь зверское! Бороды особенно не любит г. Никитенко. И какой татарский элемент в стрельцах? Далее:
«Владея пищалью не как благородным оружием, а как дреколием…»
Разве не случается, что дреколие подымается за правое дело, как, например, в 1812 году; а пищаль, напротив, служит делу ложному? Но дреколие – это оружие крестьянское, и потому г. Никитенко считает его неблагородным? Если же г. автор думает, что стрельцы употребляли пищаль, как дреколие, то мы смеем его уверить, что они умели стрелять и стреляли из своих пищалей. Г. Никитенко продолжает:
«Нестройное и чуждое успехам своего ремесла, это сословие трусливое перед неприятелем и храброе только перед мирными гражданами, вдруг захотело свою неистовую волю поставить в число первенствующих общественных начал…»
(стр. 114).
Трусливое перед неприятелями! И это можно сказать! Разве не стрельцы дрались в 1612 году с поляками? Разве не с стрельцами возвращал царь Алексей Михайлович большую часть завоеваний России? Что вы скажете на это г. сочинитель? Но впрочем, что вам до этого за дело, когда эти люди были с брадатыми лицами.
В этой главе и вообще во всей книге много и очень много еще замечательностей в подобном роде, но пусть, кто желает, сам читает книгу г. Никитенки, если только имеет на то довольно терпения. Вот, однако, отрывок:
«Спрашивается, что должен был бы сделать тот, на чью ответственность провидение изложило бы бодрствовать над судьбою царства в этот роковой момент и спасать его?.. Что бы он сделал? Не должен ли бы он был продолжать начатое судьбою и требуемое ею изменение? Но по каким началам? Без сомнения, по тем, которые могли бы в одно время я обуздать дикие физические страсти и открыть народному гению неизмеримое поприще развития и усовершенствования, к которому он способен, как истинный славяно-европейский гений. Где же бы он нашел их? Конечно, не в Азии, не в разбойничьем татарском стане, не в исторических опытах и покушениях, потому что это начало человеческой образованности, науки, искусства, всех успехов гражданских, а их там не было. Одна Европа могла передать их нам, потому что имела их и жила ими»
(стр. 117–118).
Можно ли читать подобные рассуждения? Если Петр должен был искать начал, то он должен был искать их у себя, в самом народе. Без зерна не вырастишь дерева, без зерна можно сделать только искусственное раскрашенное дерево, с натыканными глиняными плодами и бумажными цветами. Но в русском народе есть начала, и хотя Петр Первый приносил начала чуждые, но народные начала сохранились и до сих пор в простом русском народе.