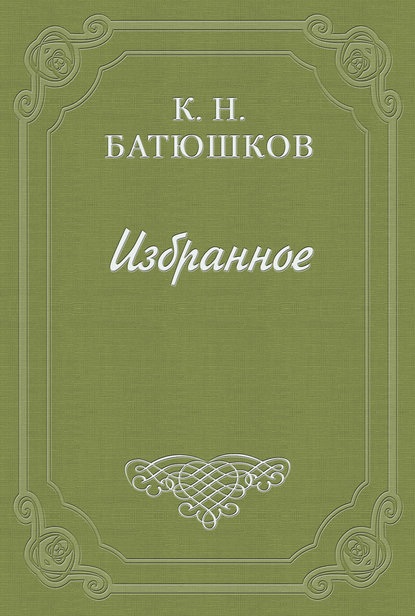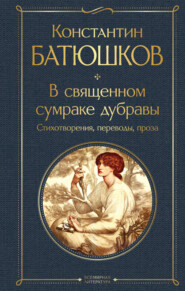По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Опыты в стихах и прозе. Часть 1. Проза
Год написания книги
1817
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Если бы мы знали подробно обстоятельства жизни великих писателей, то без сомнения могли бы найти в их творениях следы первых, всегда сильных ощущений. Сердце имеет свою особенную память. Руссо помнил начало песни, которую ему напевала его добродушная тетка. Молодой Ариост, в бытность свою во Флоренции, влюбился в прелестную женщину. Он часто посещал ее; целые часы в глубоком безмолвии просиживал, любуясь красавицею, которая вышивала по серебру пурпурным шелком. Впечатление прелестных рук навсегда осталось в памяти любовника, и столь сильно, что впоследствии времени, рассказывая битву Мандрикала с злополучным Сербином, он сравнивает алую кровь, текущую из глубокой раны юноши, с пурпурными начертаниями, которые вышивала по серебру белоснежная рука незабвенной флорентинки. Нежные сердца помнят те места в Вергилии, где поэт говорит о своей милой Мантуе; стихи римского Омера исполнены воспоминаний о юности; они исполнены сих глубоких, неизгладимых впечатлений, которые погружают читателя в сладкую задумчивость, напоминая ему его собственную жизнь и ясную зарю молодости.
Климат, вид неба, воды и земли – все действует на душу поэта, отверстую для впечатлений. Мы видим в песнях северных скальдов и эрских бардов нечто суровое, мрачное, дикое и всегда мечтательное, напоминающее и пасмурное небо севера, и туманы морские, и всю природу, скудную дарами жизни, но всегда величественную, прелестную и в ужасах. Мы видим неизгладимый отпечаток климата в стихотворцах полуденных: некоторую негу, роскошь воображения, свежесть чувств и ясность мыслей, напоминающих и небо, и всю благотворную природу стран южных, где человек наслаждается двойною жизнию в сравнении с нами, где все питает и нежит его чувства, где все говорит его воображению. Напрасно уроженец Сицилии или Неаполя желал бы состязаться в песнях своих с бардом Морвена и описывать, подобно ему, мрачную природу севера: напрасно северный поэт желал бы изображать роскошные долины, прохладные пещеры, плодоносные рощи, тихие заливы и небо Сицилии, высокое, прозрачное и вечно ясное. Один Тасс, рожденный под раскаленным солнцем Неаполя, мог описать столь верными и свежими красками ужасную засуху, гибельную для крестовых воинов. По сему описанию, говорит ученый Женгене, можно узнать полуденного жителя, который неоднократно подвергался смертному влиянию ветров африканских, неоднократно изнемогал под бременем зноя. – У нас Ломоносов, рожденный на берегу шумного моря, воспитанный в трудах промысла, сопряженного с опасностию, сей удивительный человек в первых летах юношества был сильно поражен явлениями природы: солнцем, которое в должайшие дни лета, дошед до края горизонта, снова восстает и снова течет по тверди небесной; северным сиянием, которое в полуночном краю заменяет солнце и проливает холодный и дрожащий свет на природу, спящую под глубокими снегами, – Ломоносов с каким-то особенным удовольствием описывает сии явления природы, величественные и прекрасные, и повторяет их в великолепных стихах своих:
Закрылись крайние с пучиною леса,
Лишь с морем видны вкруг слиянны небеса.
………………………………………
…Сквозь воздух в юге чистый
Открылись два холма и берега лесисты.
Меж ними кораблям в залив отверзся вход,
Убежище пловцам от беспокойных вод,
Где, в влажных берегах крутясь, печальна Уна
Медлительно течет в объятия Нептуна…
Достигло дневное до полночи светило,
Но в глубине лица горящего не скрыло;
Как пламенна гора казалось средь валов
И простирало блеск багровый из-за льдов.
Среди пречудныя при ясном солнце ночи
Верхи златых зыбей пловцам сверкают в очи.
Мы не остановимся на красоте стихов. Здесь все выражения великолепны: горящее лице солнца, противоположенное хладным водам океана; солнце, остановившееся на горизонте и, подобно пламенной горе, простирающее блеск из-за льдов, – суть первоклассные красоты описательной поэзии. Два последние стиха, заключающие картину, восхитительны:
Среди пречудныя при ясном солнце ночи
Верхи златых зыбей пловцам сверкают в очи.
Но мы заметим, что поэт не мог бы написать их, если бы он не был свидетелем сего чудесного явления, которое поразило огненное воображение вдохновенного отрока и оставило в нем глубокое, неизгладимое впечатление.
III. О характере Ломоносова
По слогу можно узнать человека, сказал Бюффон: характер писателя весь в его творениях. Это с одной стороны справедливо. – Без сомнения, по стихам и прозе Ломоносова мы можем заключить, что он имел возвышенную душу, ясный и проницательный ум, характер необыкновенно предприимчивый и сильный. Но любителю словесности, скажу более, наблюдателю-философу приятно было бы узнать некоторые подробности частной жизни великого человека; познакомиться с ним, узнать его страсти, его заботы, его печали, наслаждения, привычки, странности, слабости и самые пороки, неразлучные спутники человека. «Разум, услаждавшийся величественными понятиями всеобщего порядка, не может быть соединен с сердцем холодным», – говорил о Ломоносове писатель, которого имя равно любезно музам и добродетели. Сия истина утверждена жизнию Ломоносова. Воображение и сердце часто увлекали его в молодости: они были источниками его наслаждений и мучений, неизвестных, неизъяснимых обыкновенным людям. – Конечно, не одна страсть к учению, которая не могла еще вполне овладеть душою отрока, воспитанного среди болот холмогорских, не одна сия страсть, столь благородная и бескорыстная, принудила его оставить родину. Семейственные огорчения и некоторое тайное беспокойство души – было к тому важнейшим побуждением. Но сие беспокойство, сие тусклое желание чего-то нового и лучшего, сия предприимчивость, удивительная в столь нежном возрасте, не означали ли великую душу и нечто необыкновенное?
Пламенное рвение к учению, неутомимая жажда познаний, постоянство в преодолении преград, поставленных неприязненным роком, дерзость в предприятиях, увенчанная сияющим успехом, – все сии качества соединены были с сильными страстями, с пламенным сердцем; или, лучше сказать, проистекали из оных, и потому должно ли удивляться, что Ломоносов в молодости своей пожертвовал всеми выгодами любви? В Марбурге он женился тайно на дочери бедного ремесленника, и в скором времени обстоятельства принудили его разлучиться с супругою. Музы любят провождать любимцев своих по тернистой тропе несчастия в храм славы и успехов. Бедствия не всегда убивают талант: напротив того, они пробуждают в душе множество прекрасных свойств и знакомят ее с собственными силами. Ломоносов, гонимый судьбою, скитался по Германии, переходил из земли в землю, без пристанища, часто без насущного хлеба: он боролся со всеми нуждами и горестями и никогда, нигде не преступил законов чести, никогда не забывал оставленной супруги. С какой чувствительностию (возвратясь в Петербург) прочитал он письмо ее и воскликнул пред посланным от г. Бестужева: «Боже мой! могу ли ее оставить!» – Слезы прерывали беспрестанно слова его. Сладостно видеть наблюдателю человечества соединение столь глубокой чувствительности с умом обширным, верным и прозорливым! Чувствительность и сильное, пламенное воображение часто владели нашим поэтом, конечно, против воли его. На возвратном пути из Амстердама по морю Ломоносов, сидя на палубе, при шуме волн погружался в сладкую задумчивость. Открытое море, шум ветра и беспрерывное колебание корабля напоминали ему первые лета юности, проведенные посреди непостоянной стихии: они напоминали приморскую его родину и все, что ни есть сладостного для сердца нежного и доброго. Исполненному воспоминаний, однажды во сне ему привиделась страшная буря на волнах Ледовитого моря, кораблекрушение и хладный труп отца его, выброшенный на тот самый остров, куда Ломоносов в молодости своей приставал с ним для совершения рыбной ловли. Он в ужасе проснулся. Напрасно призывает на помощь рассудок свой, напрасно желает рассеять мрачные следы сновидения: мечта остается в глубине сердца, и ничто не в силах изгладить ее. Снова засыпает и снова видит шумное море, необитаемый остров и бледный труп родителя. Так! мы нередко уверяемся опытом, что Провидение влагает в нас какие-то тайные мысли, какое-то неизъяснимое предчувствие будущих злополучии, и событие часто подтверждает предсказание таинственного сна – к удивлению, к смирению слабого и гордого рассудка. Ломоносов это испытал в жизни своей. Отец его погиб в волнах, и тело его найдено рыбаками на том необитаемом острове, который назначил им печальный сын, по внушению пророческого сновидения.
По краткой биографии, напечатанной при сочинениях Ломоносова, мы теснее знакомимся с поэтом, когда он покидает родину свою. Самое юношество необыкновенного человека любопытно; каждое обстоятельство, каждая подробность драгоценны. Конечно, Ломоносов в откровенной беседе ближних и друзей любил рассказывать им первые свои печали и наслаждения; с каким восхищением он певал на клиросе священные песни и пожирал духовные книги! С каким усилием он промыслил славенскую грамматику и арифметику: врата учености своей! Как сердце его унывало, покидая отца, родину, ближних! Как трепетало от радости, вступая в обширную Москву!.. К сожалению, немного подробностей дошло до нас, и почти все исчезли с холодными слушателями. Одни великие души чувствуют всю важность дружеских поверений знаменитого человека, их современника. Ломоносов – нет сомнения – казался обыкновенным человеком в кругу приятелей своих, людей весьма обыкновенных. И мог ли Тредияковский с братнею быть ценителем величайшего ума своего времени, ценителем Ломоносова?
Но к счастию нашему, Россия имела в молодом вельможе покровителя дарований. Мы забудем со временем однофамильца Шувалова, который писал остроумные стихи на французском языке, который удивлял Парни, Мармонтеля, Лагарпа и Вольтера, ученых и неученых парижан любезностию, веселостию и учтивостию, достойною времен Лудовика XIV: но того Шувалова, который покровительствовал Ломоносова, никогда не забудем. Имя его навсегда останется драгоценно музам отечественным. Он был все для нашего лирика: деятельный и просвещенный покровитель, попечительный друг, часто снисходительный и всегда постоянный. Без него – Ломоносов не мог бы предпринять сих великих трудов, требующих издержек и беспрестанных пособий. Скажем более: как ученый, как стихотворец Ломоносов обязан ему всем, даже постоянством в любви ко славе. Прозорливый Шувалов в уроженце Холмогор угадал великого человека: счастливый поэт нашел в вельможе истинный патриотизм, обширные сведения, вкус образованный и, что всего лучше, – благородную, деятельную душу! Одним словом (редкое явление!), вельможа и поэт понимали друг друга. Письма Ломоносова к Шувалову суть бесценный памятник словесности русской: в них виден и стихотворец, и покровитель его. Они заключают в себе множество любопытных подробностей, анекдотов и, наконец, известие о кончине профессора Рихмана, достойного товарища Ломоносова. Рихман умер прекрасною смертию[5 - Это собственное выражение Ломоносова.], и Ломоносов с убедительным, сердечным красноречием ходатайствует за осиротевшее семейство, страшась, чтобы сей случай не был перетолкован противу наук, вечно ему любезных! Часто в письмах своих он жалуется на Тредияковского и Сумарокова. Если сии строки доказывают печальную истину – что дарования во все времена, даже при самой колыбели словесности, имеют врагов и завистников, то оне же, к радости нашей, открывают прекрасную душу великого писателя: «Никакого не желаю мщения, – говорит он, – но способов продолжить труды мои для славы, для пользы отечества. Мои зоилы хвалят меня своею хулою, называя мои изображения надутыми; нападая на меня, они нападают на древних…» До последней минуты жизни своей Ломоносов не изменил себе, и прелестная мысль о славе его не покидала. На одре мучений и смерти Рафаэль соболезновал о недоконченных картинах, наш северный гений – о несовершенных трудах своих. «Я умираю, – говорил он Штелину, – я умираю, приятель! На смерть взираю равнодушно: сожалею о том, чего не успел довершить для пользы наук, для славы отечества и Академии нашей. К сожалению, вижу, что благие мои намерения исчезнут вместе со мною…»
Тень великого стихотворца утешилась. Труды его не потеряны. Имя его бессмертно.
IV. Вечер у Кантемира
Антиох Кантемир, посланник русской при дворе Лудовика XV, предпочитал уединение шуму и рассеянию блестящего двора. Свободное время от должности он посвящал наукам и поэзии. В мирном кабинете, окруженный любимыми книгами, он часто восклицал, перечитывая Плутарха, Горация и Вергилия: «Счастлив, кто, довольствуясь малым, свободен, чужд зависти и предрассудков, имеет совесть чистую и провождает время с вами, наставники человечества, мудрецы всех веков и народов:
…с вами, Греки и Латины
Исследуя всех вещей действа и причины.
Ум его имел свойства, редко соединяемые: основательность, точность и воображение. Часто, углубленный в исчисления алгебраические, Кантемир искал истины и – подобно мудрецу Сиракуз – забывал мир, людей и общество, беспрестанно изменяющееся. Он занимался науками. Не для того, чтобы щеголять знаниями в суетном кругу ученых женщин или академиков: нет! он любил науки для наук, поэзию для поэзии, – редкое качество, истинный признак великого ума и прекрасной, сильной души! В Париже, где самолюбие знатного человека может собирать беспрестанно похвалы и приветствия за малейший успех в словесности, где несколько небрежных стихов, иностранцем написанных, дают право гражданства в республике словесности, Кантемир… писал русские стихи! И в какое время? Когда язык наш едва становился способным выражать мысли просвещенного человека. Бросьте на остров необитаемый математика и стихотворца, говорил Д'Аламбер: первый будет проводить линии и составлять углы, не заботясь, что никто не воспользуется его наблюдениями; вторы и перестанет сочинять стихи, ибо некому хвалить их: следственно, поэзия и поэт, заключает рассудительный философ, питаются суетностию. Париж был сей необитаемый остров для Кантемира. Кто понимал его? Кто восхищался его русскими стихами? – В самой России, где общество, науки и словесность были еще в пеленах, он, нет сомнения, находил мало ценителей своего таланта. Душою и умом выше времени обстоятельств, он писал стихи, он поправлял их беспрестанно, желая достигнуть возможного совершенства, и, казалось, завещал благородному потомству и книгу, и славу свою. Талант питается хвалою, но истинный, великий талант и без нее не умирает. Поэт может быть суетным – равно как и ученый, – но истинный любитель всего прекрасного не может существовать без деятельности, и то, что было сказано нашим Катуллом о нашем Бавии, —
С последним вздохом он издаст последний стих, —
почти то же можно сказать о великом стихотворце. На одре смерти Сервантес не покидал пера своего. Камоэнс писал «Лузияду» посреди племен диких. Тасс, несчастный Тасс, в ужасном заключении беседовал с музами. Державин, за час пред смертию, хладеющими перстами извлекал звуки из бессмертной лиры своей. Сих ли людей обвиним в суетности?.. Но возвратимся к Кантемиру.
Однажды по вечеру Монтескье и аббат В., известный остроумец, навестили нашего стихотворца. Он беседовал с своею музою и не приметил входящих друзей, которые имели к нему свободный доступ. Несколько минут Кантемир перечитывал начало послания своего к к<нязю> Никите Трубецкому, и всегда с новым жаром и удовольствием. При чтении спокойное и даже холодное лицо Кантемира приметным образом изменялось: глаза его сверкали, как молнии, щеки разгорелись, и рука его ударяла такту по отверстой пред ним книге. Монтескье взглянул на аббата, кивнул ему головою и намеревался удалиться. Они не хотели беспокоить министра, полагая, что он занят важным государственным делом. Кантемир услышал за собою шорох, оглянулся – и бросился обнимать неожиданных гостей. – «Мы вам помешали: мы пришли не в пору». – «Нимало!» – «Вы читали важные бумаги?» – «Я забавлялся: перечитывал стихи моего сочинения». – «Но какие? мы ни слова не поняли». – «Русские». – «Русские стихи!» – восклицал аббат, пожимая плечами от удивления: «русские стихи! это любопытно…»
Кантемир
Слабое подражание Горацию, Ювеналу и Персию. Вы знаете мою страсть к древним писателям; она завлекла меня далеко. Не в силах будучи сравниться с древними поэтами Рима, я влачусь за ними, как раб за господином, или – как страстный любовник за гордою красавицею. Вы никогда не писали стихов, г. президент, и не знаете сего мучения и удовольствия, которое называют метроманиею?
Монтескье
Ваша правда. Я не писал стихов, но люблю стихи, когда нахожу в них столько же мыслей, сколько слов: когда они ясны, сильны, выразительны, одним словом – хороши, как проза. Я всегда уважал сатиры и послания Горация: они знакомят нас с Римом, со нравами, с образом жизни переродившихся потомков Брутов, Кориоланов и Сципионов; Ювенала перечитываю с удовольствием: прямы и римлянин душою! Он то же в стихах, что Тацит в прозе. Я люблю творения сих поэтов, как памятники языка, образованного целыми веками славы народной, языка мужественного, обильного, выразительного: почтенного родителя языков новейших.
Аббат В.
И г. президент, конечно, сожалеет, что вы пишете русские стихи. Зная совершенно язык латинский и наш французский, столь ясный, точный и красивый, вы лишаете нас удовольствия читать ваши прелестные произведения.
Монтескье
Сожалею и удивляюсь, как можно писать, скажу более, как можно мыслить на языке необразованном? Вы пишете по-русски, а ваш язык и нация – еще в пеленах.
Кантемир
Справедливо: русский язык в младенчестве; но он богат, выразителен, как язык латинский, и со временем будет точен и ясен, как язык остроумного Фонтенеля и глубокомысленного Монтескье. Теперь я принужден бороться с величайшими трудностями: принужден изобретать беспрестанно новые слова, выражения и обороты, которые, без сомнения, обветшают через несколько годов. Переводя «Миры» Фонтенелевы, я создавал новые слова: академия Петербургская часто одобряла мои опыты. Я очищал путь для моих последователей.
Аббат В.
Но скажите, бога ради, как же вы могли присвоить все тонкие выражения и обороты первого щеголя языка французского, нашего семидесятилетнего Фонтенеля?
Кантемир
Как умел! Я следовал рабски по следам его. Перевод мой слаб, груб, неверен. Скифы заставили пленного грека изваять Венеру и обещали ему свободу. Грек был дурной ваятель; в Скифии не было ни паросского мрамора, ни хороших резцов; за неимением их – соотечественник Праксителев употребил грубый гранит, молот, простую пилу и создал нечто похожее на Венеру, следуя заочно образцу, столь славному не только в Греции, но даже в землях варваров. Скифы были довольны, ибо не знали божественного подлинника, и поклонялись новой богине с детским усердием. Скифы – мои соотечественники; Праксителева статуя – книга бессмертного Фонтенеля – а я сей грек, неискусный ваятель.
Аббат В.
О! вы слишком скромны, почтенный князь!
Кантемир
Не довольствуясь опытом моим над Фонтенелем, я принялся за «Персидские письма».
Аббат В.
«Персидские письма» по-русски!
Монтескье
Мог ли я ожидать, что первое, слабое произведение моего пера отнимет у вас столько драгоценного времени?
Аббат В.
Климат, вид неба, воды и земли – все действует на душу поэта, отверстую для впечатлений. Мы видим в песнях северных скальдов и эрских бардов нечто суровое, мрачное, дикое и всегда мечтательное, напоминающее и пасмурное небо севера, и туманы морские, и всю природу, скудную дарами жизни, но всегда величественную, прелестную и в ужасах. Мы видим неизгладимый отпечаток климата в стихотворцах полуденных: некоторую негу, роскошь воображения, свежесть чувств и ясность мыслей, напоминающих и небо, и всю благотворную природу стран южных, где человек наслаждается двойною жизнию в сравнении с нами, где все питает и нежит его чувства, где все говорит его воображению. Напрасно уроженец Сицилии или Неаполя желал бы состязаться в песнях своих с бардом Морвена и описывать, подобно ему, мрачную природу севера: напрасно северный поэт желал бы изображать роскошные долины, прохладные пещеры, плодоносные рощи, тихие заливы и небо Сицилии, высокое, прозрачное и вечно ясное. Один Тасс, рожденный под раскаленным солнцем Неаполя, мог описать столь верными и свежими красками ужасную засуху, гибельную для крестовых воинов. По сему описанию, говорит ученый Женгене, можно узнать полуденного жителя, который неоднократно подвергался смертному влиянию ветров африканских, неоднократно изнемогал под бременем зноя. – У нас Ломоносов, рожденный на берегу шумного моря, воспитанный в трудах промысла, сопряженного с опасностию, сей удивительный человек в первых летах юношества был сильно поражен явлениями природы: солнцем, которое в должайшие дни лета, дошед до края горизонта, снова восстает и снова течет по тверди небесной; северным сиянием, которое в полуночном краю заменяет солнце и проливает холодный и дрожащий свет на природу, спящую под глубокими снегами, – Ломоносов с каким-то особенным удовольствием описывает сии явления природы, величественные и прекрасные, и повторяет их в великолепных стихах своих:
Закрылись крайние с пучиною леса,
Лишь с морем видны вкруг слиянны небеса.
………………………………………
…Сквозь воздух в юге чистый
Открылись два холма и берега лесисты.
Меж ними кораблям в залив отверзся вход,
Убежище пловцам от беспокойных вод,
Где, в влажных берегах крутясь, печальна Уна
Медлительно течет в объятия Нептуна…
Достигло дневное до полночи светило,
Но в глубине лица горящего не скрыло;
Как пламенна гора казалось средь валов
И простирало блеск багровый из-за льдов.
Среди пречудныя при ясном солнце ночи
Верхи златых зыбей пловцам сверкают в очи.
Мы не остановимся на красоте стихов. Здесь все выражения великолепны: горящее лице солнца, противоположенное хладным водам океана; солнце, остановившееся на горизонте и, подобно пламенной горе, простирающее блеск из-за льдов, – суть первоклассные красоты описательной поэзии. Два последние стиха, заключающие картину, восхитительны:
Среди пречудныя при ясном солнце ночи
Верхи златых зыбей пловцам сверкают в очи.
Но мы заметим, что поэт не мог бы написать их, если бы он не был свидетелем сего чудесного явления, которое поразило огненное воображение вдохновенного отрока и оставило в нем глубокое, неизгладимое впечатление.
III. О характере Ломоносова
По слогу можно узнать человека, сказал Бюффон: характер писателя весь в его творениях. Это с одной стороны справедливо. – Без сомнения, по стихам и прозе Ломоносова мы можем заключить, что он имел возвышенную душу, ясный и проницательный ум, характер необыкновенно предприимчивый и сильный. Но любителю словесности, скажу более, наблюдателю-философу приятно было бы узнать некоторые подробности частной жизни великого человека; познакомиться с ним, узнать его страсти, его заботы, его печали, наслаждения, привычки, странности, слабости и самые пороки, неразлучные спутники человека. «Разум, услаждавшийся величественными понятиями всеобщего порядка, не может быть соединен с сердцем холодным», – говорил о Ломоносове писатель, которого имя равно любезно музам и добродетели. Сия истина утверждена жизнию Ломоносова. Воображение и сердце часто увлекали его в молодости: они были источниками его наслаждений и мучений, неизвестных, неизъяснимых обыкновенным людям. – Конечно, не одна страсть к учению, которая не могла еще вполне овладеть душою отрока, воспитанного среди болот холмогорских, не одна сия страсть, столь благородная и бескорыстная, принудила его оставить родину. Семейственные огорчения и некоторое тайное беспокойство души – было к тому важнейшим побуждением. Но сие беспокойство, сие тусклое желание чего-то нового и лучшего, сия предприимчивость, удивительная в столь нежном возрасте, не означали ли великую душу и нечто необыкновенное?
Пламенное рвение к учению, неутомимая жажда познаний, постоянство в преодолении преград, поставленных неприязненным роком, дерзость в предприятиях, увенчанная сияющим успехом, – все сии качества соединены были с сильными страстями, с пламенным сердцем; или, лучше сказать, проистекали из оных, и потому должно ли удивляться, что Ломоносов в молодости своей пожертвовал всеми выгодами любви? В Марбурге он женился тайно на дочери бедного ремесленника, и в скором времени обстоятельства принудили его разлучиться с супругою. Музы любят провождать любимцев своих по тернистой тропе несчастия в храм славы и успехов. Бедствия не всегда убивают талант: напротив того, они пробуждают в душе множество прекрасных свойств и знакомят ее с собственными силами. Ломоносов, гонимый судьбою, скитался по Германии, переходил из земли в землю, без пристанища, часто без насущного хлеба: он боролся со всеми нуждами и горестями и никогда, нигде не преступил законов чести, никогда не забывал оставленной супруги. С какой чувствительностию (возвратясь в Петербург) прочитал он письмо ее и воскликнул пред посланным от г. Бестужева: «Боже мой! могу ли ее оставить!» – Слезы прерывали беспрестанно слова его. Сладостно видеть наблюдателю человечества соединение столь глубокой чувствительности с умом обширным, верным и прозорливым! Чувствительность и сильное, пламенное воображение часто владели нашим поэтом, конечно, против воли его. На возвратном пути из Амстердама по морю Ломоносов, сидя на палубе, при шуме волн погружался в сладкую задумчивость. Открытое море, шум ветра и беспрерывное колебание корабля напоминали ему первые лета юности, проведенные посреди непостоянной стихии: они напоминали приморскую его родину и все, что ни есть сладостного для сердца нежного и доброго. Исполненному воспоминаний, однажды во сне ему привиделась страшная буря на волнах Ледовитого моря, кораблекрушение и хладный труп отца его, выброшенный на тот самый остров, куда Ломоносов в молодости своей приставал с ним для совершения рыбной ловли. Он в ужасе проснулся. Напрасно призывает на помощь рассудок свой, напрасно желает рассеять мрачные следы сновидения: мечта остается в глубине сердца, и ничто не в силах изгладить ее. Снова засыпает и снова видит шумное море, необитаемый остров и бледный труп родителя. Так! мы нередко уверяемся опытом, что Провидение влагает в нас какие-то тайные мысли, какое-то неизъяснимое предчувствие будущих злополучии, и событие часто подтверждает предсказание таинственного сна – к удивлению, к смирению слабого и гордого рассудка. Ломоносов это испытал в жизни своей. Отец его погиб в волнах, и тело его найдено рыбаками на том необитаемом острове, который назначил им печальный сын, по внушению пророческого сновидения.
По краткой биографии, напечатанной при сочинениях Ломоносова, мы теснее знакомимся с поэтом, когда он покидает родину свою. Самое юношество необыкновенного человека любопытно; каждое обстоятельство, каждая подробность драгоценны. Конечно, Ломоносов в откровенной беседе ближних и друзей любил рассказывать им первые свои печали и наслаждения; с каким восхищением он певал на клиросе священные песни и пожирал духовные книги! С каким усилием он промыслил славенскую грамматику и арифметику: врата учености своей! Как сердце его унывало, покидая отца, родину, ближних! Как трепетало от радости, вступая в обширную Москву!.. К сожалению, немного подробностей дошло до нас, и почти все исчезли с холодными слушателями. Одни великие души чувствуют всю важность дружеских поверений знаменитого человека, их современника. Ломоносов – нет сомнения – казался обыкновенным человеком в кругу приятелей своих, людей весьма обыкновенных. И мог ли Тредияковский с братнею быть ценителем величайшего ума своего времени, ценителем Ломоносова?
Но к счастию нашему, Россия имела в молодом вельможе покровителя дарований. Мы забудем со временем однофамильца Шувалова, который писал остроумные стихи на французском языке, который удивлял Парни, Мармонтеля, Лагарпа и Вольтера, ученых и неученых парижан любезностию, веселостию и учтивостию, достойною времен Лудовика XIV: но того Шувалова, который покровительствовал Ломоносова, никогда не забудем. Имя его навсегда останется драгоценно музам отечественным. Он был все для нашего лирика: деятельный и просвещенный покровитель, попечительный друг, часто снисходительный и всегда постоянный. Без него – Ломоносов не мог бы предпринять сих великих трудов, требующих издержек и беспрестанных пособий. Скажем более: как ученый, как стихотворец Ломоносов обязан ему всем, даже постоянством в любви ко славе. Прозорливый Шувалов в уроженце Холмогор угадал великого человека: счастливый поэт нашел в вельможе истинный патриотизм, обширные сведения, вкус образованный и, что всего лучше, – благородную, деятельную душу! Одним словом (редкое явление!), вельможа и поэт понимали друг друга. Письма Ломоносова к Шувалову суть бесценный памятник словесности русской: в них виден и стихотворец, и покровитель его. Они заключают в себе множество любопытных подробностей, анекдотов и, наконец, известие о кончине профессора Рихмана, достойного товарища Ломоносова. Рихман умер прекрасною смертию[5 - Это собственное выражение Ломоносова.], и Ломоносов с убедительным, сердечным красноречием ходатайствует за осиротевшее семейство, страшась, чтобы сей случай не был перетолкован противу наук, вечно ему любезных! Часто в письмах своих он жалуется на Тредияковского и Сумарокова. Если сии строки доказывают печальную истину – что дарования во все времена, даже при самой колыбели словесности, имеют врагов и завистников, то оне же, к радости нашей, открывают прекрасную душу великого писателя: «Никакого не желаю мщения, – говорит он, – но способов продолжить труды мои для славы, для пользы отечества. Мои зоилы хвалят меня своею хулою, называя мои изображения надутыми; нападая на меня, они нападают на древних…» До последней минуты жизни своей Ломоносов не изменил себе, и прелестная мысль о славе его не покидала. На одре мучений и смерти Рафаэль соболезновал о недоконченных картинах, наш северный гений – о несовершенных трудах своих. «Я умираю, – говорил он Штелину, – я умираю, приятель! На смерть взираю равнодушно: сожалею о том, чего не успел довершить для пользы наук, для славы отечества и Академии нашей. К сожалению, вижу, что благие мои намерения исчезнут вместе со мною…»
Тень великого стихотворца утешилась. Труды его не потеряны. Имя его бессмертно.
IV. Вечер у Кантемира
Антиох Кантемир, посланник русской при дворе Лудовика XV, предпочитал уединение шуму и рассеянию блестящего двора. Свободное время от должности он посвящал наукам и поэзии. В мирном кабинете, окруженный любимыми книгами, он часто восклицал, перечитывая Плутарха, Горация и Вергилия: «Счастлив, кто, довольствуясь малым, свободен, чужд зависти и предрассудков, имеет совесть чистую и провождает время с вами, наставники человечества, мудрецы всех веков и народов:
…с вами, Греки и Латины
Исследуя всех вещей действа и причины.
Ум его имел свойства, редко соединяемые: основательность, точность и воображение. Часто, углубленный в исчисления алгебраические, Кантемир искал истины и – подобно мудрецу Сиракуз – забывал мир, людей и общество, беспрестанно изменяющееся. Он занимался науками. Не для того, чтобы щеголять знаниями в суетном кругу ученых женщин или академиков: нет! он любил науки для наук, поэзию для поэзии, – редкое качество, истинный признак великого ума и прекрасной, сильной души! В Париже, где самолюбие знатного человека может собирать беспрестанно похвалы и приветствия за малейший успех в словесности, где несколько небрежных стихов, иностранцем написанных, дают право гражданства в республике словесности, Кантемир… писал русские стихи! И в какое время? Когда язык наш едва становился способным выражать мысли просвещенного человека. Бросьте на остров необитаемый математика и стихотворца, говорил Д'Аламбер: первый будет проводить линии и составлять углы, не заботясь, что никто не воспользуется его наблюдениями; вторы и перестанет сочинять стихи, ибо некому хвалить их: следственно, поэзия и поэт, заключает рассудительный философ, питаются суетностию. Париж был сей необитаемый остров для Кантемира. Кто понимал его? Кто восхищался его русскими стихами? – В самой России, где общество, науки и словесность были еще в пеленах, он, нет сомнения, находил мало ценителей своего таланта. Душою и умом выше времени обстоятельств, он писал стихи, он поправлял их беспрестанно, желая достигнуть возможного совершенства, и, казалось, завещал благородному потомству и книгу, и славу свою. Талант питается хвалою, но истинный, великий талант и без нее не умирает. Поэт может быть суетным – равно как и ученый, – но истинный любитель всего прекрасного не может существовать без деятельности, и то, что было сказано нашим Катуллом о нашем Бавии, —
С последним вздохом он издаст последний стих, —
почти то же можно сказать о великом стихотворце. На одре смерти Сервантес не покидал пера своего. Камоэнс писал «Лузияду» посреди племен диких. Тасс, несчастный Тасс, в ужасном заключении беседовал с музами. Державин, за час пред смертию, хладеющими перстами извлекал звуки из бессмертной лиры своей. Сих ли людей обвиним в суетности?.. Но возвратимся к Кантемиру.
Однажды по вечеру Монтескье и аббат В., известный остроумец, навестили нашего стихотворца. Он беседовал с своею музою и не приметил входящих друзей, которые имели к нему свободный доступ. Несколько минут Кантемир перечитывал начало послания своего к к<нязю> Никите Трубецкому, и всегда с новым жаром и удовольствием. При чтении спокойное и даже холодное лицо Кантемира приметным образом изменялось: глаза его сверкали, как молнии, щеки разгорелись, и рука его ударяла такту по отверстой пред ним книге. Монтескье взглянул на аббата, кивнул ему головою и намеревался удалиться. Они не хотели беспокоить министра, полагая, что он занят важным государственным делом. Кантемир услышал за собою шорох, оглянулся – и бросился обнимать неожиданных гостей. – «Мы вам помешали: мы пришли не в пору». – «Нимало!» – «Вы читали важные бумаги?» – «Я забавлялся: перечитывал стихи моего сочинения». – «Но какие? мы ни слова не поняли». – «Русские». – «Русские стихи!» – восклицал аббат, пожимая плечами от удивления: «русские стихи! это любопытно…»
Кантемир
Слабое подражание Горацию, Ювеналу и Персию. Вы знаете мою страсть к древним писателям; она завлекла меня далеко. Не в силах будучи сравниться с древними поэтами Рима, я влачусь за ними, как раб за господином, или – как страстный любовник за гордою красавицею. Вы никогда не писали стихов, г. президент, и не знаете сего мучения и удовольствия, которое называют метроманиею?
Монтескье
Ваша правда. Я не писал стихов, но люблю стихи, когда нахожу в них столько же мыслей, сколько слов: когда они ясны, сильны, выразительны, одним словом – хороши, как проза. Я всегда уважал сатиры и послания Горация: они знакомят нас с Римом, со нравами, с образом жизни переродившихся потомков Брутов, Кориоланов и Сципионов; Ювенала перечитываю с удовольствием: прямы и римлянин душою! Он то же в стихах, что Тацит в прозе. Я люблю творения сих поэтов, как памятники языка, образованного целыми веками славы народной, языка мужественного, обильного, выразительного: почтенного родителя языков новейших.
Аббат В.
И г. президент, конечно, сожалеет, что вы пишете русские стихи. Зная совершенно язык латинский и наш французский, столь ясный, точный и красивый, вы лишаете нас удовольствия читать ваши прелестные произведения.
Монтескье
Сожалею и удивляюсь, как можно писать, скажу более, как можно мыслить на языке необразованном? Вы пишете по-русски, а ваш язык и нация – еще в пеленах.
Кантемир
Справедливо: русский язык в младенчестве; но он богат, выразителен, как язык латинский, и со временем будет точен и ясен, как язык остроумного Фонтенеля и глубокомысленного Монтескье. Теперь я принужден бороться с величайшими трудностями: принужден изобретать беспрестанно новые слова, выражения и обороты, которые, без сомнения, обветшают через несколько годов. Переводя «Миры» Фонтенелевы, я создавал новые слова: академия Петербургская часто одобряла мои опыты. Я очищал путь для моих последователей.
Аббат В.
Но скажите, бога ради, как же вы могли присвоить все тонкие выражения и обороты первого щеголя языка французского, нашего семидесятилетнего Фонтенеля?
Кантемир
Как умел! Я следовал рабски по следам его. Перевод мой слаб, груб, неверен. Скифы заставили пленного грека изваять Венеру и обещали ему свободу. Грек был дурной ваятель; в Скифии не было ни паросского мрамора, ни хороших резцов; за неимением их – соотечественник Праксителев употребил грубый гранит, молот, простую пилу и создал нечто похожее на Венеру, следуя заочно образцу, столь славному не только в Греции, но даже в землях варваров. Скифы были довольны, ибо не знали божественного подлинника, и поклонялись новой богине с детским усердием. Скифы – мои соотечественники; Праксителева статуя – книга бессмертного Фонтенеля – а я сей грек, неискусный ваятель.
Аббат В.
О! вы слишком скромны, почтенный князь!
Кантемир
Не довольствуясь опытом моим над Фонтенелем, я принялся за «Персидские письма».
Аббат В.
«Персидские письма» по-русски!
Монтескье
Мог ли я ожидать, что первое, слабое произведение моего пера отнимет у вас столько драгоценного времени?
Аббат В.