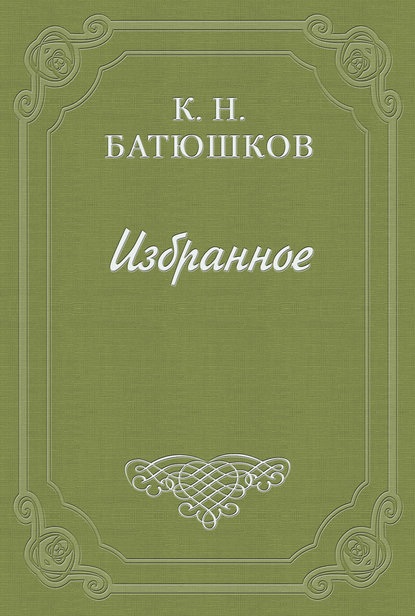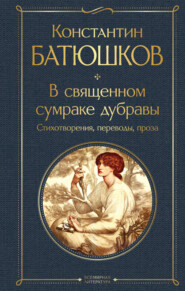По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Опыты в стихах и прозе. Часть 1. Проза
Год написания книги
1817
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кантемир
…Скажите, если грубые дети Севера умеют чувствовать и изъясняться столь живо и приятно, то чего нельзя ожидать нам от людей образованных?
Аббат В.
Но… почтенный защитник Севера… вы знаете, что народные песни… лепетание младенцев!
Кантемир
Младенцев, которые со временем возмужают. Как знать? Может быть, на диких берегах Камы или величественной Волги – возникнут великие умы, редкие таланты. Что скажете, г. президент, что скажете, услыша, что при льдах Северного моря, между полудиких родился великий гений? Что он прошел исполинскими шагами все поле наук; как философ, как оратор и поэт преобразовал язык свой и оставил по себе вечные памятники? Это одно предположение, но дело возможное. Что скажете, если…
Аббат В.
Но к чему сии гипотезы? Легче поверю, что русские взяли приступом Париж и уничтожили все крепости, Вобаном построенные!!! Впрочем, для чудес нет законов, говорил мне Фонтенель с значительною усмешкою, прочитав в первый раз свое глубокомысленное рассуждение об оракулах. Все надежды ваши, может быть, и сбудутся, или вы найдете их в царстве Луны, с утраченными надеждами Астольфа. Но, постите моему чистосердечию… признаюсь, я до сих пор смотрю на вас с удивлением и не могу постигнуть, как можно в Париже – на земле Расина и Корнеля – писать русские стихи?
Кантемир
Это напоминает: как можно быть персиянином?
Монтескье
Вы хотели поразить нас собственным нашим оружием. Но позвольте сделать одно замечание. Вы подражаете Горацию и Ювеналу: следственно, пишете сатиры, – сатиры на нравы… которые еще не установились. Гораций и Ювенал осмеивали пороки народа развратного, но достигшего высокой степени просвещения; остроумный и всегда рассудительный Буало писал при дворе великого короля, в самую блестящую эпоху монархии французской. Теперь общество в России должно представлять ужасный хаос: грубое слияние всего порочного, смешение закоренелых предрассудков, невежества, древнего варварства, татарских обычаев с некоторым блеском роскоши азиятской, с некоторыми искрами просвещения европейского! Какая тут пища для поэта сатирического? Могут ли проникнуть тонкие стрелы эпиграммы сквозь тройную броню невежества и уязвить сердце, окаменелое от пороков, закаленное в невежестве? И что значат сии стрелы в земле, где женщины, хранительницы нравов, едва начинают освобождаться из-под ига мужей своих; в земле, где общественное мнение еще шатается, еще не установилось и не может наказывать своим приговором того, что не подлежит суду законов? Одним словом: как можно смеяся говорить истину властелинам или рабам? Первым – опасно; другим – бесполезно.
Кантемир
Пользуясь покровительством монархов и вельмож, занимающих первые степени в государстве, я без страха говорил истину, и мои сатиры принесли некоторую пользу. Петр Великий, преобразуя Россию, старался преобразовать и нравы: новое поприще открылось наблюдателю человечества и страстей его. Мы увидели в древней Москве чудесное смешение старины и новизны, две стихии в беспрестанной борьбе одна с другою. Новые обычаи, новые платья, новый род жизни, новый язык не могли еще изменить древних людей, изгладить древний характер. Иные бояра, надевая парик и новое платье, оставались с прежними предрассудками, с древним упрямством и тем казались еще страннее; другие, отложа бороду и длинный кафтан праотеческий, с платьем европейским надевали все пороки, все слабости ваших соотечественников, но вашей любезности и людскости занять не умели. Частые перемены при дворе возводили на высокие степени государственные людей низких и недостойных: они являлись и – исчезали. Временщик сменял временщика, толпа льстецов другую толпу. Гордость и низость, суеверие и кощунство, лицемерие и явный разврат, скупость и расточительность неимоверная: одним словом, страсти, по всему противуположенные, сливались чудесным образом и представляли новое зрелище равнодушному наблюдателю и философу, который только ощупью, и с Горацием в руках, мог отыскать счастливую средину вещей. Я старался изловить некоторые черты сих времен; скажу более: я старался явить порок во всей наготе его и намекнуть соотечественникам истинный путь честности, благих нравов и добродетели. Ученый Феофан, архимандрит Кролин, оба достойные пастыря; Никита Трубецкий и другие вельможи одобрили мои слабые опыты, мое перо неискусное, но смелое, чистосердечное. Я первый осмелился писать так, как говорят: я первый изгнал из языка нашего грубые слова славянские, чужестранные, не свойственные языку русскому, – и открыл новую дорогу для грядущих талантов. Сатиры мои будут иметь некоторую цену для потомков наших, подобно древним картинам первых живописцев, предшественников Рафаэля: в них они найдут изображение верное нравов и языка русского, в славном периоде для России: от времен Петра до царствования счастливой, обожаемой нами Елисаветы, – и имя мое (простите мне авторское самолюбие) будет уважаемо в России более потому, что я первый осмелился говорить языком муз и философии, нежели потому, что занимал важное место при дворе вашем.
Аббат В.
Прекрасно! Вы говорите, как истинный философ.
Монтескье
Мы желали бы видеть ваши сатиры на французском языке. Отчасти я согласен с вами: картина нравов народа почти нового всегда любопытна. Но… вот и аббат Гуаско, ваш приятель…
* * *
– Вы очень кстати навестили нас! – сказал Кантемир, обнимая аббата. – Вы перевели мои сатиры на французский язык: прочитайте что-нибудь в угождение г. президенту; а у вас, господа, прошу терпения и снисхождения…
Чтение и разговор продолжались долго, даже за полночь. Наконец Монтескье и аббат В. откланялись министру и расстались… довольны ли им? не знаю.
Знаю только, что Кантемир, шевеля гаснувшие уголья в камине, сказал аббату Гуаско:
– Признайся, любезный друг, Монтескье умный человек, великий писатель… но…
– Но говорит о России, как невежда, – прибавил аббат Гуаско. – Скромный Кантемир улыбнулся, пожелал доброй ночи аббату, и они расстались.
V. Письмо к И. М. М<Уравьеву>-А<Постолу>
О сочинениях г. Муравьева
Перечитывая снова рукописи и сочинения М. Н. Муравьева (изданные по его кончине, Москва, 1810), я осмелился сделать несколько замечаний. Две причины были моим побуждением. Вам будет приятно, милостивый государь, беседовать со мною о незабвенном муже, которого утрата была столь горестна для сердца вашего. Все теснее и теснее связывало вас с покойным вашим родственником. Самая дружба питалась, возвеличивалась взаимною любовью к музам, единственным утешительницам сей бурной жизни. Она украсила дни цветущей молодости вашей и поздним летам приготовила сладостные воспоминания. Конечно, каждый стих, каждое слово Вергилия напоминают вам о незабвенном друге вашем; ибо с ним вы читали древних, с ним наслаждались прекрасными вымыслами чувствительного поэта Мантуи, глубоким смыслом и гармонией Горация, величественными картинами Тасса, Мильтона и неизъяснимою прелестью стенаний Петрарки; одним словом, всеми сокровищами древней и новейшей словесности.
…Скажите, если грубые дети Севера умеют чувствовать и изъясняться столь живо и приятно, то чего нельзя ожидать нам от людей образованных?
Аббат В.
Но… почтенный защитник Севера… вы знаете, что народные песни… лепетание младенцев!
Кантемир
Младенцев, которые со временем возмужают. Как знать? Может быть, на диких берегах Камы или величественной Волги – возникнут великие умы, редкие таланты. Что скажете, г. президент, что скажете, услыша, что при льдах Северного моря, между полудиких родился великий гений? Что он прошел исполинскими шагами все поле наук; как философ, как оратор и поэт преобразовал язык свой и оставил по себе вечные памятники? Это одно предположение, но дело возможное. Что скажете, если…
Аббат В.
Но к чему сии гипотезы? Легче поверю, что русские взяли приступом Париж и уничтожили все крепости, Вобаном построенные!!! Впрочем, для чудес нет законов, говорил мне Фонтенель с значительною усмешкою, прочитав в первый раз свое глубокомысленное рассуждение об оракулах. Все надежды ваши, может быть, и сбудутся, или вы найдете их в царстве Луны, с утраченными надеждами Астольфа. Но, постите моему чистосердечию… признаюсь, я до сих пор смотрю на вас с удивлением и не могу постигнуть, как можно в Париже – на земле Расина и Корнеля – писать русские стихи?
Кантемир
Это напоминает: как можно быть персиянином?
Монтескье
Вы хотели поразить нас собственным нашим оружием. Но позвольте сделать одно замечание. Вы подражаете Горацию и Ювеналу: следственно, пишете сатиры, – сатиры на нравы… которые еще не установились. Гораций и Ювенал осмеивали пороки народа развратного, но достигшего высокой степени просвещения; остроумный и всегда рассудительный Буало писал при дворе великого короля, в самую блестящую эпоху монархии французской. Теперь общество в России должно представлять ужасный хаос: грубое слияние всего порочного, смешение закоренелых предрассудков, невежества, древнего варварства, татарских обычаев с некоторым блеском роскоши азиятской, с некоторыми искрами просвещения европейского! Какая тут пища для поэта сатирического? Могут ли проникнуть тонкие стрелы эпиграммы сквозь тройную броню невежества и уязвить сердце, окаменелое от пороков, закаленное в невежестве? И что значат сии стрелы в земле, где женщины, хранительницы нравов, едва начинают освобождаться из-под ига мужей своих; в земле, где общественное мнение еще шатается, еще не установилось и не может наказывать своим приговором того, что не подлежит суду законов? Одним словом: как можно смеяся говорить истину властелинам или рабам? Первым – опасно; другим – бесполезно.
Кантемир
Пользуясь покровительством монархов и вельмож, занимающих первые степени в государстве, я без страха говорил истину, и мои сатиры принесли некоторую пользу. Петр Великий, преобразуя Россию, старался преобразовать и нравы: новое поприще открылось наблюдателю человечества и страстей его. Мы увидели в древней Москве чудесное смешение старины и новизны, две стихии в беспрестанной борьбе одна с другою. Новые обычаи, новые платья, новый род жизни, новый язык не могли еще изменить древних людей, изгладить древний характер. Иные бояра, надевая парик и новое платье, оставались с прежними предрассудками, с древним упрямством и тем казались еще страннее; другие, отложа бороду и длинный кафтан праотеческий, с платьем европейским надевали все пороки, все слабости ваших соотечественников, но вашей любезности и людскости занять не умели. Частые перемены при дворе возводили на высокие степени государственные людей низких и недостойных: они являлись и – исчезали. Временщик сменял временщика, толпа льстецов другую толпу. Гордость и низость, суеверие и кощунство, лицемерие и явный разврат, скупость и расточительность неимоверная: одним словом, страсти, по всему противуположенные, сливались чудесным образом и представляли новое зрелище равнодушному наблюдателю и философу, который только ощупью, и с Горацием в руках, мог отыскать счастливую средину вещей. Я старался изловить некоторые черты сих времен; скажу более: я старался явить порок во всей наготе его и намекнуть соотечественникам истинный путь честности, благих нравов и добродетели. Ученый Феофан, архимандрит Кролин, оба достойные пастыря; Никита Трубецкий и другие вельможи одобрили мои слабые опыты, мое перо неискусное, но смелое, чистосердечное. Я первый осмелился писать так, как говорят: я первый изгнал из языка нашего грубые слова славянские, чужестранные, не свойственные языку русскому, – и открыл новую дорогу для грядущих талантов. Сатиры мои будут иметь некоторую цену для потомков наших, подобно древним картинам первых живописцев, предшественников Рафаэля: в них они найдут изображение верное нравов и языка русского, в славном периоде для России: от времен Петра до царствования счастливой, обожаемой нами Елисаветы, – и имя мое (простите мне авторское самолюбие) будет уважаемо в России более потому, что я первый осмелился говорить языком муз и философии, нежели потому, что занимал важное место при дворе вашем.
Аббат В.
Прекрасно! Вы говорите, как истинный философ.
Монтескье
Мы желали бы видеть ваши сатиры на французском языке. Отчасти я согласен с вами: картина нравов народа почти нового всегда любопытна. Но… вот и аббат Гуаско, ваш приятель…
* * *
– Вы очень кстати навестили нас! – сказал Кантемир, обнимая аббата. – Вы перевели мои сатиры на французский язык: прочитайте что-нибудь в угождение г. президенту; а у вас, господа, прошу терпения и снисхождения…
Чтение и разговор продолжались долго, даже за полночь. Наконец Монтескье и аббат В. откланялись министру и расстались… довольны ли им? не знаю.
Знаю только, что Кантемир, шевеля гаснувшие уголья в камине, сказал аббату Гуаско:
– Признайся, любезный друг, Монтескье умный человек, великий писатель… но…
– Но говорит о России, как невежда, – прибавил аббат Гуаско. – Скромный Кантемир улыбнулся, пожелал доброй ночи аббату, и они расстались.
V. Письмо к И. М. М<Уравьеву>-А<Постолу>
О сочинениях г. Муравьева
Перечитывая снова рукописи и сочинения М. Н. Муравьева (изданные по его кончине, Москва, 1810), я осмелился сделать несколько замечаний. Две причины были моим побуждением. Вам будет приятно, милостивый государь, беседовать со мною о незабвенном муже, которого утрата была столь горестна для сердца вашего. Все теснее и теснее связывало вас с покойным вашим родственником. Самая дружба питалась, возвеличивалась взаимною любовью к музам, единственным утешительницам сей бурной жизни. Она украсила дни цветущей молодости вашей и поздним летам приготовила сладостные воспоминания. Конечно, каждый стих, каждое слово Вергилия напоминают вам о незабвенном друге вашем; ибо с ним вы читали древних, с ним наслаждались прекрасными вымыслами чувствительного поэта Мантуи, глубоким смыслом и гармонией Горация, величественными картинами Тасса, Мильтона и неизъяснимою прелестью стенаний Петрарки; одним словом, всеми сокровищами древней и новейшей словесности.