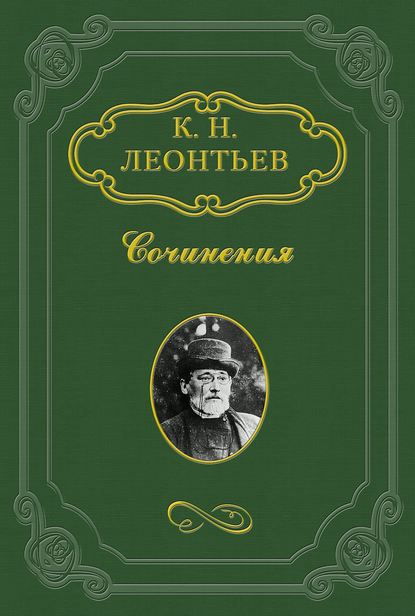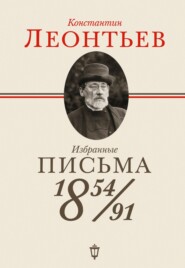По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Рассказ смоленского дьякона о нашествии 1812 года
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Рассказ смоленского дьякона о нашествии 1812 года
Константин Николаевич Леонтьев
«…Пришлось нам вскоре встретиться и с французами. Сколько мы ехали – не помню; только остановились под вечер на лужочке, у рощи какой-то, лошадей покормить и сами поужинать. Слышно было, что неприятель близко. У людей наших у всех были топоры и ножи, а кой у кого даже и ружья; хоть и плохие, а ружья. … Вдруг как выскочит из рощи всадник на сером в яблоках коне…»
Константин Николаевич Леонтьев
Рассказ смоленского дьякона о нашествии 1812 года
В Смоленской губернии, недалеко от Вязьмы, есть село Спасское-Телепнево. Оно принадлежало, вместе с несколькими другими прекрасными господскими имениями, подряд расположенными почти до самой Вязьмы, дяде моему, генерал-майору Владимиру Петровичу Карабанову. После смерти его все это богатство наследовал сын его от первой жены (урожденной Тургеневой) Федор Владимирович. Этот ничтожный, ни на что не способный молодой человек в короткое время запутал, прожил, промотал бесследно все наследство свое и кончил жизнь в лечебнице душевнобольных, где его, кажется, из милости содержали какие-то родные, и доведен он был до того, что ему дарили добрые люди по двугривенному на папиросы.
Теперь, как я слышал, красивое, живописное Спасское принадлежит одному из тех людей, которые векселями, взятыми вовремя, и т. п. «легальными» приемами умеют так хорошо пользоваться пустотой и бессмысленной необузданностью молодых русских дворян, подобных покойному двоюродному брату моему. Но в то время, о котором я хочу вспомнить, Спасское еще было в порядке. Это было в 51-м или 52-м году. Я был тогда студентом-медиком.
Есть на Пречистенке очень большой, длинный, трехэтажный дом, против церкви Троицы в Зубове. Теперь в нем гимназия Поливанова; а тогда он принадлежал богатой, пожилой и почтенной женщине Наталье Васильевне Охотниковой; молодая дочь Натальи Васильевны, Анна Павловна, была второй женой дяде моему, Владимиру Петровичу Карабанову, мачехой промотавшему все Федору Владимировичу. Муж, умирая (еще в начале 40-х годов), завещал Спасское в пожизненное пользование молодой вдове своей.
При Анне Павловне в Спасском было очень хорошо и все сохранялось в таком же виде, как было при дяде.
Усадьба Спасского-Телепнева была своеобразна. Дом, сад и все службы были расположены на плоской и ровной горе; под горой по большому оврагу протекает речка; а по ту сторону, на более низком берегу, прямо против дома, улица крестьянских изб.
Дом (позднее сгоревший дотла у Федора Владимировича в распоряжении) был вроде городского, кирпичный, белый, штукатуренный, с мезонином. Этот городской стиль наружной архитектуры был мне не совсем по вкусу; но внутри дом был хорош: поместительный, звонкий, летом прохладный, с паркетными полами; потолки были очень ярко и заново раскрашены; изображенные на них гирлянды, фрукты, пестрые букеты, синие с золотом вазы или длинные кувшинчики и райские птицы доставляли мне множество наслаждений не только в детстве моем, но и тогда уже, когда я, под руководством Севрука и Соколова, занимался трупоразъятиями в Московском анатомическом театре и в то же время в «часы досуга» с ужасной, острой болью юношеского разочарования чуть не плакал над «Тройкой» Некрасова и над стихами Огарева.
В Спасском было много поэзии; в доме было столько простора и достатка, пестроты и безмолвия; окрестности зелены, живописны и лесисты; сад – задумчив и даже мрачен. Этот сад, или, вернее, парк, с прямыми туда и сюда аллеями, был весь еловый, что делало эту усадьбу особенно оригинальной. Я нигде этого, кроме Спасского, не видал. Сосновый парк не был бы так суров и темен. В еловой чаще всегда стоит какая-то особая таинственная мгла от множества тонких и высохших нижних ветвей; а зелень ели так темна, монументальна и строга!
Вообще, в Спасском почти все мне нравилось, кроме одного, как я уже сказал, кроме наружного вида дома, слишком городского. Остальное все было хорошо.
Хозяйка, молодая вдова моего дяди, была очень дружна и с матерью моей, и со мною. Собой она была красива, вроде смуглой цыганки, весела, ласкова, образована, остроумна.
Я очень любил гостить в Спасском, и так как оно отстоит от нашего Кудинова всего только верст на девяносто, то мы почти каждое лето на своих ездили туда и проводили там одну-две-три недели.
Кроме желания тихо повеселиться и помечтать в прекрасном имении у милой хозяйки, была еще и другая причина, которая привлекала меня в эту местность. Смоленская губерния представлялась мне тогда несравненно многозначительнее нашей Калужской. Она была в глазах моих озарена сиянием исторической славы. Я слышал от матери моей, которая родилась и выросла под этой самой Вязьмой, столько рассказов о 12-м годе, так много с ранних лет читал о нашествии французов; я так любил и чтил самого Наполеона и вместе с тем так гордился его поражением в России; я так много знал по свежему преданию даже о домашней жизни моего деда и близких ему лиц. Большие портреты, которые висели на темно-синих обоях с золотыми звездочками в нашей кудиновской гостиной, с детства приучили меня видеть перед собой владетелей Спасского как живых людей, «во плоти».
Посещения Спасского всякий раз еще более оживляли во мне все эти представления, эти образы и события прошедшего. Все эти люди жили, боролись, веселились и страдали – здесь, в самом Спасском, или неподалеку отсюда.
Эти люди, это время, казалось, были от меня и современников моих так уже далеко; их вкусы, их привычки, их идеалы были во многих отношениях с моими тогдашними так несходны (я всегда опережал как-то окружающую «среду» и мои тогдашние идеалы и вкусы были ближе, увы! к либерально-современным, чем к нынешним моим же); но вместе с тем, вопреки моим новым тогда идеям и вкусам, я ощущал непостижимую внутреннюю связь сердца с этой эпохой и с этими отошедшими в вечность людьми.
Наконец, я был близок или встречался со столькими лицами, которые знали то время не со слов других или по книгам и картинам, как я, а сами жили тогда – видели Кутузова, императора Александра Павловича, говорили с Марией Феодоровной, видели французских пленных, французские трупы, полузасыпанные нашим снегом, сгоревшую Москву, опустелые деревни там, где теперь опять цвели господские усадьбы и где все казалось снова столь прочным, достаточным, до пресыщения незыблемым…
В самом Спасском на стенах осталось от дяди много хороших гравюр, снимков с картин Ораса Вернета и других французских батальных живописцев. Раненый усатый гренадер, одиноко и печально сидящий на срубленном дереве среди снежного поля; взятие русского редута французскими гренадерами в знаменитых меховых шапках. Не так далеко, в другом своем имении, дед сам обучал на дворе целую роту лихих ополченцев, обмундированных и вооруженных им на собственные средства, и в порыве патриотического гнева приказал псарям своим гнать с этого двора арапниками гостя (кажется, помещика Ковалева) за то, что тот осмелился сказать: «Охота тебе жертвовать такими молодцами! А я поставил, брат, все мужиков плохих, таких, от которых мне проку мало в работе».
Там, еще подальше, ближе к Вязьме, есть лес. В этом лесу убили казаки французскую генеральшу. Вот как это было. Выехал из Вязьмы генерал французский в карете. Место казалось безопасным, посреди французских войск, и конвоя они не взяли. Однако в лесу их неожиданно встретили казаки. Генерал хотел сдаться беспрекословно, но жена его выстрелила из пистолета и убила одного молодого казака. Тогда отец и брат убитого вытащили ее из кареты и, несмотря на мольбы мужа, оставленного ими в живых, изрубили при нем отважную и неразумную француженку.
Все это было так близко, так еще живо в памяти у многих, что, при всей глупой и грубой «реальности» моего мировоззрения как медицинского студента, при всем тоскливом субъективизме моей тогдашней умственной жизни, я освежался всякий раз при этом соприкосновении со святыней общенародной славы, и мысль моя, объективируясь, невольно становилась проще, тверже, здоровее…
В один из приездов моих в Спасское я познакомился с тамошним дьяконом, наружность которого я помню хорошо, но имя забыл. Быть может, он и теперь еще жив. Замечая, что я интересуюсь преданиями Отечественной войны, Анна Павловна мне в угоду пригласила отца дьякона на вечерний чай. Он был еще не стар; лет около сорока, не больше.
После чая мы остались одни, и я стал его расспрашивать. Дьякон очень охотно рассказал мне несколько эпизодов из времени нашествия, и я нахожу, что эти эпизоды, взятые в совокупности своей, довольно характерны. Эпоха с ее доблестями и темными сторонами отражается в них ярко, «как солнце в малой капле вод».
Вот что говорил мне дьякон.
«Многие из здешних крестьян во время нашествия вели себя необузданно, как разбойники. Мне было тогда лет 8–9. Батюшка мой священником, при дедушке вашем, Петре Матвеевиче. Дедушка, как вы знаете, жил не здесь, в Спасском, а в Соколове. Однако и здесь была господская усадьба. Как только, перед вступлением неприятеля, Петр Матвеевич уехал служить в ополчение, а бабушка ваша – в костромское свое имение, сейчас же и здесь и в Соколове начали мужики шалить; то тащат, то берут, другое ломают. Батюшка покойный сокрушался и негодовал, но и сам опасался крестьян. Один раз идет он и видит, стоит барская карета наружи, из сарая вывезена, и около нее мужик с топором.
– Ты что это с топором? – спросил батюшка.
– Вот хочу порубить карету, дерево на растопку годится, и еще кой-что повыберу из нее.
А лес близко. Нет, уж ему и до лесу дойти не хочется. Барская карета ближе!
Стало батюшке жаль господской кареты, он и говорит мужику:
– Образумься! Бессовестный ты человек! Тут неприятель подходит, а ты, христианин православный, грабительством занимаешься. А если вернется благополучно Петр Матвеевич и узнает, что тебе тогда будет?
А мужик ничуть не испугался, погрозился на батюшку топором и говорит:
– Ну, ты смотри, я тебя на месте уложу тут. Я и Петра Матвеевича теперь не боюсь; пусть он покажется, я и ему брюхо балахоном распущу!..
Вот какая дерзость!
Батюшка ужаснулся и ушел от него.
Итак, разорение от своих продолжалось. Входили в дом крестьяне и делали, что хотели. Была, например, в Соколове у дедушки вашего одна комната; кабинет, что ли, не знаю; обита вся по стенам и по потолку клеенкой на зиму для тепла. Клеенка эта была прибита цельными полосами от пола сверх через потолок и на другую сторону вниз опять до самого пола… Кругом около потолка небольшим карнизом было обведено. Так вот это я сам своими глазами видел. Знаете, детство, любопытствуешь, везде бегали с братьями. Обломали мужики верхний карниз; подрежут снизу клеенку, да так возьмут руками за один конец и отдерут все до другого конца безжалостно. И чего только они не делали! Наконец, посягнули на жизнь и батюшки моего, но Господь его спас.
Вот как это было. Сидели мы все дети с батюшкой и с матушкой поздно вечером и собирались уже спать, как вдруг слышим, стучатся в ворота.
– Отопри, хуже убьем!
Матушка перепугалась, и мы все как бы обезумели от страха, а мужики ломятся. Уж не помню я, вломились ли они, или сам батюшка им решился отпереть, только помню, как вошел народ с топорами и ножами, и всех нас мигом перевязали, матушку на печке оставили, нас по лавкам, а батюшку взяли за ноги, да об перекладину, что потолок поддерживает, головой бьют. Изба наша, конечно, была низенькая, простая. Вот они бьют отца моего головой об бревно и приговаривают: «А где у тебя, батька, деньги спрятаны? Давай деньги!» – Какие деньги! Была самая малость.
Они все бьют его головой с расчетом, чтоб сразу не убить, а узнать, где деньги. Постучат, постучат головой и дадут ему отдохнуть; видят, что он в памяти, опять колотить.
Мы видим все это и плачем… Однако Господь спас нас!.. Жила у нас девочка крестьянская, сиротка лет десяти.
Девочка умная, смелая. Никто и не заметил, как она выскочила из избы. Она выскочила в ту самую минуту, как мужики вломились, и побежала к одной соседке-помещице. Эта помещица была дама небогатая, только пресмелая, и дворовые люди ей были преданы. Она решилась никуда от французов не ехать, а осталась в своем имении, очень близко от нас[1 - Мне очень жаль, что я тогда не записал имя и фамилию этой смелой женщины.]. Но так как грабежа и грубостей от своего народа опасалась она больше, чем от самого неприятеля, то и сама всегда ходила вооруженная и сформировала из слуг своих небольшой отряд телохранителей, молодец к молодцу! Сиротка наша прямо к ней и объясняет, что батюшку мужики убить хотят. Мигом помещица снарядилась, приехала с вооруженными людьми… Взошли, накрыли разбойников, одолели их как раз; барыня сама скомандовала: «перевязать их таких-сяких!» И к ближайшему начальству отвели.
Так Бог спас нам батюшку. К счастью, барыня так поспешила, что большого вреда разбойники не успели ему сделать. Недолго поболел он и решился покинуть после этого свое жилище, и всей семьей собрались мы ехать в Калужскую губернию, в Медынский уезд. Там у нас были родные. Французов еще мы не видали, хотя по слухам они были уже близко.
Поехали мы не одни. Хороших людей собрался целый обоз. Не все крестьяне были одного духа; были между ними и очень хорошие люди. Многие из бунтовщиков продолжали повторять: «Пусть Петр Матвеич вернется – мы ему брюхо балахоном распустим!» Но другие дворовые и крестьяне удалялись от подобной дерзости и не желали даже и оставаться в Смоленской губернии при виде таких беспорядков и в ожидании неприятеля. Таким образом, тронулись мы большим обозом в путь к Медынскому уезду.
Пришлось нам вскоре встретиться и с французами. Сколько мы ехали – не помню; только остановились под вечер на лужочке, у рощи какой-то, лошадей покормить и сами поужинать. Слышно было, что неприятель близко. У людей наших у всех были топоры и ножи, а кой у кого даже и ружья; хоть и плохие, а ружья.
Ехал с нами наш кузнец, тоже крепостной Петра Матвеевича, охотник, стрелок довольно хороший; ружье у него было старое; кой-как сам его вычинил, зарядил и пороху на полку насыпал.
Поставили мы телеги в кучу; лошадей пустили на траву, а сами ужин варить.
Ну, варят ужин. А мы, дети, играть.
Вдруг как выскочит из рощи всадник на сером в яблоках коне… Красивый, белокурый мужчина, молодец в мундире. Остановился, лошадь (картина просто!) так под ним и играет! А на груди у самого, я помню, золото блестит… Так прекрасно!
Выехал офицер этот из рощи, а за ним человек десять – двадцать пеших солдат выбежали.
Видим, одежда совсем не наша. Все поняли, что это французы. Они остановились, глядят; а наши не знают, что делать.
Константин Николаевич Леонтьев
«…Пришлось нам вскоре встретиться и с французами. Сколько мы ехали – не помню; только остановились под вечер на лужочке, у рощи какой-то, лошадей покормить и сами поужинать. Слышно было, что неприятель близко. У людей наших у всех были топоры и ножи, а кой у кого даже и ружья; хоть и плохие, а ружья. … Вдруг как выскочит из рощи всадник на сером в яблоках коне…»
Константин Николаевич Леонтьев
Рассказ смоленского дьякона о нашествии 1812 года
В Смоленской губернии, недалеко от Вязьмы, есть село Спасское-Телепнево. Оно принадлежало, вместе с несколькими другими прекрасными господскими имениями, подряд расположенными почти до самой Вязьмы, дяде моему, генерал-майору Владимиру Петровичу Карабанову. После смерти его все это богатство наследовал сын его от первой жены (урожденной Тургеневой) Федор Владимирович. Этот ничтожный, ни на что не способный молодой человек в короткое время запутал, прожил, промотал бесследно все наследство свое и кончил жизнь в лечебнице душевнобольных, где его, кажется, из милости содержали какие-то родные, и доведен он был до того, что ему дарили добрые люди по двугривенному на папиросы.
Теперь, как я слышал, красивое, живописное Спасское принадлежит одному из тех людей, которые векселями, взятыми вовремя, и т. п. «легальными» приемами умеют так хорошо пользоваться пустотой и бессмысленной необузданностью молодых русских дворян, подобных покойному двоюродному брату моему. Но в то время, о котором я хочу вспомнить, Спасское еще было в порядке. Это было в 51-м или 52-м году. Я был тогда студентом-медиком.
Есть на Пречистенке очень большой, длинный, трехэтажный дом, против церкви Троицы в Зубове. Теперь в нем гимназия Поливанова; а тогда он принадлежал богатой, пожилой и почтенной женщине Наталье Васильевне Охотниковой; молодая дочь Натальи Васильевны, Анна Павловна, была второй женой дяде моему, Владимиру Петровичу Карабанову, мачехой промотавшему все Федору Владимировичу. Муж, умирая (еще в начале 40-х годов), завещал Спасское в пожизненное пользование молодой вдове своей.
При Анне Павловне в Спасском было очень хорошо и все сохранялось в таком же виде, как было при дяде.
Усадьба Спасского-Телепнева была своеобразна. Дом, сад и все службы были расположены на плоской и ровной горе; под горой по большому оврагу протекает речка; а по ту сторону, на более низком берегу, прямо против дома, улица крестьянских изб.
Дом (позднее сгоревший дотла у Федора Владимировича в распоряжении) был вроде городского, кирпичный, белый, штукатуренный, с мезонином. Этот городской стиль наружной архитектуры был мне не совсем по вкусу; но внутри дом был хорош: поместительный, звонкий, летом прохладный, с паркетными полами; потолки были очень ярко и заново раскрашены; изображенные на них гирлянды, фрукты, пестрые букеты, синие с золотом вазы или длинные кувшинчики и райские птицы доставляли мне множество наслаждений не только в детстве моем, но и тогда уже, когда я, под руководством Севрука и Соколова, занимался трупоразъятиями в Московском анатомическом театре и в то же время в «часы досуга» с ужасной, острой болью юношеского разочарования чуть не плакал над «Тройкой» Некрасова и над стихами Огарева.
В Спасском было много поэзии; в доме было столько простора и достатка, пестроты и безмолвия; окрестности зелены, живописны и лесисты; сад – задумчив и даже мрачен. Этот сад, или, вернее, парк, с прямыми туда и сюда аллеями, был весь еловый, что делало эту усадьбу особенно оригинальной. Я нигде этого, кроме Спасского, не видал. Сосновый парк не был бы так суров и темен. В еловой чаще всегда стоит какая-то особая таинственная мгла от множества тонких и высохших нижних ветвей; а зелень ели так темна, монументальна и строга!
Вообще, в Спасском почти все мне нравилось, кроме одного, как я уже сказал, кроме наружного вида дома, слишком городского. Остальное все было хорошо.
Хозяйка, молодая вдова моего дяди, была очень дружна и с матерью моей, и со мною. Собой она была красива, вроде смуглой цыганки, весела, ласкова, образована, остроумна.
Я очень любил гостить в Спасском, и так как оно отстоит от нашего Кудинова всего только верст на девяносто, то мы почти каждое лето на своих ездили туда и проводили там одну-две-три недели.
Кроме желания тихо повеселиться и помечтать в прекрасном имении у милой хозяйки, была еще и другая причина, которая привлекала меня в эту местность. Смоленская губерния представлялась мне тогда несравненно многозначительнее нашей Калужской. Она была в глазах моих озарена сиянием исторической славы. Я слышал от матери моей, которая родилась и выросла под этой самой Вязьмой, столько рассказов о 12-м годе, так много с ранних лет читал о нашествии французов; я так любил и чтил самого Наполеона и вместе с тем так гордился его поражением в России; я так много знал по свежему преданию даже о домашней жизни моего деда и близких ему лиц. Большие портреты, которые висели на темно-синих обоях с золотыми звездочками в нашей кудиновской гостиной, с детства приучили меня видеть перед собой владетелей Спасского как живых людей, «во плоти».
Посещения Спасского всякий раз еще более оживляли во мне все эти представления, эти образы и события прошедшего. Все эти люди жили, боролись, веселились и страдали – здесь, в самом Спасском, или неподалеку отсюда.
Эти люди, это время, казалось, были от меня и современников моих так уже далеко; их вкусы, их привычки, их идеалы были во многих отношениях с моими тогдашними так несходны (я всегда опережал как-то окружающую «среду» и мои тогдашние идеалы и вкусы были ближе, увы! к либерально-современным, чем к нынешним моим же); но вместе с тем, вопреки моим новым тогда идеям и вкусам, я ощущал непостижимую внутреннюю связь сердца с этой эпохой и с этими отошедшими в вечность людьми.
Наконец, я был близок или встречался со столькими лицами, которые знали то время не со слов других или по книгам и картинам, как я, а сами жили тогда – видели Кутузова, императора Александра Павловича, говорили с Марией Феодоровной, видели французских пленных, французские трупы, полузасыпанные нашим снегом, сгоревшую Москву, опустелые деревни там, где теперь опять цвели господские усадьбы и где все казалось снова столь прочным, достаточным, до пресыщения незыблемым…
В самом Спасском на стенах осталось от дяди много хороших гравюр, снимков с картин Ораса Вернета и других французских батальных живописцев. Раненый усатый гренадер, одиноко и печально сидящий на срубленном дереве среди снежного поля; взятие русского редута французскими гренадерами в знаменитых меховых шапках. Не так далеко, в другом своем имении, дед сам обучал на дворе целую роту лихих ополченцев, обмундированных и вооруженных им на собственные средства, и в порыве патриотического гнева приказал псарям своим гнать с этого двора арапниками гостя (кажется, помещика Ковалева) за то, что тот осмелился сказать: «Охота тебе жертвовать такими молодцами! А я поставил, брат, все мужиков плохих, таких, от которых мне проку мало в работе».
Там, еще подальше, ближе к Вязьме, есть лес. В этом лесу убили казаки французскую генеральшу. Вот как это было. Выехал из Вязьмы генерал французский в карете. Место казалось безопасным, посреди французских войск, и конвоя они не взяли. Однако в лесу их неожиданно встретили казаки. Генерал хотел сдаться беспрекословно, но жена его выстрелила из пистолета и убила одного молодого казака. Тогда отец и брат убитого вытащили ее из кареты и, несмотря на мольбы мужа, оставленного ими в живых, изрубили при нем отважную и неразумную француженку.
Все это было так близко, так еще живо в памяти у многих, что, при всей глупой и грубой «реальности» моего мировоззрения как медицинского студента, при всем тоскливом субъективизме моей тогдашней умственной жизни, я освежался всякий раз при этом соприкосновении со святыней общенародной славы, и мысль моя, объективируясь, невольно становилась проще, тверже, здоровее…
В один из приездов моих в Спасское я познакомился с тамошним дьяконом, наружность которого я помню хорошо, но имя забыл. Быть может, он и теперь еще жив. Замечая, что я интересуюсь преданиями Отечественной войны, Анна Павловна мне в угоду пригласила отца дьякона на вечерний чай. Он был еще не стар; лет около сорока, не больше.
После чая мы остались одни, и я стал его расспрашивать. Дьякон очень охотно рассказал мне несколько эпизодов из времени нашествия, и я нахожу, что эти эпизоды, взятые в совокупности своей, довольно характерны. Эпоха с ее доблестями и темными сторонами отражается в них ярко, «как солнце в малой капле вод».
Вот что говорил мне дьякон.
«Многие из здешних крестьян во время нашествия вели себя необузданно, как разбойники. Мне было тогда лет 8–9. Батюшка мой священником, при дедушке вашем, Петре Матвеевиче. Дедушка, как вы знаете, жил не здесь, в Спасском, а в Соколове. Однако и здесь была господская усадьба. Как только, перед вступлением неприятеля, Петр Матвеевич уехал служить в ополчение, а бабушка ваша – в костромское свое имение, сейчас же и здесь и в Соколове начали мужики шалить; то тащат, то берут, другое ломают. Батюшка покойный сокрушался и негодовал, но и сам опасался крестьян. Один раз идет он и видит, стоит барская карета наружи, из сарая вывезена, и около нее мужик с топором.
– Ты что это с топором? – спросил батюшка.
– Вот хочу порубить карету, дерево на растопку годится, и еще кой-что повыберу из нее.
А лес близко. Нет, уж ему и до лесу дойти не хочется. Барская карета ближе!
Стало батюшке жаль господской кареты, он и говорит мужику:
– Образумься! Бессовестный ты человек! Тут неприятель подходит, а ты, христианин православный, грабительством занимаешься. А если вернется благополучно Петр Матвеевич и узнает, что тебе тогда будет?
А мужик ничуть не испугался, погрозился на батюшку топором и говорит:
– Ну, ты смотри, я тебя на месте уложу тут. Я и Петра Матвеевича теперь не боюсь; пусть он покажется, я и ему брюхо балахоном распущу!..
Вот какая дерзость!
Батюшка ужаснулся и ушел от него.
Итак, разорение от своих продолжалось. Входили в дом крестьяне и делали, что хотели. Была, например, в Соколове у дедушки вашего одна комната; кабинет, что ли, не знаю; обита вся по стенам и по потолку клеенкой на зиму для тепла. Клеенка эта была прибита цельными полосами от пола сверх через потолок и на другую сторону вниз опять до самого пола… Кругом около потолка небольшим карнизом было обведено. Так вот это я сам своими глазами видел. Знаете, детство, любопытствуешь, везде бегали с братьями. Обломали мужики верхний карниз; подрежут снизу клеенку, да так возьмут руками за один конец и отдерут все до другого конца безжалостно. И чего только они не делали! Наконец, посягнули на жизнь и батюшки моего, но Господь его спас.
Вот как это было. Сидели мы все дети с батюшкой и с матушкой поздно вечером и собирались уже спать, как вдруг слышим, стучатся в ворота.
– Отопри, хуже убьем!
Матушка перепугалась, и мы все как бы обезумели от страха, а мужики ломятся. Уж не помню я, вломились ли они, или сам батюшка им решился отпереть, только помню, как вошел народ с топорами и ножами, и всех нас мигом перевязали, матушку на печке оставили, нас по лавкам, а батюшку взяли за ноги, да об перекладину, что потолок поддерживает, головой бьют. Изба наша, конечно, была низенькая, простая. Вот они бьют отца моего головой об бревно и приговаривают: «А где у тебя, батька, деньги спрятаны? Давай деньги!» – Какие деньги! Была самая малость.
Они все бьют его головой с расчетом, чтоб сразу не убить, а узнать, где деньги. Постучат, постучат головой и дадут ему отдохнуть; видят, что он в памяти, опять колотить.
Мы видим все это и плачем… Однако Господь спас нас!.. Жила у нас девочка крестьянская, сиротка лет десяти.
Девочка умная, смелая. Никто и не заметил, как она выскочила из избы. Она выскочила в ту самую минуту, как мужики вломились, и побежала к одной соседке-помещице. Эта помещица была дама небогатая, только пресмелая, и дворовые люди ей были преданы. Она решилась никуда от французов не ехать, а осталась в своем имении, очень близко от нас[1 - Мне очень жаль, что я тогда не записал имя и фамилию этой смелой женщины.]. Но так как грабежа и грубостей от своего народа опасалась она больше, чем от самого неприятеля, то и сама всегда ходила вооруженная и сформировала из слуг своих небольшой отряд телохранителей, молодец к молодцу! Сиротка наша прямо к ней и объясняет, что батюшку мужики убить хотят. Мигом помещица снарядилась, приехала с вооруженными людьми… Взошли, накрыли разбойников, одолели их как раз; барыня сама скомандовала: «перевязать их таких-сяких!» И к ближайшему начальству отвели.
Так Бог спас нам батюшку. К счастью, барыня так поспешила, что большого вреда разбойники не успели ему сделать. Недолго поболел он и решился покинуть после этого свое жилище, и всей семьей собрались мы ехать в Калужскую губернию, в Медынский уезд. Там у нас были родные. Французов еще мы не видали, хотя по слухам они были уже близко.
Поехали мы не одни. Хороших людей собрался целый обоз. Не все крестьяне были одного духа; были между ними и очень хорошие люди. Многие из бунтовщиков продолжали повторять: «Пусть Петр Матвеич вернется – мы ему брюхо балахоном распустим!» Но другие дворовые и крестьяне удалялись от подобной дерзости и не желали даже и оставаться в Смоленской губернии при виде таких беспорядков и в ожидании неприятеля. Таким образом, тронулись мы большим обозом в путь к Медынскому уезду.
Пришлось нам вскоре встретиться и с французами. Сколько мы ехали – не помню; только остановились под вечер на лужочке, у рощи какой-то, лошадей покормить и сами поужинать. Слышно было, что неприятель близко. У людей наших у всех были топоры и ножи, а кой у кого даже и ружья; хоть и плохие, а ружья.
Ехал с нами наш кузнец, тоже крепостной Петра Матвеевича, охотник, стрелок довольно хороший; ружье у него было старое; кой-как сам его вычинил, зарядил и пороху на полку насыпал.
Поставили мы телеги в кучу; лошадей пустили на траву, а сами ужин варить.
Ну, варят ужин. А мы, дети, играть.
Вдруг как выскочит из рощи всадник на сером в яблоках коне… Красивый, белокурый мужчина, молодец в мундире. Остановился, лошадь (картина просто!) так под ним и играет! А на груди у самого, я помню, золото блестит… Так прекрасно!
Выехал офицер этот из рощи, а за ним человек десять – двадцать пеших солдат выбежали.
Видим, одежда совсем не наша. Все поняли, что это французы. Они остановились, глядят; а наши не знают, что делать.