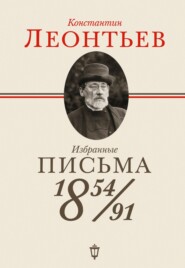По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сфакиот
Год написания книги
1877
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сфакиот
Константин Николаевич Леонтьев
«…А там пусть паша сошлет меня работать в Виддин, на дальний Дунай, или пусть повесят меня за это турки у стен крепостных. И я буду висеть – молодец, как гроздие виноградное качаясь. И скажут все люди, проходя мимо: «Это тот самый наш Яна?ки, тот Полудаки висит как виноградное гроздие и качается, который жену свою милую Аргиро? пистолетом, взяв за косу, умертвил и разрезал ее потом на четыре куска, а головку красивую в море отнес, омывая с нее слезами теплую кровь!..» Вот как я за мою честь сердит и зол… А ты ничуть даже, бре?, не боишься, я вижу. Аман! голова твоя глупенькая! Не боишься?.. Ты ее пугаешь, а она все молчит и ласкается…»
Константин Леонтьев
Сфакиот
Рассказ из критской жизни
I
Незадолго пред критским восстанием 1866 года. Весна. Большое село на одном из островов Архипелага. Белые, чистые каменные домики в зелени персиковых, апельсинных и миндальных деревьев, с плоскими террасами вместо кровель. Тихое море и дикие, пустынные скалы в стороне; по другую сторону виден целый лес маслин, узловатые стволы и седая зелень, как у вербы. Небо чисто. Вечереет. Вдали город, которого здания все больше и больше краснеют от зари, занимающейся за морем.
На дворе небольшого дома, с восхитительным видом на море и берега, сидят беседуя молодые новобрачные: Яни Полудаки и жена его Аргиро? (то есть серебряная). Ему двадцать пять лет, ей семнадцать с небольшим. Он критянин, родом из Сфакийских или Белых Гор, переселился на другой остров, на родину своей новобрачной и в ее приданый домик.
Яни очень высок, легок в движениях, силен и красив; он белокурый и с голубыми глазами и потому кажется еще моложе своих лет. Но в нем виден воин по духу и паликар настоящий. Одет так, как одеваются молодцы на греческих островах, в длинную феску и широкие шальвары, подобранные под колена.
Аргиро? напротив того: брюнетка, среднего роста; черты лица ее чрезвычайно нежны и строго-правильны; глаза ее велики и необыкновенно черны. В лице ее смесь чего-то простодушного, детски-серьезного и вместе с тем по временам лукавого. Одета она почти по-европейски, довольно скромно. Дикого цвета шерстяная юбка, красная гарибальдийская рубашка и темный печатный платочек на голове.
Яни сидит на дворе своем на стуле, курит и пьет кофе, возвратившись из лавки, в которой он целый день торговал. Аргиро? стоит пред ним с подносом, опершись на стол; они долго молча смеются, глядя друг на друга.
ЯНИ, с сияющим от счастья лицом. – Айда! Аргиро? моя, поди ко мне поближе, сядь поближе около твоего мужа. Ну, теперь тебе хорошо? Скажи мне, Аргиро?, моя голубица, сколько тебе лет? Я считаю, что тебе нет еще восемнадцати.
АРГИРО?, садясь. – Перешло за семнадцать этой осенью. Что тебе?
ЯНИ. – Тебе семнадцать, а мне двадцать пять. Давай считать, у нас теперь шестьдесят шестой год, а в шестьдесят первом мне было двадцать лет. – Молча глядит на нее и, вздыхая, приближает ее к себе. – Ты не знаешь, собака Аргиро?, как я за тебя и за чорные глаза твои умираю! Все мне в тебе нравится. Айда, милая моя, сделай еще такое сердитое лицо.
АРГИРО? смеется. – Не могу теперь, не могу.
ЯНИ. – Знаешь, задушу я тебя когда-нибудь, анафемский час твоего рожденья! Весенний цветочек ты мой; воздух около тебя и тот для меня лучше всякой розы! Такая у меня к тебе любовь! Что делать. В этом нет и греха, потому что мы венчались с тобою. Правда ведь? А то, что ты говоришь про Крит наш и про братнину жену, это дело старое. Что я был влюблен, это правда. И что я отравился, и это тоже правда, моя свечечка ты разубранная, разукрашенная!.. Не сердись, не сердись же, радость ты души моей, сокровище ты мое, не сердись. Не уходи с колен моих. Не огорчай мужа, прошу я тебя, моя душенька. Посмотри сюда. Взгляни, жасмин мой садовый, чем я не муж молодой? Полюбуйся… Лицо белое и румяное у меня, ростом кто у вас выше меня? У кого глаза синие такие, как у мужа твоего, Аргиро?, несчастная твоя голова! Волосики у меня белокурые, еще понежнее твоих будут, цыганка ты чорная. Рука моя… Постой немного; отодвинься, дай мне вытянуть руку эту. Гляди теперь. Разве не ужас моя рука? Только на войну мне идти, – не правда ли? – помолчав, вздыхает. – Я очень в тебя влюблен, Аргиро? моя! На муле утром еду в город – ты на уме; думаю, как я вечером к тебе возвращусь; в лавке масло продаю, думаю о том, как я видел тебя раз под маслиной еще прежде, когда ты и не выросши была. Видишь, я честность твою в тебе люблю и обожаю. Нравится мне очень, что ты, кроме меня, жениха своего, никогда ни на одного молодца и смотреть не хотела. А мало ли у вас тут их? Все дети красивые и лихие. Все «дели-канлы»[1 - Молодцы с бешеною кровью.], если так, для примера, по-турецки сказать. Да! Честность твоего поведения мне нравится. И я скажу тебе, золотая моя, что если ты меня обманешь, то я к деспоту[2 - Епископ.] разводиться не пойду, как другие, а возьму я тебя вот так за эту косу твою, выну пистолет из-за пояса красного моего и убью тебя. И разрежу потом мертвую псицу я тебя на четыре части и на четыре стороны далеко заброшу куски. А головку твою красивую я, за волосики взяв и слезами моими омывая, снесу и опущу в самое море, чтобы никто не видал, как она портиться будет и как будет гнить твое нежное личико… А там пусть паша сошлет меня работать в Виддин, на дальний Дунай, или пусть повесят меня за это турки у стен крепостных. И я буду висеть – молодец, как гроздие виноградное качаясь. И скажут все люди, проходя мимо: «Это тот самый наш Яна?ки, тот Полудаки висит как виноградное гроздие и качается, который жену свою милую Аргиро? пистолетом, взяв за косу, умертвил и разрезал ее потом на четыре куска, а головку красивую в море отнес, омывая с нее слезами теплую кровь!..» Вот как я за мою честь сердит и зол… А ты ничуть даже, бре?, не боишься, я вижу. Аман! голова твоя глупенькая! Не боишься?.. Ты ее пугаешь, а она все молчит и ласкается… А что ты не боишься моих угроз – это, пожалуй, тоже не дурно. Ты, значит это, говоришь: «Что мне бояться? Могу я ему изменить разве?» А я тебе, моя дорогая, вот что скажу. Влюблен я был в эту Афродиту, которая за братом моим замужем, и отравиться хотел, все это правда; только женился я на тебе все равно, как ты за меня замуж выходила, безгрешным мальчиком и таким невинным, что меня можно бы сейчас в иеромонахи на Святой Горе посвятить[3 - На Афоне в иеромонахи предпочитают посвящать людей, сохранивших целомудрие во время мiрской и безбрачной жизни.]… Понимаешь? апрельский цветочек ты мой, гвоздичка моя несравненная. Я согласен рассказать тебе об этих прошлых делах и о любви этой моей… Только ты не ревнуй, потому что это все прошло и теперь пусть ослепну я и пусть душа моя не спасется, если я тебе, царевна моя и супруга, обвенчанная попом, когда-нибудь даже в помысле изменю! Поняла? Слушай же! Сядь получше… Вот так!
II
ЯНИ. – Что ж, рассказывать?
АРГИРО?. – Говори, говори! Давно я хочу все это знать.
ЯНИ. – Хорошо. Расскажу все по совести. Когда наш капитан Коста? Ампела?с (ты слыхала об нем? он еще жив и теперь и из первых капитанов у нас в Сфакийских горах), когда Коста? Ампела?с приезжал по делам своим в Канею, мы с братом Христо всегда шли при нем пешие. Христо в то время было двадцать четыре года, а мне только двадцать. И были мы не одни с братом; бывало нас при старике капитане молодых ребят человек по шести, по семи, по восьми. Все молоденькие дети смелые, все высокие, все красивые; у всех по ружью на плече и по паре пистолетов серебряных и по большому ножу за кушаком красным; все в новых цветных шальварах и курточках, и у всех рукава выше локтя засучены, точно мы все сбираемся в кровь турецкую выше локтей руки наши сейчас погрузить. И от колен у всех ноги разуты, голые, без чулок, не потому, чтобы чулок не было дома, а так… для фигуры, знаешь! И башмаки хорошие, когда к городу подойдем, наденем. А дорогой, со своих ужасных и невиданных другими людьми гор спускаемся в таких критских высоких сапогах с мягкою и толстою подошвой, как ты у меня видела, Аргиро?, и знаешь их сама.
Идем. С камня на камень и опять с камня на камень, милая ты моя, как козы летим, летим мы и веселимся страх! Коста? Ампела?с едет на большом муле; мул весь в красных кистях, и у старца капа[4 - Бурнус из темного толстого сукна.] на красном подбое новая, прекрасная, и в высокой, превысокой феске сидит он, как настоящий ходжа-баши, с седою бородой.
Так едем мы по селам по всем; на нас смотрят люди; идем через прекрасные сады Серсепильи, на нас смотрят люди, и так мы в ворота Канейской крепости прямо вступаем!.. Да! и знаешь, что даже аскеры турецкие, стерегущие крепость, любуясь нами, завидовали… (Ах! Аргиро? ты моя… лукавая… Все косточки твои когда-нибудь я переломаю тебе! должна ты, бре?, помнить, несчастная, что у тебя за муж – за молодчик…) Да! Аргиро? моя! Турки завидовали и любовались нами. Едет Коста? Ампела?с наш в ворота городские, а мы около него все красуемся с ружьями на плечах, и фески все на бровь и на ухо вбок сбиты нарочно. «Вперед! Кто остановит?» Аскеры пропустили нас, и мы слышим, что они говорят друг другу: «Ну! гяуры! Ну, молодцы! Что за дети такие! Что за гяуры прекрасные».
Такие мы люди, мы сфакиоты! Вот что! Коста? Ампела?с приезжал в Канею по нашим сфакиотским делам. Ты, куропатка моя, не знаешь, что мы, сфакиоты, издавна податей порядком не платили. Кому бы принудить нас? Кому бы испугать? Камень у нас в горах такой ужасный, дорожки такие крутые, что не то лошади, мулы и ослы из нижних сел к нам не ходят и оступаются, и люди, сидя на них, боятся.
Тот же, кому нужно быть у нас по делам непременно, тот нашего сфакиотского мула нанимает. Сама ты, душенька моя, видишь, как низамскому войску трудно бы было идти в наши горы, чтобы принудить нас вовремя и сполна подати царю платить, если бы мы были приготовлены защищаться. Однако два человека все дело наше испортили, и начали мы теперь платить. Скажи ты мне теперь, как ты думаешь, что были это за люди? Предатели или нет? Турки? Нет. Худые люди? Не знаю, как бы это сказать… А думаю, что не совсем худые. Чужие завистники из города или из других епархий, может быть… Нет, и не предатели, и не турки, и не худые люди, и не чужие завистники… А мы с братом Христо. Вот отчего я и теперь еще вздыхаю, Аргиро? моя… Родине вред мы сделали нехотя… А ты вчера приревновала к братниной жене, свет мой сладкий ты, Аргиро?… Вот отчего, моя Аргиро?, я вздыхаю… Родину жалко свободную, а не любви этой старой. Дай Бог и ей, невестке моей, Афродите, и брату моему и детям их долго жить и состариться… А мне что? Сама ты пойми, прошу я тебя!..
Да! Мы вдвоем с братом Христо, безбородые мальчишки, головы безумные и отчаянные, все это сделали…
Стой же, вот как это было.
Коста? Ампела?с приезжал не раз, говорю я, по приказанию нового паши в город, об этих делах рассуждать. Новый паша его хорошо принимал. И хотя в город людей из сел обыкновенно с оружием не пускают, но нам прощали это, и мы красовались.
Паша этот был тот самый Халиль-паша, который и теперь у нас управляет. Но теперь им очень недовольны стали; а тогда, сначала, у него не слишком дурно пошло. И первое дело, что он был обучен во Франции, учился там медицине. Стал султанским доктором, а после уж и пашой его сделали. Нашим простым греческим языком он говорил лучше нас с тобой. В обращении с людьми он был прост и все знать хотел; он обо всем расспрашивал, и сначала, приехав к нам в Крит, все как будто облегчить старался и никого не искал притеснить.
У одного из наших греков в лавке, например, все картинки висели, все наши эллинские геройства 21-го года. На одной Мавромихали, по-майносски одетый, турок пикой колет, глаза ужасные раскрыл. Тут бедного дьяка (Господи, прости его душу!) два крепких турка схватили и вязать хотят, чтоб изжарить живого. А еще на третьей сам Маврокордато, в очках и с длинными волосами и во франкском платье, с большою бумагой в руке, на городской стене стоит, город защищает. А еще на одной картинке, побольше других, Рига Фереос, который стихи писал, знаешь:
До коих пор, о, паликары!
До коих пор в горах, в лесах…
и Кораи?с, который грамматику сделал, нагую женщину с земли подымают (жирная такая, и вся в ранах). Это Эллада освобождается. Рига Фере?ос и сам толстый, в широкой одежде, стоит, точно монах; а Кораис худенький, худенький, согнулся, как будто ему трудно такую толстую поднять, и одет он в такую франкскую веладу[5 - Фрак.], какую консула и другие великие европейцы на балы надевают. Паша раз ехал мимо его лавки верхом, слез с коня и вошел к нему в лавку. Человек испугался, а паша купил у него несколько вещей, посмотрел на стенки и говорит: «У тебя много картин! Нейдет только так их открыто держать, спрячь их себе в дом!» И больше ничего не сказал и ничего человеку не сделал. Вот он каким справедливым притворялся. Очень хитрый человек и очень образованный. Во все мешался сам.
Раз тоже верхом за город ехал, и бросились пастушьи собаки на его лошадь и испугали ее. А пастухи не успели удержать собак, которые были ужасно злы и рвали многих. Паша подозвал пастуха, сошел с лошади и сказал ему: «Если твои собаки на меня бросились так, то что же они могут сделать с пешим и бедным человеком? Разве, ты держишь их, чтобы за прохожими охотиться? Поди сюда поближе!» И сам снизошел дать пастуху три пощечины. Другой раз пешком пошел и увидал, что турок конный по сельскому засеянному пшеницей полю едет. Остановил и в тюрьму его: хлеб не топчи.
Я хвалю этого человека, хотя он и турок; но мы, христиане, должны помнить, что все это хитрость!
Ну, хорошо! Коста? Ампела?с к нему ездит. Халиль-паша его принимает с уважением.
– Что делаешь? Как живешь? Капитан Ампела?с кланяется.
– Что делаю! Кланяюсь вам, моему господину. Дружба и дружба такая… Страх!
– А подати?
– Что ж, паша-эффенди; земля бесплодная, камень, снег зимой, стужа, дикое-предикое место… Одними овцами какими-нибудь живем. Сами посудите…
– Ну, да, камень и снег… Овец иногда и чужих крадем десятками в нижних округах… И мула уводим – мул нам годится… Даже и невест богатых, и тех похищаем насильно…
Это, значит, паша так говорит, например. И говорит он еще:
– На вас, сфакиотов, все греки в городе и в нижних селах за это жалуются. Говорят, что вы ужасные разбойники.
А капитан ему вздыхает и жалуется (чтоб его как-нибудь тут в городе паша не задержал).
– Это правда, господин мой! Таких разбойников, как наши молодые ребята горные – свет не видывал. Нам за ними усмотреть очень трудно… Что нам с ними делать прикажете? Прикажите, мы старшие, то и сделаем с ними, что вы нам прикажете.
– Если вы не можете за ними смотреть, я начну сам, – угрожает паша.
Так это дело идет между ними понемножку. А податей все нет! И терпелив паша, не гневается. Увы! он хитрее нас был. Вышел опять случай, овец наши к себе снизу опять загнали и кой-какие дела другие молодецки обработали. Халиль-паша не ищет строгого наказания. А вот каким средним путем идет, чтобы жители другие и горожане видели, что паша хочет сфакиотов обуздать, но вдруг не может. А наши: «Вперед, ребята! еще что-нибудь давайте сделаем! Не бойтесь, у паши либо лицо очень мягкое, либо он хочет всем людям на острове понравиться, чтоб его все и сфакиоты и не сфакиоты любили. Айда! Вперед, паликары мои!.. Не бойтесь».
Вот глупость-то.
И больше всех глупостей мы с братом Христо глупость задумали.
Теперь смотри, Аргиро? моя, начну я сейчас о любви этой говорить. И если ты хочешь правду знать, не мешай мне рассказывать, не ревнуй. Зачем тебе ревновать? Я муж твой, говорю я тебе, и люблю тебя сильно.
III
Константин Николаевич Леонтьев
«…А там пусть паша сошлет меня работать в Виддин, на дальний Дунай, или пусть повесят меня за это турки у стен крепостных. И я буду висеть – молодец, как гроздие виноградное качаясь. И скажут все люди, проходя мимо: «Это тот самый наш Яна?ки, тот Полудаки висит как виноградное гроздие и качается, который жену свою милую Аргиро? пистолетом, взяв за косу, умертвил и разрезал ее потом на четыре куска, а головку красивую в море отнес, омывая с нее слезами теплую кровь!..» Вот как я за мою честь сердит и зол… А ты ничуть даже, бре?, не боишься, я вижу. Аман! голова твоя глупенькая! Не боишься?.. Ты ее пугаешь, а она все молчит и ласкается…»
Константин Леонтьев
Сфакиот
Рассказ из критской жизни
I
Незадолго пред критским восстанием 1866 года. Весна. Большое село на одном из островов Архипелага. Белые, чистые каменные домики в зелени персиковых, апельсинных и миндальных деревьев, с плоскими террасами вместо кровель. Тихое море и дикие, пустынные скалы в стороне; по другую сторону виден целый лес маслин, узловатые стволы и седая зелень, как у вербы. Небо чисто. Вечереет. Вдали город, которого здания все больше и больше краснеют от зари, занимающейся за морем.
На дворе небольшого дома, с восхитительным видом на море и берега, сидят беседуя молодые новобрачные: Яни Полудаки и жена его Аргиро? (то есть серебряная). Ему двадцать пять лет, ей семнадцать с небольшим. Он критянин, родом из Сфакийских или Белых Гор, переселился на другой остров, на родину своей новобрачной и в ее приданый домик.
Яни очень высок, легок в движениях, силен и красив; он белокурый и с голубыми глазами и потому кажется еще моложе своих лет. Но в нем виден воин по духу и паликар настоящий. Одет так, как одеваются молодцы на греческих островах, в длинную феску и широкие шальвары, подобранные под колена.
Аргиро? напротив того: брюнетка, среднего роста; черты лица ее чрезвычайно нежны и строго-правильны; глаза ее велики и необыкновенно черны. В лице ее смесь чего-то простодушного, детски-серьезного и вместе с тем по временам лукавого. Одета она почти по-европейски, довольно скромно. Дикого цвета шерстяная юбка, красная гарибальдийская рубашка и темный печатный платочек на голове.
Яни сидит на дворе своем на стуле, курит и пьет кофе, возвратившись из лавки, в которой он целый день торговал. Аргиро? стоит пред ним с подносом, опершись на стол; они долго молча смеются, глядя друг на друга.
ЯНИ, с сияющим от счастья лицом. – Айда! Аргиро? моя, поди ко мне поближе, сядь поближе около твоего мужа. Ну, теперь тебе хорошо? Скажи мне, Аргиро?, моя голубица, сколько тебе лет? Я считаю, что тебе нет еще восемнадцати.
АРГИРО?, садясь. – Перешло за семнадцать этой осенью. Что тебе?
ЯНИ. – Тебе семнадцать, а мне двадцать пять. Давай считать, у нас теперь шестьдесят шестой год, а в шестьдесят первом мне было двадцать лет. – Молча глядит на нее и, вздыхая, приближает ее к себе. – Ты не знаешь, собака Аргиро?, как я за тебя и за чорные глаза твои умираю! Все мне в тебе нравится. Айда, милая моя, сделай еще такое сердитое лицо.
АРГИРО? смеется. – Не могу теперь, не могу.
ЯНИ. – Знаешь, задушу я тебя когда-нибудь, анафемский час твоего рожденья! Весенний цветочек ты мой; воздух около тебя и тот для меня лучше всякой розы! Такая у меня к тебе любовь! Что делать. В этом нет и греха, потому что мы венчались с тобою. Правда ведь? А то, что ты говоришь про Крит наш и про братнину жену, это дело старое. Что я был влюблен, это правда. И что я отравился, и это тоже правда, моя свечечка ты разубранная, разукрашенная!.. Не сердись, не сердись же, радость ты души моей, сокровище ты мое, не сердись. Не уходи с колен моих. Не огорчай мужа, прошу я тебя, моя душенька. Посмотри сюда. Взгляни, жасмин мой садовый, чем я не муж молодой? Полюбуйся… Лицо белое и румяное у меня, ростом кто у вас выше меня? У кого глаза синие такие, как у мужа твоего, Аргиро?, несчастная твоя голова! Волосики у меня белокурые, еще понежнее твоих будут, цыганка ты чорная. Рука моя… Постой немного; отодвинься, дай мне вытянуть руку эту. Гляди теперь. Разве не ужас моя рука? Только на войну мне идти, – не правда ли? – помолчав, вздыхает. – Я очень в тебя влюблен, Аргиро? моя! На муле утром еду в город – ты на уме; думаю, как я вечером к тебе возвращусь; в лавке масло продаю, думаю о том, как я видел тебя раз под маслиной еще прежде, когда ты и не выросши была. Видишь, я честность твою в тебе люблю и обожаю. Нравится мне очень, что ты, кроме меня, жениха своего, никогда ни на одного молодца и смотреть не хотела. А мало ли у вас тут их? Все дети красивые и лихие. Все «дели-канлы»[1 - Молодцы с бешеною кровью.], если так, для примера, по-турецки сказать. Да! Честность твоего поведения мне нравится. И я скажу тебе, золотая моя, что если ты меня обманешь, то я к деспоту[2 - Епископ.] разводиться не пойду, как другие, а возьму я тебя вот так за эту косу твою, выну пистолет из-за пояса красного моего и убью тебя. И разрежу потом мертвую псицу я тебя на четыре части и на четыре стороны далеко заброшу куски. А головку твою красивую я, за волосики взяв и слезами моими омывая, снесу и опущу в самое море, чтобы никто не видал, как она портиться будет и как будет гнить твое нежное личико… А там пусть паша сошлет меня работать в Виддин, на дальний Дунай, или пусть повесят меня за это турки у стен крепостных. И я буду висеть – молодец, как гроздие виноградное качаясь. И скажут все люди, проходя мимо: «Это тот самый наш Яна?ки, тот Полудаки висит как виноградное гроздие и качается, который жену свою милую Аргиро? пистолетом, взяв за косу, умертвил и разрезал ее потом на четыре куска, а головку красивую в море отнес, омывая с нее слезами теплую кровь!..» Вот как я за мою честь сердит и зол… А ты ничуть даже, бре?, не боишься, я вижу. Аман! голова твоя глупенькая! Не боишься?.. Ты ее пугаешь, а она все молчит и ласкается… А что ты не боишься моих угроз – это, пожалуй, тоже не дурно. Ты, значит это, говоришь: «Что мне бояться? Могу я ему изменить разве?» А я тебе, моя дорогая, вот что скажу. Влюблен я был в эту Афродиту, которая за братом моим замужем, и отравиться хотел, все это правда; только женился я на тебе все равно, как ты за меня замуж выходила, безгрешным мальчиком и таким невинным, что меня можно бы сейчас в иеромонахи на Святой Горе посвятить[3 - На Афоне в иеромонахи предпочитают посвящать людей, сохранивших целомудрие во время мiрской и безбрачной жизни.]… Понимаешь? апрельский цветочек ты мой, гвоздичка моя несравненная. Я согласен рассказать тебе об этих прошлых делах и о любви этой моей… Только ты не ревнуй, потому что это все прошло и теперь пусть ослепну я и пусть душа моя не спасется, если я тебе, царевна моя и супруга, обвенчанная попом, когда-нибудь даже в помысле изменю! Поняла? Слушай же! Сядь получше… Вот так!
II
ЯНИ. – Что ж, рассказывать?
АРГИРО?. – Говори, говори! Давно я хочу все это знать.
ЯНИ. – Хорошо. Расскажу все по совести. Когда наш капитан Коста? Ампела?с (ты слыхала об нем? он еще жив и теперь и из первых капитанов у нас в Сфакийских горах), когда Коста? Ампела?с приезжал по делам своим в Канею, мы с братом Христо всегда шли при нем пешие. Христо в то время было двадцать четыре года, а мне только двадцать. И были мы не одни с братом; бывало нас при старике капитане молодых ребят человек по шести, по семи, по восьми. Все молоденькие дети смелые, все высокие, все красивые; у всех по ружью на плече и по паре пистолетов серебряных и по большому ножу за кушаком красным; все в новых цветных шальварах и курточках, и у всех рукава выше локтя засучены, точно мы все сбираемся в кровь турецкую выше локтей руки наши сейчас погрузить. И от колен у всех ноги разуты, голые, без чулок, не потому, чтобы чулок не было дома, а так… для фигуры, знаешь! И башмаки хорошие, когда к городу подойдем, наденем. А дорогой, со своих ужасных и невиданных другими людьми гор спускаемся в таких критских высоких сапогах с мягкою и толстою подошвой, как ты у меня видела, Аргиро?, и знаешь их сама.
Идем. С камня на камень и опять с камня на камень, милая ты моя, как козы летим, летим мы и веселимся страх! Коста? Ампела?с едет на большом муле; мул весь в красных кистях, и у старца капа[4 - Бурнус из темного толстого сукна.] на красном подбое новая, прекрасная, и в высокой, превысокой феске сидит он, как настоящий ходжа-баши, с седою бородой.
Так едем мы по селам по всем; на нас смотрят люди; идем через прекрасные сады Серсепильи, на нас смотрят люди, и так мы в ворота Канейской крепости прямо вступаем!.. Да! и знаешь, что даже аскеры турецкие, стерегущие крепость, любуясь нами, завидовали… (Ах! Аргиро? ты моя… лукавая… Все косточки твои когда-нибудь я переломаю тебе! должна ты, бре?, помнить, несчастная, что у тебя за муж – за молодчик…) Да! Аргиро? моя! Турки завидовали и любовались нами. Едет Коста? Ампела?с наш в ворота городские, а мы около него все красуемся с ружьями на плечах, и фески все на бровь и на ухо вбок сбиты нарочно. «Вперед! Кто остановит?» Аскеры пропустили нас, и мы слышим, что они говорят друг другу: «Ну! гяуры! Ну, молодцы! Что за дети такие! Что за гяуры прекрасные».
Такие мы люди, мы сфакиоты! Вот что! Коста? Ампела?с приезжал в Канею по нашим сфакиотским делам. Ты, куропатка моя, не знаешь, что мы, сфакиоты, издавна податей порядком не платили. Кому бы принудить нас? Кому бы испугать? Камень у нас в горах такой ужасный, дорожки такие крутые, что не то лошади, мулы и ослы из нижних сел к нам не ходят и оступаются, и люди, сидя на них, боятся.
Тот же, кому нужно быть у нас по делам непременно, тот нашего сфакиотского мула нанимает. Сама ты, душенька моя, видишь, как низамскому войску трудно бы было идти в наши горы, чтобы принудить нас вовремя и сполна подати царю платить, если бы мы были приготовлены защищаться. Однако два человека все дело наше испортили, и начали мы теперь платить. Скажи ты мне теперь, как ты думаешь, что были это за люди? Предатели или нет? Турки? Нет. Худые люди? Не знаю, как бы это сказать… А думаю, что не совсем худые. Чужие завистники из города или из других епархий, может быть… Нет, и не предатели, и не турки, и не худые люди, и не чужие завистники… А мы с братом Христо. Вот отчего я и теперь еще вздыхаю, Аргиро? моя… Родине вред мы сделали нехотя… А ты вчера приревновала к братниной жене, свет мой сладкий ты, Аргиро?… Вот отчего, моя Аргиро?, я вздыхаю… Родину жалко свободную, а не любви этой старой. Дай Бог и ей, невестке моей, Афродите, и брату моему и детям их долго жить и состариться… А мне что? Сама ты пойми, прошу я тебя!..
Да! Мы вдвоем с братом Христо, безбородые мальчишки, головы безумные и отчаянные, все это сделали…
Стой же, вот как это было.
Коста? Ампела?с приезжал не раз, говорю я, по приказанию нового паши в город, об этих делах рассуждать. Новый паша его хорошо принимал. И хотя в город людей из сел обыкновенно с оружием не пускают, но нам прощали это, и мы красовались.
Паша этот был тот самый Халиль-паша, который и теперь у нас управляет. Но теперь им очень недовольны стали; а тогда, сначала, у него не слишком дурно пошло. И первое дело, что он был обучен во Франции, учился там медицине. Стал султанским доктором, а после уж и пашой его сделали. Нашим простым греческим языком он говорил лучше нас с тобой. В обращении с людьми он был прост и все знать хотел; он обо всем расспрашивал, и сначала, приехав к нам в Крит, все как будто облегчить старался и никого не искал притеснить.
У одного из наших греков в лавке, например, все картинки висели, все наши эллинские геройства 21-го года. На одной Мавромихали, по-майносски одетый, турок пикой колет, глаза ужасные раскрыл. Тут бедного дьяка (Господи, прости его душу!) два крепких турка схватили и вязать хотят, чтоб изжарить живого. А еще на третьей сам Маврокордато, в очках и с длинными волосами и во франкском платье, с большою бумагой в руке, на городской стене стоит, город защищает. А еще на одной картинке, побольше других, Рига Фереос, который стихи писал, знаешь:
До коих пор, о, паликары!
До коих пор в горах, в лесах…
и Кораи?с, который грамматику сделал, нагую женщину с земли подымают (жирная такая, и вся в ранах). Это Эллада освобождается. Рига Фере?ос и сам толстый, в широкой одежде, стоит, точно монах; а Кораис худенький, худенький, согнулся, как будто ему трудно такую толстую поднять, и одет он в такую франкскую веладу[5 - Фрак.], какую консула и другие великие европейцы на балы надевают. Паша раз ехал мимо его лавки верхом, слез с коня и вошел к нему в лавку. Человек испугался, а паша купил у него несколько вещей, посмотрел на стенки и говорит: «У тебя много картин! Нейдет только так их открыто держать, спрячь их себе в дом!» И больше ничего не сказал и ничего человеку не сделал. Вот он каким справедливым притворялся. Очень хитрый человек и очень образованный. Во все мешался сам.
Раз тоже верхом за город ехал, и бросились пастушьи собаки на его лошадь и испугали ее. А пастухи не успели удержать собак, которые были ужасно злы и рвали многих. Паша подозвал пастуха, сошел с лошади и сказал ему: «Если твои собаки на меня бросились так, то что же они могут сделать с пешим и бедным человеком? Разве, ты держишь их, чтобы за прохожими охотиться? Поди сюда поближе!» И сам снизошел дать пастуху три пощечины. Другой раз пешком пошел и увидал, что турок конный по сельскому засеянному пшеницей полю едет. Остановил и в тюрьму его: хлеб не топчи.
Я хвалю этого человека, хотя он и турок; но мы, христиане, должны помнить, что все это хитрость!
Ну, хорошо! Коста? Ампела?с к нему ездит. Халиль-паша его принимает с уважением.
– Что делаешь? Как живешь? Капитан Ампела?с кланяется.
– Что делаю! Кланяюсь вам, моему господину. Дружба и дружба такая… Страх!
– А подати?
– Что ж, паша-эффенди; земля бесплодная, камень, снег зимой, стужа, дикое-предикое место… Одними овцами какими-нибудь живем. Сами посудите…
– Ну, да, камень и снег… Овец иногда и чужих крадем десятками в нижних округах… И мула уводим – мул нам годится… Даже и невест богатых, и тех похищаем насильно…
Это, значит, паша так говорит, например. И говорит он еще:
– На вас, сфакиотов, все греки в городе и в нижних селах за это жалуются. Говорят, что вы ужасные разбойники.
А капитан ему вздыхает и жалуется (чтоб его как-нибудь тут в городе паша не задержал).
– Это правда, господин мой! Таких разбойников, как наши молодые ребята горные – свет не видывал. Нам за ними усмотреть очень трудно… Что нам с ними делать прикажете? Прикажите, мы старшие, то и сделаем с ними, что вы нам прикажете.
– Если вы не можете за ними смотреть, я начну сам, – угрожает паша.
Так это дело идет между ними понемножку. А податей все нет! И терпелив паша, не гневается. Увы! он хитрее нас был. Вышел опять случай, овец наши к себе снизу опять загнали и кой-какие дела другие молодецки обработали. Халиль-паша не ищет строгого наказания. А вот каким средним путем идет, чтобы жители другие и горожане видели, что паша хочет сфакиотов обуздать, но вдруг не может. А наши: «Вперед, ребята! еще что-нибудь давайте сделаем! Не бойтесь, у паши либо лицо очень мягкое, либо он хочет всем людям на острове понравиться, чтоб его все и сфакиоты и не сфакиоты любили. Айда! Вперед, паликары мои!.. Не бойтесь».
Вот глупость-то.
И больше всех глупостей мы с братом Христо глупость задумали.
Теперь смотри, Аргиро? моя, начну я сейчас о любви этой говорить. И если ты хочешь правду знать, не мешай мне рассказывать, не ревнуй. Зачем тебе ревновать? Я муж твой, говорю я тебе, и люблю тебя сильно.
III