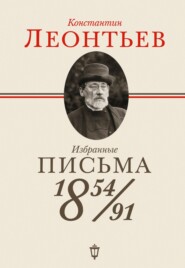По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Одиссей Полихрониадес
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я поспешно поправился перед зеркалом и пошел в гостиную с некоторым страхом и смущением.
Увидав меня, доктор отступил несколько шагов назад и улыбаясь рассматривал меня долго в лорнет.
– А! сын… Дитя! Одиссей! А! В халатике, по-древнему! браво! обернись спиной… В саване турецком. Живи и будь здоров!
Меня ужасно оскорбило замечание доктора насчет моего халатика или «турецкого савана», и я после этого целый вечер был расстроен и печален. «Лучше провалиться под землю, думал я, чем жить так, как я живу! Что? за несчастье! Лучше бы меня уже в цвете юности моей Харон взял. Это мучение! Консул смеется надо мной, что я не так говорю; этот сумасшедший говорит, что на мне саван турецкий! И правда! я уже давно думал, что надо бы мне франкское платье сшить, как все благородные люди нынче носят. Увы! Все горе нам бедным! На чужбину теперь меня увезли из родного гнездышка, бедного меня и несчастного! А пристанища нет, нет убежища! Консульство без консула стоит, а здесь оставаться я не могу. Голубушка мать моя, канарейка моя золотая, хорошо сказала, что в этом доме мне жить нельзя… Женщина эта дьявол сам во образе женщины. Шутка это, вчера на жандарма на турецкого закричала! Что? же я такое для неё после этого? Червь, которого она растоптать может. А сам доктор? И он тоже не заслуживает никакой похвалы; ибо не прилично образованному и благородному человеку оскорблять и срамить так своих гостей. Саван турецкий! увы! это не жизнь, а мученье, это чужбина. В Франга?десе, в отчизне моей, никто меня так не оскорблял и никто надо мной не смеялся!»
Хорошо делают люди, что осуждают этого Коэвино. Пристойно ли человеку в летах так кричать и прыгать? И выдумал еще что?! Простую свою и безграмотную Гайдушу возвышает над янинскими архонтами, над землевладельцами и великими торговцами, которые в училищах обучались. Нет, он глуп и дурной души человек, и я скажу отцу, что я в доме этом жить боюсь и не буду!
Весь вечер после этого я провел в подобных мыслях. Пойти мне было некуда без отца, потому что я никого в Янине не знал. Итак, я сидел в углу и смотрел до полуночи почти с отвращением, как Коэвино без умолку рассказывал и представлял отцу разные вещи. И чего он не рассказывал, чего он не представлял! И чего он только не осуждал и кого не бранил!
И на веру христианскую нападал, и на духовенство наше греческое.
И про Италию очень долго рассказывал, какие улицы и дворцы, и какие графы и графини в Италии его уважали, и как папу выставят на площадь. И опять, как ему рукоплескали. Говорил и о консулах янинских; рассказывал, как они все его уважают и как принимают прекрасно. Хвалил г. Благова. «Милый, благородный, жить умеет». Хвалил старика англичанина: «Прекрасной фамилии… Корбет де-Леси! Почтенный старец Корбет де-Леси! Прекрасной фамилии… Голубой крови человек… Почтенный старец Корбет де-Леси!..» Француза monsieur Бреше хвалил меньше; «не воспитан, – сказал он, и довольно груб». Про австрийского консула отзывался, что он толстый, добрый повар, из пароходной компании «Лойда». А про эллинского закричал три раза: «дурак, дурак, дурак! Кукла, кукла в мундире, кукла!»
И патриотизм опять порицал.
– Я патриот? Я? О, это оскорбление для меня. Это обида! Эллада! Какие-то босые крикуны… Ха-ха-ха! Великая держава в один миллион. Ни ума, ни остроумия, ни аристократии, ни приятного каприза и фантазии! Мой патриотизм для всего мира, патриотизм вселенский. Англичанин-лорд, джентльмен, который при жене без фрака за стол не сядет. Француз любезный. Русский боярин. О! русские, это прелесть. Дельнее французов и любезнее англичан. Вселенная, вселенная! Я ее обнимаю в душе моей. Турок, наконец турок! Абдурраим-эффенди, тот самый, который мне голубой сервиз подарил.
И потом начал приставать к отцу:
– А? скажи? цвет небесный с золотом. Это хорошо? Скажи, благородный вкус? благородный? Абдурраим-эффенди! Вкус! Абдурраим-эффенди! Вкус!
Бедный отец чуть жив от усталости и сна сидел. Я отдохнуть успел после завтрака, а несчастный отец сидел на диване чуть живой от утомления и сна. Иногда он и пытался возражать что-нибудь безумному доктору, вероятно для того лишь, чтобы речью самого себя немного развлечь и разбудить, но Коэвино не давал ему слова сказать. Отец ему: «А я тебе скажу…» А Коэвино громче: «Абдурраим-эффенди! Аристократия! граф… Гайдуша… архонты все подлецы!»
Отец еще: «Э! постой же, я тебе говорю…» А Коэвино еще погромче: «Разносчики все… А? скажи мне? А, скажи? Благов, Корбет де-Леси, Абдурраим, Корбет де-Леси, Благов, Италия, папа, фарфор голубой: у меня три жакетки из Вены последней моды… Фарфор… Благов, Корбет де-Леси!..»
Сам смуглый, глаза большие, черные, выразительные, волосы и борода густые, и черные и седые. В один миг он менялся весь; взгляд то ужасный, грозный, дикий, то сладкий, любовный; то выражал он всеми движениями и голосом и глазами страшный гнев; то нежность самую трогательную; то удивление, то восторг; то ходил тихо и величаво как царь всемощный по комнате, только бровями сверкая слегка, а то вдруг начинал хохотать, и кричать, и прыгать.
Господи, помилуй нас! Сил никаких не было терпеть, наконец! У отца голова на грудь падала, но доктор все говорил ему: «А, скажи? А, скажи?..» А сказать не давал.
Било десять на больших часах; отец встал с дивана и сказал:
– Время позднее, доктор, не снять ли уже нам с тебя бремя беседы нашей?
Нет, – говорит, – я не устал и рад тебя видеть.
Било одиннадцать. Тоже. Било двенадцать, полночь…
– Ты уже спишь, я вижу, – сказал наконец Коэвино отцу.
– Сплю, друг мой, прости мне, сплю, – отвечал отец не поднимая уже и головы, бедный!
Коэвино огорчился, и я с досадой заметил, что у него как бы презрение выразилось на лице: посмотрел на отца с пренебрежением в лорнет, замолчал и позвал Гайдушу, чтоб она нам стелила.
– Я давно постелила, – отвечала Гайдуша. – Я сама деревенская и знаю, что деревенские люди привыкли рано спать. Это мы только с вами, господин доктор, привыкли так поздно беседовать.
И усмехнулась хромушка и прыгнула как заяц в сторону.
Опять оскорбление! Этот исступленный и на отца, которого сам же до полусмерти измучил, смотрит с презрением в стекло свое франкское, папистан такой, еретик ничтожный! И на меня стекло это оскорбительно наводит. И, наконец, эта хромая ламия, эта колдунья, смеет про нас, загорцев, говорить, что мы деревенские люди.
Нет, я скажу отцу: «Отец! ты меня родил, ты и похорони меня, отец, золотой ты мой, а я жить здесь не буду».
Когда мы остались одни, я снял с отца сапоги и помог ему раздеться, и он все время принимал услуги мои молча и с закрытыми глазами. Разделся он и упал на постель не помолившись даже по обычаю, а только успел сказать:
– Помилуй нас, Боже, помилуй нас!
Я тоже лег, помолчал и говорю:
– Отец!
А он спрашивает:
– Что??
Я говорю:
– Отец, ты меня родил, ты и похорони меня, а я здесь жить не могу.
Отец ни слова даже и не ответил; он уже глубоким сном спал.
А я, как отдохнул после завтрака, то не мог так скоро заснуть и довольно долго тосковал и вздыхал на постели, размышляя о том, как тяжела в самом деле чужбина. Теперь еще и отец мой золотой со мною, ест кому защитить и от турецкой власти, от паши, и от Коэвино, и от Гайдуши. А когда один останусь… Бедная голубка мать моя что-то думает тепер? И бабушка моя дорогая? И Константин? И Несториди? И служанка наша добрая?
И вся молитва моя была, чтобы г. Благов, русский консул, возвратился поскорее и чтобы мне жить у него под сенью двуглавого орла всероссийского. Он хоть и пошутил надо мною, но совсем иначе. А этот во весь вечер даже и внимания не обратил на меня.
Кроме комплимента о турецком саване ничего не нашел сказать!
Нет, он даже очень глуп после этого, я вижу.
С этими мыслями я заснул наконец и на другое утро проснулся довольно поздно опять от шума и хохота! Коэвино хохотал и кричал уже в самой нашей комнате.
Я открыл глаза и с изумлением увидал, что он сам точно в таком же турецком саване, как и я, т.-е. в ситцевом халате, в длинной шубе (джюбе?) с широкими рукавами, в феске, шалью подпоясан по нижнему халату, курит чубук, отца кофеем угощает, хохочет и говорит ему:
– Теперь к тебе с визитами многие приедут! Архонты! Попы!.. Принимай их пока у себя в гостиной, а мне для туалета моего нужно еще по крайней мере два часа… Я раньше и к больным никогда не выхожу. Что? я носильщик что ли? Архонт я янинский, чтоб я стал рано выходить из дома! А? скажи мне? А! Прав я? А!
На меня он опять взглянул небрежно в лорнет, даже и с добрым утром не приветствовал меня и ушел на другую половину дома. А мы с отцом остались, наконец, одни. Дождался я этой минуты!
– Что?, Одиссей, – спросил отец ласково, – здоров ли ты?
Я сказал, что здоров, но нарочно придал себе опят печальный вид.
– Однако, ты не весел, вижу? – спросил опять отец, – мордочку свою вниз повесил?.. Что? так?
– Отец! – сказал я тогда с чувством, складывая пред ним руки, – прошу тебя, не оставляй меня в этом доме!..
Отец молчал задумчиво.
А я воодушевился и передал ему, что Гайдуша назвала нас с ним деревенскими людьми, на что? он от усталости не обратил вероятно внимания. Сказал и о саване турецком, и о страхе, который наводят на меня Коэвино вспыльчивостью своей, а Гайдуша своею змеиною злобой…