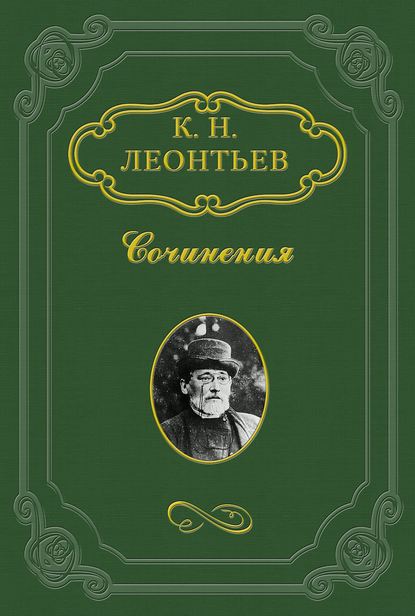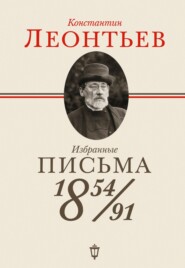По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Египетский голубь
Год написания книги
1881
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Антониади шутя извинился.
Богатырев между тем взял со стола книгу Фламмариона, поднес ее как можно ближе к своим близоруким глазам и, всмотревшись, воскликнул:
– А! высшая философия!.. Mipы… мiры иные…
– Жена моя всегда «в пространствах» (dans les espaces), – заметил Антониади не без язвительности, как мне показалось.
Маша ничего на это не ответила. Она как будто была чем-то недовольна.
Богатырев взялся за свою боярку, но Антониади точно как будто только этого и ждал.
– Monsieur le consul, – сказал он с легким оттенком искательности в лице и манерах (с очень легким, впрочем), – я виноват, не желая прерывать ход тех в высшей степени интересных политических соображений, которые вы излагали мне сейчас, не успел сделать вам одного весьма нужного для меня вопроса. Я желал бы знать, могу ли я, имея паспорт греческого подданного, пользоваться в делах коммерческих и вашею защитой в случае нужды? Без лести скажу вам, я ото всех слышу о преобладании здесь русского влияния.
Богатырев сильно покраснел. Я догадался, что он вспыхнул от радости. Дорогая и редкая коммерческая птица сама рвалась в его консульские силки.
– Мы подумаем, как это устроить, – ответил он задумчиво и значительно, потом, улыбнувшись, обратился к Маше и прибавил: – В Турции нет ничего невозможного. Это составляет единственную прелесть нашего здесь существования.
После этого мы простились и ушли. Дорогой у нас с Богатыревым был оживленный разговор о супругах Антониади. Богатырев сказал мне:
– Вот вы там в углу совращали жену с пути истинного, а я мужа обращал на путь истинный. У вас все звезды там да небеса… А мы люди terre ? terre, знаете! – Посмотрим, кто из нас скорее успеет!
– Вы все о моих успехах, – отвечал я с жаром искренности, – могу вас уверить… я готов божиться и честное слово вам дать, что я никаких целей не имею. Я бы и мужу самому готов был бы присягнуть всем священным в том же, лишь бы он мне позволил почаще проводить время и разговаривать с этою милою женщиной.
– Позволит, погодите, позволит… Я за вас постараюсь. Дайте мне забрать его в руки в делах, и тогда он сам будет приглашать вас читать жене «про звезды».
Богатырев говорил все это с большим добродушием; его видимо несколько тронула та нота искренности и честного чувства, которые звучали в моих словах…
– Что же вы думаете сделать, чтоб доставить ему русскую протекцию на случай надобности? – спросил я.
– Подумаю, – отвечал консул, – поговорю с нашим адрианопольским Меттернихом, Михалаки Канкелларио. Надо вырвать непременно Антониади из рук Виллартона. Антониади не дурак; в политике умеренного взгляда; богат, довольно сведущ… Он будет нам очень полезен для умиротворения христианской общины. Михалаки наш придумает, измыслит!..
И Богатырев был прав; Михалаки придумал!
XIII
После этого последнего визита нашего, после этих речей о симпатии сердец и загробном соединении душ, на земле разделенных неодолимыми преградами, настал для меня невыразимо светлый праздник жизни. Он длился долго, всю остальную часть зимы, всю весну и все лето… Были препятствия, была борьба, наставали тяжелые дни. «Скорби, нужды, гнев», об устранении или смягчении которых мы так постоянно молим Бога в христианском храме, конечно, не исчезли на все это время мне в угоду с лица земли. Были и скорби, томили нужды, и гнев обуревал не раз; случалось, и самый тяжкий род гнева – гнев бессильный.
Я не знаю, мог ли хоть один человек когда-нибудь и где-нибудь прожить полгода, месяц даже, без этой преходящей боли тонких и тайных ощущений.
Конечно, все это было, и о многом я помню живо и с болью до сих пор. Но чтобы даже и мне самому стало яснее теперь, почему я считаю счастливым этот год, я скажу вот что: хотя я был и молод в то время, но молод не опытом, а только годами и еще более характером. В лета самой первой юности, при самом вступлении моем в сознательную жизнь, тогда еще
Когда мне были новы
Все впечатленья бытия…
я испытал много душевных лишений, мук и обид; но жизнь мне нравилась. Я стал учиться пользоваться ею.
После первых удач, сообразных с моими идеалами, я полюбил жизнь со всеми ее противоречиями, непримиримыми вовеки, и стал считать почти священнодействием мое страстное участие в этой живописной драме земного бытия, которой глубокий смысл мне казался невыразимо таинственным, мистически неразгаданным.
Приучая себя к борьбе, я вместе с тем учился как можно сильнее и сознательнее наслаждаться тем, что посылала мне судьба. Немногие умели так, как я умел, восхищаться розами, не забывая ни на миг ту боль, которую причиняли мне тогда же даже и самые мелкие шипы!
Люди любят рассказывать о том, как они нестерпимо страдали, я же хочу здесь рассказать о том, как и чем я был счастлив в то время.
Малым ли я был доволен или я требовал многого разом – я не знаю; об этом судить не мне.
Я не забуду, конечно, в рассказе моем и этих «шипов на ветках розы», но, право, они были так ничтожны!
Так все ладилось тогда само собою, так удавалось! Так счастливо вырастало из самых ничтожных обстоятельств. Все возбуждало меня идти смело на битву и на радость.
Опять ожили вокруг меня картины любимого Востока; опять защебетали птички; лица на улицах повеселели; обнаженные зимние сады стали еще узорнее и милее прежнего, движение пестрых и грязных базаров осмысленнее и живописнее. Прежде все это было похоже на драгоценную, прекрасную рамку, в которой еще нет полотна, или на полотне которой нет милого образа; теперь на меня из разноцветной рамы этой взирают добрые, большие, чорные «очи» и светит мне знакомым светом лукавая улыбка – не то небесная по кротости, не то заманчиво и неуловимо растлевающая – не знаю, какая, но знаю, как она светит мне. И все мне кажется, что только мне одному!
Стояли теплые дни, и солнце было ярко; я восхищался тем, что я на юге. Начинал падать снег, и становилось холодно; я рад был огню печей и мечтательно вспоминал о милой и бедной родине моей, так недавно и так жестоко покинутой мною! Все силы мои удвоились; я стал и деятельнее по службе, и приятно-ленивее во время отдыха; я стал и добрее, и в то же время до злости смелее; я больше мыслил (мне казалось так), чаще пел и декламировал стихи и дома (погромче), и в дальних кварталах на прогулке (вполголоса и оглядываясь):
Свеж и душист твой роскошный венок,
Всех в нем цветов благовония слышны;
Кудри твои так обильны и пышны,
Свеж и душист твой роскошный венок.
Свеж и душист твой роскошный венок,
Ясного взора губительна сила.
Нет, я не верю, чтоб ты не любила:
Свеж и душист твой роскошный венок.
Свеж и душист твой роскошный венок,
Счастию сердце легко предается,
Мне близь тебя хорошо и поется.
Свеж и душист твой роскошный венок!..
Я пел и декламировал. Я делал новые подарки Велико и другим домочадцам своим, чтоб и они чувствовали, до чего мне хорошо теперь, чтоб и они всегда помнили меня именно в это время!
Конечно, одно только присутствие Маши Антониади в городе, один только осторожный намек ее на любовь не могли бы так очаровательно и сильно, сразу и надолго вдохновить меня. Нет, кроме чувства ее близости, кроме ее намеков, были и другие поводы к веселому напряжению душевных сил моих. Сама по себе адрианопольская жизнь к средине этой зимы стала гораздо занимательнее и оживленнее. Всеобщий подъем духа на Востоке и в Европе отзывался и здесь. В Крите уже давно геройски бились греки; в центре Европы подымалась новая грозная сила – униженная Австрия облачалась для прикрытия своей политической нищеты в подновленную и поношенную мадьярскую одежду; в Балканах ждали волнений; в дальнем Петербурге давали балы в пользу критян; славяне сбирались пировать на съезде в России. Сербия грозила вступить с Элладой в союз против султана, и некоторые из фракийских болгар, преувеличивая себе расстройство Турции и силу Княжества (впоследствии оказавшуюся столь малою), уже начинали бояться, что сербы пройдут беспрепятственно чуть не до Царьграда и захватят себе часть их земель.
Другие в городе опасались вспышки мусульманского фанатизма. В то время еще были живы многие люди двадцатых годов; они помнили со свежестью детской памяти прежние казни, помнили слезы, крики женщин, видали кровь и бледные лица отцов и родных своих.
Христиане и в городе, и в ближних селах были робки; восстания никто здесь не ждал, но боязнь избиений, подобных сирийским, была от времени до времени сильна.
Турки со своей стороны принимали меры, спешили реформами, передвигали войска. Прибыли с этою целью из Константинополя вместе двое пашей: Хамид-паша – генерал-губернатор всей области, худой, высокий, важный и почтенный, и губернатор округа Ариф, толстый, низенький босняк, игравший в славянскую популярность, умный, просвещенный, но лукавый до низости и бесстыдства. Учреждались новые области – вилайеты и новые суды.
Адрианополь в то же время наполнился поляками. Сначала, когда я еще в первый раз видел Велико верхом на базаре, в городе стояла небольшая часть этой кавалерии.
Молодцеватые белокурые офицеры в фесках и с кривыми саблями гордо ходили по городу, встречались с нами в обществе; явились и дамы полковые; показались лишние противу прежнего кареты; всадники, драгуны и казаки гарцовали по улицам. Высокий, энергический, полный и красивый Мурад-бей, граф Доливо-Ландцковский был заметнее всех; Вехби-бей, пожилой и почтенный полковник (когда-то просто – Вержбицкий, офицер русской службы на Кавказе), приехал с женой, еще довольно молодою, и двумя белокурыми дочерьми, у которых волосы были необыкновенно густы, светлы и красивы.
Все вокруг меня, и вблизи, и в отдалении, было возбуждено, взволновано, тревожно. Все становилось крупнее и как бы осмысленнее; все ждали общего пожара национальных и религиозных страстей. Все спешило куда-то вдаль, все было в движении… Все отражалось и на мне: все меня возбуждало, веселило; все придавало боевой и многозначительный характер даже нашему письменному с Богатыревым труду. Я помню, однажды я сидел ночью в канцелярии консульства и кончал большой, срочный труд к проезду из Рущука в Царьград русского верхового курьера. Богатырев, который вообще готов был заниматься делами еще больше моего, на этот раз устал и удалился на покой. На дворе была оттепель; ночь была не морозная, а только прохладная, какие бывают у нас в сентябре. Железную печку натопили слишком жарко, докрасна, и я, раскрыв окно, чтоб освежить и увлажить слишком высохший, горячий воздух комнаты, продолжал с одушевлением трудиться. Канцелярия была в нижнем этаже, но окна были настолько высоки, что пешеходы не могли меня видеть. Да их почти и не было; было уже очень поздно, и темная улица была безмолвна. Как вдруг раздался крик и громкий свист; застучали по мостовой конские копыта… Я слушал. Стук копыт приближался; раздался свист еще громче и ближе… Верховые поравнялись с окнами моими… Я не знаю до сих пор, что это было – запоздалая турецкая верховая почта или верховой какой-нибудь объезд… Я продолжал писать.
Всадники, поравнявшись с окнами нашими, примолкли; они, должно быть, придержав лошадей, смотрели на меня. Я был ярко освещен свечами.
– Пишет! – сказал один из них громко.
– Кто это? – спросил другой, и они проехали. Топот и крики опять на мгновенье усилились и потом мало-помалу затихли. Я вообразил себе чувства этих мусульман (а может быть, и поляков) при виде пишущего русского. «Что он может писать, кроме вредного нам?», и хотя мне лично и турки, и польские офицеры очень нравились, я с удовольствием и с улыбкой гордости вспомнил об их политической ненависти и сказал себе:
– Как бы, может быть, было им приятно теперь бросить мне в голову большой камень или даже прицелиться в меня!