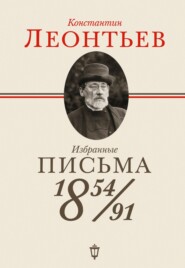По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Четыре письма с Афона
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И вот… неслышно, незаметно начинает поедать душу мою тайный червь – гордости; но какой гордости? Не мирской вашей гордости, которая кичится властью, деньгами, победами над другими людьми в спорах, в делах, в торговле, по службе государственной или в общественных успехах… Здесь идет речь не о той гордости, которая у мужчины говорит ему: «Ты молодец!» А у вас, женщин: «Ты красива, ты мила, умна, обворожительна и т. п.» или более по моде: «Ты современна, ты развита, ты независима, не подчиняешься обществу, в котором живешь». Нет, здесь поедает душу гордость иного направления, гордость христианская, подвижническая; воображение, что я уже безукоризнен, что я почти святой!
«Вот, – говорит мне внутренний соблазнительный голос, – ты лучше других. Тот из простых мужиков, а не может стоять так долго, как ты стоишь в церкви; тот ленивее тебя; тот помнит зло; тот все хитрит… А ты? Ты незлобив, ты всем покоряешься, ты все выносишь; у тебя нет гордости, нет своеволия; ты не лукав, ты прост, как св. Павел, сподвижник Антония Великого, которого прозвали препростой. Ты вынослив на телесный труд, как Даниил Столпник, которого буря качала на столбе, а он молился, которого дождь обливал и мороз доводил до полусмерти, а он лишь благословлял Бога за все это. Ты ласков и добр с людьми, как св. Моисей Мурин (ефиоплянин); он был разбойником прежде, покаялся и подвизался в одной обители с суровым Арсением Великим и сверх святости его строгой жизни в монастыре его все любили за ласковый и приветливый нрав. Да, св. Моисей был из разбойников; он до покаяния своего был многогрешен. А я покинул юношей кров родительский и пришел сюда таким же девственником, как св. Иоасаф, юный сын царя индийского, который устоял против всей роскоши и против целого гарема молодых красавиц, окружавших его по желанию отца».
«Вот сколько у меня добродетелей!»
Чего же было бы лучше этого внутреннего самодовольства, мой друг? Не именно ли того ищут в миру у нас самые лучшие, умные, благородные люди?
Не имеем ли мы право уважать человека, который предпочитает внешним успехам, богатству, блеску, наслаждениям веселого разврата – свою внутреннюю гордость, свое сознательное, честное самодовольство? Ведь это почти идеал, ты скажешь мне, по нынешним понятиям. Да, я с тобой согласен, что в миру иногда нельзя и требовать большего от хорошего христианина. Когда бы было побольше и таких! Жизнь светского человека слишком шумна и заботлива; особливо нынешняя жизнь, в которой столько и развлечений и нестерпимого, спешного труда, в которой так слабы впечатления церковные, так отстранены на второй план множеством других сложных и обременительных впечатлений; воспитание истинно христианское, осмысленное так редко! Знание истинного духа христианства ныне так мало распространено! Возможно ли при этих условиях требовать, чтобы люди, обремененные семейными, государственными, учеными и хозяйственными заботами, успевали вникать ежечасно в смысл своих внутренних чувств? Да многие ли нынче из образованных людей ясно понимают этот дух христианской Церкви?
Люди, вовсе не признающие Ренана авторитетом, люди, не дерзающие и сомневающиеся в божественности Иисуса Христа; люди, которые, с другой стороны, готовы стереть с лица земли всякого, кто бы коснулся иноземной, вражеской или революционной рукой народной, русской Святыни православных храмов, мощей, икон (я говорю народной святыни – понимаешь?), – и эти люди, вследствие легкомыслия, незнания или каких-нибудь обстоятельств, воображают, что они поняли Христа, если знают твердо, что Он простил блудницу, что Он оправдал грешного мытаря, что Он велел быть добрым к ближнему, благословил иноверного самарянина за его доброту и осудил еврейских – священника и левита, за то, что они не помогли израненному путнику.
И только! Доброта, прощение, милосердие… Они взяли лишь одну сторону Евангельского учения и зовут ее существенной стороной! Но аскетизм и суровость они забыли? Но на гневных и строгих Божественных словах они не останавливались? О том, что Иоанн Предтеча, у которого Спаситель крестился, был монах в высшей степени, они не знают? О сорокадневном посте Самого Христа в пустыне они не думают? О догмате греха первородного, о духе тьмы, о догмате Троицы христианской они молчат; а это все есть в Евангелии и в Апостольских письмах.
Нельзя, принимая святость Евангелия и божественность Христа, отвергать одно место в книге и выбирать по вкусу другие. Все мягкое, сладкое, приятное, облегчающее жизнь, принимать, а все грозное, суровое и мучительное отвергать, как несущественное. Что-нибудь одно: или Ренан и Штраус – правы или все существенно!
Религия всепрощения; да! Но вместе с тем и религия самобичевания, покаяния, религия не только неумолимой строгости к себе, но и разумной строгости к другим.
«Иди и не греши…» – сказал Христос, прощая блуднице. Он не сказал: «Иди, ты права!»
Первоначальная, Православная Церковь, эта византийская, высокая культура, столь оклеветанная враждебными ей церквами и так плохо понятая теми прогрессистами, которые с половины прошедшего века поверили в осуществление реального Эдема на этой земле, – вся эта особого рода культура, весь этот особый род просвещения был лишь развитием, объяснением основного Евангельского учения, а никак не искажением его, как думают те, которым бы хотелось из христианства извлечь один лишь осязательный практический утилитаризм. Впрочем, не одни утилитаристы так думают; так думают нередко и люди религиозные.
Ты помнишь, мой друг, мою воспитательницу? Ты сама любила и уважала ее. И, конечно, она в высшей степени заслуживала этих чувств. Всю жизнь в борьбе с нуждою, вскормленная у отца в богатстве, самолюбивая, умная, высокообразованная, привычная ко вкусам и понятиям самого высшего общества времен Александра I, она должна была всю жизнь свою пересоздать, перестроить не так, как хотело ее воображение; окружающие не умели вполне ценить и понимать ее; большинство детей ее было гораздо глупее и ниже ее; они больше боялись, чем любили ее, и не постигали ее изящных и вместе с тем строгих требований. Она стала взыскательна, раздражительна, иногда несправедлива в гневе; ты это все знаешь, но ты знаешь также, какая глубина благородства, любви и какой-то мрачной доброты проявлялась в ней до последнего издыхания…
Мир ее высокой душе! Мир подай, Господи, ее страдальческому праху!
Однако… и эта просвещенная, эта необычайно умная женщина платила дань тому полулиберальному, полухристианскому веку, в котором выросла и жила.
Она, например, не любила постов и не содержала их, кроме дней говенья, не любила монахов, не любила духовенства вообще. Говеть – она говела, как ты знаешь, и плакала даже почти всегда на исповеди у простого сельского духовника своего. Она утром и вечером понемногу молилась и, закрывая Ж. Санд или Дюма, бралась нередко за Евангелие с большой любовью. Но я замечал, что житий она не читала, хотя, конечно, с детства кое-что помнила из них. К мощам на поклонение, впрочем, она заезжала не раз в течение своей жизни, но и тут, я помню, она полушутя говорила мне: «Я гораздо больше люблю своего милого Димитрия Ростовского, чем св. Сергия Чудотворца.
C'est plus comme il faut а Ростов[2 - В Ростове публика поприличнее (фр.)]. Тихо так; зайдешь и помолишься, А уж Сергий такой демократ! Мужиков и нищих бездна! Je ne puis pas souffrir tout cela[3 - Я этого не переношу (фр.)]; хотя я и знаю, что это грешно!..»
Милая и строгая тень моей благородной благодетельницы! Я верю в загробную жизнь; но какова она – кто знает?
На крест, на могилу;
На небо и землю
Творец Всемогущий
Печать наложил…
Видишь ли ты, как я пишу эти строки? И если видишь, то как? Так, как мы: с участием? – с улыбкой? – с прощением? – с человеческим чувством? Или иначе – я не знаю!..
Но я прошу тебя, тень святая моей памяти, прости мне, если я скажу, что и ты платила дань веку, не понимая иногда Православия и отделяя его от какого-то особенного, простого и чистого христианства! И от тебя я слыхал не раз, что учение Евангельское просто и доступно, но что духовенство исказило его, прибавив слишком много сложного…
Боже! Но мог ли краткий и простой рассказ Евангелистов, не развиваясь далее, объединить в едином учении такое множество разных народов: греков, евреев, галлов, славян, египтян, римлян и сирийцев?..
Сложность необходима для единства, по мере расширения поприща во всем. И Христу угодно было предоставить первоначальное учение Свое обыкновенным законам развития всего земного.
Именно слишком свободное понимание первоначального учения и породило столько вредных ересей, борясь против которых Церковь развивала постепенно и естественно трудную философию, единый, но изящный и сложный обряд; нравственность – одну по цели и духу, но разнообразную и сложную по частным, живым оттенкам… Да! Миряне, и верующие даже, нынче плохо знают свою веру. И потому, отчасти извиняя им, Церковь говорит: «Иное – мирянин, обремененный в наше время такой бездной настоятельных забот и потребностей; иное дело – монах, которому вся обстановка его должна помогать для достижения высшего христианского идеала, который выразился в словах: «Царство Мое не от мира сего».
И мирянин, который воображает, что он всегда прав и никогда не имеет мужества или простодушия сознаться громко в своих ошибках и проступках, возмущает нас и внушает нам отвращение, помимо всякого религиозного чувства. Не раз, я думаю, и тебе случалось предпочитать человеку, который во всем себя оправдывает, такого, который говорит грубо и твердо: «Да! Я знаю, что не прав, но я так хочу и сделаю по-моему!» Тебе, конечно, нравилась эта прямота и самобытность во зле. Но суждение это не нравственное, а эстетическое. И демон привлекателен, иначе он не был бы искусителей…
Господень Ангел тих и ясен,
Его живит смиренья луч,
Но пышный демон так прекрасен,
Так лучезарен и могуч.
Помню я, что Белинскому не нравился этот стих: «Его живит смиренья луч». Он, кажется, находил смысл его неясным.
Для меня (теперь) он очень ясен. Искреннее смирение, вечная тревога неопытной совести о том, чтобы не впасть во внутреннюю гордость, чтобы, стремясь к безгрешности, не осмелиться почесть себя святым; чтобы, с другой стороны, преувеличенными фразами о смирении своем и о своем ничтожестве не возбудить греховного чувства отвращения в другом, который мою неосторожную выразительность готов как раз принять за лицемерие. Эта сердечная борьба, особенно в монахе молодом, – исполнена необычайной жизни, драмы внутренней и поэзии. Идеал искреннего, честного монаха – это приблизительная бесплотность на земле; гордость, самолюбие, любовь к женщине, к семье, к спокойствию тела и даже к веселому спокойствию духа постоянному – должны быть отвергнуты Бесстрастие – вот идеал. Истинное, глубокое, выработанное бесстрастие придает после начальной борьбы самому лицу хорошего инока особого рода выразительность и силу… «Его живит смиренья луч…»
Да! Путь и просто христианский, а тем более монашеский труден!
Раскрой книгу Иоанна Лествичника о монашеской жизни. Что ты увидишь? Каждая добродетель грозит тебе грехом. Уединение в особом жилье пустынном, в лесу или в горах грозит тебе то внутренней гордостью: «Я свят», то унынием и отчаянием: «О, я погиб, я ни на что не годен; не хочу ни молитвы, ни рукоделья, ни размышлений о Божестве!» Жизнь в многолюдной обители угрожает тебе: тщеславием (посмотрите, братия, и вы, мои добрые миряне-посетители, какой я набожный, смиренный, какой я примерный инок!); завистью, при виде какого-нибудь малейшего предпочтения или внимания другому; гневом – при каких-либо столкновениях, неизбежных в тесно живущем обществе.
У свободного пустынножителя доброта душевная, желание раздавать милостыню нищим монахам или мирянам может тоже переродиться или в сребролюбие для себя, или в тщеславие и гордость вследствие лести и благодарений, которыми бедные начнут меня осыпать. Под предлогом приобретения для раздачи другим я могу начать приобретать побольше и для себя и буду радоваться, как осужденный Христом фарисей, что десятую часть раздаю нищим.
Во всем и везде нравственная опасность. «Рассудительность, говорят опытные иноки, располагает к жестокости; снисходительность – к греховному потворству себе и другим; недостаточные телесные подвиги, слабый пост, малая молитва, не утомительный телесный труд – дают в организмах сильных слишком много простора плотским страстям и сладострастной фантазии… И наоборот – чрезмерное утомление тела, не по силам природным, наводит духовную усталость, уныние, отвращение от начатого пути, располагает к фантазиям, характера более мистического, положим, но все-таки лживым и вредным для здравого и постепенного совершенствования в монашеской жизни».
Такова постоянная внутренняя борьба, преследующая добросовестного инока иногда и до гроба.
Если ты, читая мои первые письма, подумала, что монастырь есть всегда «тихая пристань» для нашего внутреннего мира, ты ошиблась.
В монастыре или в пустыне ищут, правда, спокойствия, но какого?
Спокойствия христианской совести, сознавшей свои прежние проступки или испуганной еще при самом вступлении в жизнь водоворотом страстей, обманов, огорчений, водоворотом, который кипит и клокочет вокруг каждого человека со дня его вступления в эту горькую жизнь земную!
В обители многолюдной, но стройной, дисциплинированной разумно и добросовестно, в скиту лесном с тремя-четырьмя товарищами, в хижине – старец вдвоем с покорным послушником или молодой послушник вдвоем с любимым старцем-повелителем – везде монахи ищут забвения мира и его борьбы, его горя и его наслаждений; но лишь для того, чтобы, отдохнувши ненадолго, начать новую, иного рода внутреннюю борьбу – для того, чтобы узнать новые горести крайне жгучие и новые радости, новые наслаждения, которых тебе и не понять, пока сама их не испытаешь!..
Знаешь ли ты, например, что за наслаждение отдать все свои познания, свою образованность, свое самолюбие, свою гордую раздражительность в распоряжение какому-нибудь простому, но опытному и честному старцу? Знаешь ли, сколько христианской воли нужно, чтобы убить в себе другую волю, светскую волю?..
Я улыбаюсь отсюда, воображая твой гнев и твое удивление при чтении этих моих строк…
Не правда ли, ты восклицаешь: «Хорошо! Но какая же польза во всем этом?»
На этот вопрос я тебе отвечу тоже вопросом: «А ты знаешь, что такое всеобщая польза!»
Если ты в силах ответить мне на это серьезно, глубоко и научно, если ты можешь сказать мне о пользе что-нибудь убедительное, математически точное, а не социально-чувствительное, что-нибудь такое ясное, перед чем я бы задумался, то я согласен не хвалить более ни того, что вы зовете мистицизм, ни монахов, ни Афонскую Гору.
А так как я знаю, что ни ты, ни вся стая ваших прогрессивных пустозвонов, все сотрудники «Вестника Европы», «Голоса» и «Дела» не в силах объяснить мне научно и точно, что такое по-ихнему всеобщая польза, то я предлагаю тебе избрать лучше путь смирения, молчать и слушать меня внимательно.
Прежде всего, кончая это письмо, я спрошу тебя, понимаешь ли ты, что значит слово эвдемонизм? Конечно, нет!
У греков для выражения идеи счастия есть два слова. Одно – эв-тихия; это значит внешнее счастие, удача, хорошая судьба; а другое эв-демония – внутреннее счастие, субъективное довольство, благоденствие… Ты согласишься, что это огромная разница?
Потрудись же запомнить, мой друг, слово эвдемонизм; я буду часто употреблять его, ибо так лучше всего назвать ту новую религию, которую проповедуют нам либералы и прогрессисты всех стран еще с XVIII века. По-моему, все остальные названия неверны; они все менее широки и не касаются самой сущности, самого основного догмата этой новой веры во всеобщее земное благоденствие, которое ныне должно составлять конечную цель человечества.
Реализм обозначает в науке лишь методу; в искусстве – любовь к осязательным мелочам будней наших; отсутствие лиризма в приемах и духе. Реализм сам по себе не отвергает и не принимает никакой религии, никакой социальной тенденции, никакой философии. Он игнорирует их; с чистым реализмом ум наш свободен за пределами явления.
Если мы скажем прогрессизм… Это будет неверно. Прогресс значит движение вперед. Но я имею право спросить, что такое движение вперед? Вперед можно идти к старости, к смерти, к разорению; вперед можно идти не к лучшему, а к худшему. Человек может верить в нынешний прогресс, не сочувствуя ему; француз умный может верить, например, прогрессу своей Франции… Но куда?.. К разложению… Так верил бедный Прево-Парадоль, который застрелился. Он, конечно, не сочувствовал этому прогрессу Франции.