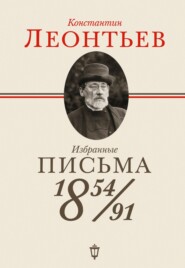По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Четыре письма с Афона
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В апреле 1869 года мы нарочно ходили к о. Пахомию. О, как мы утомились, пока достигли его обиталища! Это неизобразимо! И ноги подламывались, вовсе отказываясь двигаться, и утомление было такое, что хоть ложись среди дороги! К нашему горю, или испытанию, пришедши, мы не застали о. Пахомия в нижней его пещере, – он должен был находиться или в отлучке, или в верхней пещере. При взгляде на подъем туда я и другие спутники окончательно отказались взбираться туда; вызвался же сходить один пустынножитель-пещерник, бывший на этот раз нашим проводником. Как он взбирался туда, – это нужно было видеть!.. Тут мы еще больше убедились в невозможности взойти туда нам, хотя бы мы вовсе были не утомлены; ибо, кроме неимоверной трудности подъема, угрожала еще опасность опрокинуться, скатиться вниз и жестоко разбиться. Долго мы дожидались, разместясь в нижней трехэтажной пещере о. Пахомия, где горела Лампадка пред иконою Божией Матери, разливая свой тихий свет на мрачные стены сырой пещеры и проливая в душу иной, тихий и сладостный свет от Самой Благодатной Игуменьи Афона. Желая рассмотреть, далеко ли протягивается пещера о. Пахомия, мы стали взбираться по камням вверх, но свечи наши скоро потухли от густоты спертого сырого воздуха, и мы не могли потому дойти до конца пещеры. После долгого ожидания я стал опасаться за целость посла и отправился посмотреть, не увижу ли кого. И что же? В это время ожидаемые нами вдвоем спускались по скале: старец был впереди и полз уже от места, где кончилась веревка, а проводник-пещерник спускался, держась еще за нее и подвигаясь к концу ее. Ужас и оцепенение овладели мною. Я смотрел на них несколько минут, и, пока они не стали уже твердою ногою на землю, у меня заболело сердце! Что, если ради нас спускаясь, старец или посланный за ним поскользнутся и размозжат себе головы?.. Я был между каким-то неизъяснимым страхом и радостным ожиданием и упал бы в ноги старцу, прося простить, что мы его обеспокоили и подвергли опасности спускаться для нас, если бы не знал, что выражением уважения и особенного внимания к его жизни можно оттолкнуть его от искренности и простоты обращения. Почему, сдерживая слезы радости, начал я упрекать его, предваряя свидание свое с ним и говоря: «Зачем ты, отче, забрался в такую даль? Мы так утомились, идя сюда, что сил не стало и едва добрались до тебя!» Это я говорил, пока он приближался по тропе ко мне. За плечами у него была торба; одежда на нем была хоть худенькая, но полномонашеская; под ряскою виднелась ветхая схима, на камилавке толстого сукна накинута худая наметка (креп). Постническое лицо его выражало строгость его жизни и невольно производило какое-то благоговейное впечатление. Приняв вину на себя, старец с удивительным сердоболием стал кланяться и просить прощения за утруждение нас. Говорил же это с такою убедительностью, что я уже и пожалел о высказанных вольно словах, видя, как старец искренно испрашивал прощение, будто действительно был виновен».
Вот каковы афонские пустынники и вот как они живут!
Разве может при таких условиях всякий мирянин, поклонник проникать к таким людям?
Поклоннику нужно гостеприимство обители, нужна литургия, иконы, мощи святые, ему нужна еще прежде созерцания и оценки подвигов аскетических поэзия богослужения нашего и хоть немного философия Православия, книга хорошая, разговор неспешный и досужный со знающими людьми… Вот это все он найдет в обители.
Итак, если я служу лишь одним телесным или практическим трудом на вещественные нужды киновии, я косвенно служу всей Церкви, которая есть не что иное, как земное, реализированное в общественной жизни Слово Самого Христа. Копая виноградник, я служу Христу; управляя имением, которое дает пшеницу и хлеб насущный братии монастырской, я служу Христу; еду я через моря на острова греческие покупать масло или машину для выделки того же масла дома из наших афонских олив, переношу я бури непогоды, торгуюсь с купцами, знакомлюсь поневоле и дружусь с мирскими людьми, волей-неволей иногда живу их жизнью, ем иногда и сплю не по-афонски, говорю иное, чем на Афоне, вижу вещи, которые меня борят и оскорбляют… Во мне теперь как будто и следа аскетизма не осталось… Я в ужасе, я каюсь, я утомлен; но воспоминание о том, что меня послал начальник, избранный братиею, ободряет и утешает меня. Вспоминая о словах игумена и о нуждах братии, я и в шумном городе, где рядом с моей комнатой играет музыка и слышны песни и пьяные крики из дома терпимости, могу, помолясь, успокоиться мыслью, что служу обители, одной из неподвижных звезд, рассеянных по миру Православному и озаряющих его. Монах нейдет на проповедь, правда; но монастырь принимает набожных гостей, и несколько недель или месяцев жизни при хорошем благочинном монастыре поучает лучше всякой навязчивой проповеди на миру. Прекрасно ходить со светильником между людьми; но хорошо организованная обитель есть уже своего рода пропаганда не словом, а делом самим. Монашество есть, положим, крайнее выражение христианства. Но сила крайности подразумевает неизбежно, органически, так сказать, и прочность чего-то среднего, однородного с ним; но не крайнего, за сим стоящего в порядке развития.
С первого взгляда кажется, например, что монашество, отрекающееся от семьи, есть логическая антитеза семьи. Однако на деле оказывается иное. Брак есть своего рода аскетизм, своего рода отречение. Строгий, религиозный, нравственный брак есть лишь смягченное монашество: иночество вдвоем или с детьми-учениками. Если отвергнуть Таинство в браке, если лишить его церковного смысла, то что можно противопоставить изящному жорж-сандизму, или вольным и веселым сходкам в хрустальных дворцах (?) Чернышевского (?), или дружеской аристократической сделке людей хорошего общества, подобной тому соглашению, которое, говорят, существовало между знаменитым Меттернихом и его женой? Они, говорят, согласились помогать друг другу в карьере и не мешать друг другу в сердечных делах.
С точки зрения счастья, эвдемонизма, – чем они были не правы? Кому они мешали? Они были довольны друг другом, приблизительно, как только можно быть довольным на земле?
Какую логику, какую идею мы противопоставим идее эвдемонического согласия двух лиц? Долг? Какой? Против кого? Противу светского общества? Что ему за дело, если мы никого не оскорбляем? «Vivons et laissons vivre»[4 - «Будем жить и дадим жить другим», (фр.)]. Мы добродушны, с нами весело, мы изящны даже; у нас в доме хорошо, еще приятнее от той свободы, которая в нем царствует… Не беспокойтесь, образованное общество ловких людей в этом роде не могло и не умело никогда казнить.
Лучшие поэты их воспевали, мыслители считали за честь бывать в их доме; им никто не отказывал во внешнем почете, если они умели быть полезными государству или приятными народу…
Какой еще долг? Долг относительно друг друга? По понятиям эвдемонической, прогрессивной религии, долг состоит лишь в том, чтобы сделать избранную подругу счастливой; надо стараться, чтобы она как можно веселее и приятнее провела молодость свою.
Что еще мы можем противопоставить идеалу такого веселого сожительства или требованиям фантазии, уже слишком широко и необузданно развитой?
Чувство чести? Это чувство условно, и сколько мы видим людей высокообразованных, но христиански неразвитых, которые за косой взгляд или грубое слово вызовут на поединок друга и в наше не рыцарское время, а скажи иному из этих светских людей в минуту полной искренности о чести его жены, и он, может быть, ответит тебе: «Ах, батюшка, ну что за честь? Жена моя, к несчастию, не хороша и не ловка, на нее никто и не смотрит… Какая там честь! Что за предрассудок!.. Est-ce qu'un homme distingue peut avoir le mauvais gout d'etre bourgeoisement jaloux de sa femme legitime?[5 - Разве может человек утонченный ревновать свою жену? Это признак дурного вкуса, (фр.)] Это хорошо моему управляющему Карпу Федоровичу. Он ничего лучше своей Шарлотты Егоровны не видал. Так, разумеется, ему и она в диво».
Еще что? Полицейские меры? Государственные? Гражданский брак? Да, если мы хотим строить общество в принципе на лицемерии, на обмане, на внешнем формальном соглашении. Но не будут ли правы коммунисты, когда скажут на это: «Хорошо и это пока; это еще шаг по нашей дороге; Святыня убита в принципе. Квартальный или мэр какой-то записывает в книгу, с какой именно женщиной вы желаете приживать таких детей, которых общество назовет «законными». Но так как везде уже права сословий более или менее сравнены и долго стоять на месте нельзя, то скоро не будет никакой особенной разницы между законным и незаконным ребенком. Гражданский брак должен будет пасть как бессмысленное, само себя пережившее учреждение…»
Octave Feuillet прав в своем романе «Sybelle», утверждая, что только в религии, в идеале церковном брак тверд и осмыслен… Частные, случайные ошибки и уклонения, увлечение страстью мгновенное – не разрушат ничего, если основа цела. Церковь прощает; и супруги могут простить друг другу… Но как? «Иди теперь и не греши!» «Боже! Прости ему или ей! Прости так, как я простил!»
Это другое дело.
Об этом я мог бы еще много, много говорить. Я воздерживаюсь, чтобы не забыть надолго Афон и монахов.
Теперь, кончая это письмо, я скажу тебе только еще раз вот что. Для семьи нужна Церковь, для Церкви Православной необходимы примеры крайнего аскетизма; для аскетизма нужны монастыри, для монастырей необходимы не только духовники, богословы, иеромонахи, служащие в церкви, певчие, поющие псалмы, – для них необходимы и экономы, практические иноки, которые заботятся о хозяйстве монастырском, о приобретении средств на убранство храмов, на воздвижение жилищ, на утварь, на пропитание самое скромное и нередко даже на угощение посетителей, из которых многие молиться желают и видеть постящихся очень рады, но сами поститься слишком серьезно не хотят.
Итак, скажи доброму семьянину, которому судьба послала дом и хороших детей, чтоб он не оскорблялся, когда такой практический инок стучится в его дверь за подаянием. Пусть он не возмущается тем, что этот инок ему не кажется строгим аскетом. Строжайший аскет остается дома; он и не сумеет пойти на сбор; монастырь вынужден на это благословлять людей иного рода. И почем еще знает наш добрый семьянин, каков этот самый инок дома, в обители? Какую жизнь он ведет там, возвращаясь в свою настоящую привычную среду?.. Быть может, он и аскет высокой степени?.. Но он умен, и здесь он не хочет быть педантом, боится прослыть лицемером и испортить тем отчасти дела своей обители?..
Великое дело монастыри в Православной Церкви! Пусть в них есть свои недостатки, свои страсти и пороки…
Если войско страдает недостатками правителя и нации, – ищут исправить их, а не распускают армий.
Без монастырей, без этих скопищ, так сказать, крайнего отречения пали бы последние основы для поддержки того среднего отречения, которое необходимо для хорошей семьи… Сизигос (супруг) по-гречески значит со-яремник, со-яремница, если переводить яснее и ближе к современному языку. Вот как понимала брак всегда Православная Церковь.
И не вернее ли это аскетическое понимание, не ближе ли оно к действительности, чем всякая эвдемоническая идеализация брака? Нежели все еще мечтать об игривом и тихом, о нерушимом счастии и согласии, после которых настает почти всегда разочарование и раздор или полная, ровная проза, если нет в углу лампады пред образом… Понимаешь?
Для некоторых, в других отношениях весьма благородных натур, брак сам по себе был и будет всегда прозаичен и скучен, если рассматривать его только с точки зрения наслаждения или полуромантического сладострастия.
Ведь это истина жизни. Как ее отрицать? И кого мы обманем, отрицая это? Напротив того – поэзия брака и семьи необычайно возвышенна, когда каждый шаг семейной жизни, каждый обычай, каждая черта при воспитании детей озарены идеей Православия и украшены всеми милыми преданиями народной Святыни…
Самая непривлекательная чета, если в ней сильно чувство религиозное, в иные минуты внушает такую глубокую симпатию всякому благородному сердцу, какую не может внушить никогда «рациональный» супруг, Бог знает почему верный своей «рациональной» супруге!..
Что ж сказать? Видно, вкус такой. А мне бы давно надоело ее честное «рациональное» лицо; у всякого свой вкус… И больше ничего!..
Письмо 4-е
23 июля 1872 г.
Я замечал в тебе не раз еще давно, когда ты только что начала выходить из детства, что монахини, особенно молодые, тебе нравятся, а монахи нет. Я помню не раз, как ты сама, ничему не молясь, хвалила мне пение и службу в одном девичьем монастыре, как ты любила в него ездить, хвалила некоторых из этих «милых и бедных девушек» (так ты выражалась тогда). Я помню также, что ты очень обрадовалась тому романтическому окончанию жизни, на которое хотела было обречь себя одна особа царской крови; мне кажется, что этот разговор был о супруге Неаполитанского короля Франциска. Когда ты прочла случайно в газете о том, что она намерена заключиться в женский католический монастырь (помнишь, мы сидели все в большей зале тогда?), ты сказала: «Как я рада, что эта королева решилась быть монахиней! Уж давно что-то никто в монастырь не шел!»
О том, что Лиза Калитина была всегда любимой героиней твоей, я уже упоминал, кажется, прежде…
Отчего же ты не любишь монахов?.. Отчего ты мне однажды писала так: «Если бы я могла верить, что есть на свете хоть один добросовестный, верующий, хороший православный монах, я поняла бы твое желание жить при монастыре… Но разве эти люди могут понять порядочного, развитого человека? Что они сделают из него… если он им отдаст себя в руки?»
Положим, это ты писала мне лет семь тому назад, когда раз в минуту тоски я признался тебе одной, что мне следовало бы, кажется, кончить жизнь при монастыре православном, если не монахом, то одним из тех вечных поклонников, которые доживают свой век при обителях. Отчего эта разница?
Или ты находила (и, может быть, находишь), что религиозность женщинам идет, а мужчинам не пристала?
Одна молодая католичка, красавица, воспитанная в Сирии почти в диких горах, ибо отец ее имел за городом заведение для шелка, рассказывала мне очень простодушно, что «папа всегда смотрел строго, чтобы все дочери его были религиозны… Он говорил нам часто: «Une femme doit avoir de la religion[6 - «Женщина должна быть набожной» (фр.)]; мужчина – дело другое!» Он сам никогда не исповедовался и в церковь почти не ходил».
Молодая женщина эта и не думала шутить над отцом или осуждать его. В семьях тех epiciers[7 - бакалейщиков (фр.)], которые воцарились во Франции на развалинах изящного и верующего феодализма, такой порядок очень обыкновенен. Мужчина сам не верит ни во что, кроме «славы Франции, передовой нации вселенной», кроме своих прав на все выгоды, и удобства, и разумности демократии, но жену и дочерей он посылает в храм и на исповедь. «Больше слушаться будут!»
Ты так думать не можешь, как может, в пустоте своей и слабоумии, думать отец семейства из выдохшейся, современной нам французской буржуазии.
Такого порядка у нас в России нет; у нас религиозность и безверие распределены как пришлось между женщинами и мужчинами.
Эгоистических, тайных соображений у тебя при этом быть не может.
Итак, остается одно: чувство твое, чувство просто эстетическое…
Быть может, и то, что тебе случалось знать нескольких хороших монахинь; а монахов (я это знаю) ты ни хороших, ни дурных до последнего времени не встречала, разве на улице и изредка, изредка в какой-нибудь петербургской церкви, в которую ты случайно захаживала иногда от скуки или из какого-нибудь любопытства.
Потом надо вспомнить, кем и чем ты была окружена с детства; ты была окружена газетами, в которых близкие тебе люди принимали участие; газетами, в которых смеялись над И. Аксаковым за то, что он позволил себе назвать «ароматом добра» то чувство, которое объединяет на мгновение душу дающего милостыню и душу принимающего; людьми, подобными тому седому родственнику твоему, который, узнавши, что я уехал жить на Афон, написал из приязни ко мне длинное письмо (помнишь, как я смеялся над этим письмом?) о том, что в наше время монахом может стать только идиот или мошенник, что умнее расходовать лишние деньги на шлейфы и шляпки молодых любовниц, чем на рясы и клобуки каких-то дураков. Что в наше время нельзя ожидать, чтобы человек, который смолоду занимался естественными, реальными науками (это все я), чтобы этот человек в здравом состоянии ума мог верить в пострижение, Православие и т. п. «При сильном воображении своем он увлекся эстетикой монашества, быть может, и раскается скоро!» – прибавил твой седой мудрец.
О, мудрец! О мой бедный продукт журнального петербургского мира!..
В наше время!.. Что такое наше время? Его время – вовсе не мое время, быть может… Он живет вчерашней остылой новизной, которая по закону инерции еще действует нынче и будет действовать и завтра, все расширяясь и расширяясь, но и слабея вместе с тем… А я?.. Если он, твой седой циник и любезный к дамским шлейфам утилитарист, признает во мне сильное воображение, эстетическую развитость и даже некоторую долю этих знаменитых реальных знаний, с которыми нынче все нянчатся, как дурни с писаною торбой… Если он все это придает и приписывает мне, но тем хуже для его взглядов…
Разум мой, как видишь, что-то не слишком поврежден как будто бы… Мое время – не его эпоха…
У меня есть мое время, во-первых, и в настоящем, ибо «не о Петербурге едином жив будет русский человек», – но «о всяком глаголе, исходящем из истинно русского сердца…»
Я даже не хочу утверждать здесь настойчиво (именно здесь, в этом письме), что идеал эвдемонического прогресса глуп и даже ненаучен (хотя это, по-моему, доказать нетрудно). Сегодня я скажу только, что всякая философия, имеющая практические выводы для жизни, всякая цивилизация – эвдемоническая или аскетическая; религия умеренного всеобщего, плоского эпикурейства и религия христианских, свободных ограничений – одинаково имеют в числе слуг своих и мудрецов, и простых людей. Так было до сих пор. Сравни, например, Иоанна Дамаскина и Павла Простого. Оба причтены к лику Святых. Иоанн Дамаскин – аристократ, вельможа, сын правителя города Дамаска, любимец своего мусульманского государя, философ, занимавшийся метафизикой христианства, публицист православный, который боролся письмами противу византийских императоров, желавших уничтожить поклонение иконам… поэт вместе с тем, сложивший множество молитв…
Павел «Простой», напротив того, был крестьянин. Он давно хотел быть монахом, но он был женат; жена изменила ему; он обрадовался и убежал к Антонию Великому в пустыню. Антоний не знал, как бы испытать его и каким делом сначала его занять. Он велел ему плести веревки. Павел старательно свил их. Антоний велел их расплести; Павел с радостью расплел их. Антоний велел ему шить одежду; велел распороть и снова сшить. Павел все исполнял охотно, не спрашивая даже, к чему эта бесполезная работа. Антоний не давал ему есть; он не просил. Тогда Антоний оценил и полюбил его.
Павел был крестьянин и совершенный невежда. Но разве св. Иоанн и св. Павел этот не были люди одной и той же идеи, одной и той же цивилизации? Иоанн понимал все in extenso, в развитии; Павел знал только, что Христос – Сын Божий, что Его распяли за нас и нам хорошо и полезно за Него распинать себя… Вот и все. А до подробностей он и доходить не хотел и соглашался свивать и развивать веревки всю жизнь свою по указанию более знающих людей!..
Таких Павлов в России еще довольно, и слегка грамотных, и вовсе безграмотных. И я не нахожу, чтоб они были невежественнее французского или итальянского работника, бунтовщика и коммуниста, который в такой же пропорции состоит к Кабе, Фурье или Прудону по экстенсивности и логической выработанности своих мыслей, в какой Павел Простой состоял к Иоанну Дамаскину или нынешний крестьянин-богомолец русский – к Филарету Московскому или Хомякову.
Иоанн, Филарет, Хомяков – сознательные, философски развитые продукты византийской, аскетической культуры; Павел Простой и сельский богомолец наш – наивные произведения той же аскетической цивилизации. Сильная вера сердца в два-три раз и навсегда принятых положения, в две-три идеи, нисшедшие в краткой и доступной квинтэссенции из высших сфер этой цивилизации. Вот их умственный запас.