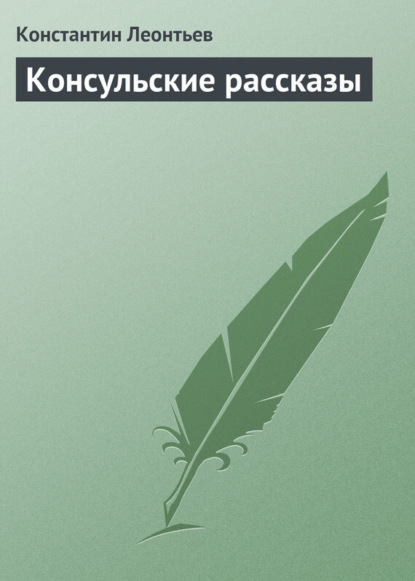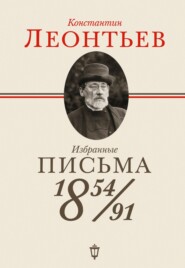По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Консульские рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
У них был свой вождь и представитель, которого никогда почему-то по фамилии не звали, а все только Семен Васильевич. Это был пожилой, умный, солидный, себе на уме, но все-таки честный и добрый русский мужик, наружности весьма приятной и почтенной. И Василий Кельсиев о нем говорит в своих статьях с добрым чувством. Семен Васильевич был с Гончаровым почти во всем заодно, и русской политике охотно служил еще задолго до моего приезда. Но к тому времени, когда я ждал с нетерпением своего галицийского противника, совершенно побочный семейный случай, как-то особенно кстати и очень сердечно, сблизил нас с этим румынским политиком староверчества. Молодому сыну Семена Васильевича, парню ражему, здоровенному, рыжеватому, но довольно приятному собою, очень понравилась одна тульчинская «беспоповская» девушка. Где он, живший с отцом в Молдавии, по ту сторону Дуная, виделся с нею, как он с нею сблизился – не знаю; вероятно, езжал по делам каким-нибудь в Тульчу – только кончилось все это тем, что девушка эта в него влюбилась и решилась тайно от своего отца обвенчаться с ним.
Молодой человек открылся своему отцу. Семен Васильевич охотно согласился и взялся сам помогать сыну. Они приехали с этой целью в Тульчу. Выбрали такой час, когда отец невесты уходит из дома по каким-то делам; отец Григорий поспешил приготовить в церкви все, что нужно для венчания. Невесте дали знать; она нарядилась и, никем в доме не замеченная, бегом убежала в церковь. Семен Васильевич с сыном уже ждали ее. Венчание началось; народ соседний узнал, и скоро церковь наполнилась любопытными… Отец был где-то далеко и ничего не подозревал. Наконец кто-то из близких ему людей отыскал его и сказал:
– Что ты тут делаешь?.. Твою дочь уж в церкви без тебя венчают.
Отец прибежал в церковь, но таинство уже было совершено. и обряд приближался к концу. Семен Васильевич подошел к беспоповцу и дружески сказал ему:
– Ну, что, брат, делать, прости ты нам! Видно, на это Божья воля. Теперь уж не ищи ты их разлучить.
– Ну, что делать! Пусть будет по-вашему, – отвечал беспоповец и помирился.
Семен Васильевич на другое утро был у меня развеселый, сам всю эту историю мне рассказал и просил позволения вечером привести ко мне молодых «на поклон». Я с радостью согласился.
Как нарочно, с поздним австрийским пароходом в этот день приехал ко мне еще гость из Галаца, Митрович, агент нашего русского пароходства.
Когда стемнело, новобрачные пришли ко мне с добрым отцом своим пить чай.
Молодая, лет не более семнадцати, была в шелковом темноватом сарафане, в большом кисейном фартуке и в белой заячьей шубке, крытой зеленою шерстяною матернею. На голове яркий малиновый шелковый платочек. Она была сложения нежного и очень бледна, черты лица у нее были тонкие и красивые, а глаза, хотя и небольшие, но черные, смелые и блестящие.
Мужу на вид казалось не больше 20 лет; он был в новой расшитой на груди дубленке и так в ней и остался на все время посещения.
Оба они, как взошли, так поклонились мне в ноги и, вставши, поцеловались со мною, а потом поклонились Митровичу и с ним поцеловались. Митровичу, которому приходилось чаще всего жить или в нерусской Одессе, или в Австрии, Румынии и Германии – до того понравилась эта патриархальная оригинальность, что он и не стал скрывать своего удовольствия, громко и душевно восхищался стариною, и тотчас же послал моего слугу в лавку купить молодой в подарок хороший шелковый платочек, внимательно заботясь о том, чтобы он был не похож цветом на тот, которым была покрыта ее голова. И меня тоже очень тронуло это строгое и серьезное соблюдение древнего обычая, без малейшего оттенка подобострастия или лести…
И какая могла быть тут лесть? Про Митровича и говорить нечего; они его видели в первый раз и не знали даже, кто он такой, а про себя… про русского консула в Тульче… надо сказать правду: «среда» нередко нужнее всякому политическому русскому деятелю в таком разлагающемся и сложном государстве, каково турецкое, чем этот деятель «среде»…
Мы провели этот вечер очень приятно.
Молодых я посадил на почетное место, на диван, за столом, а мы, старшие, сели кругом стола на стульях и пили чай. В угоду молодой мы с Митровичем оба отказались даже от папирос и пили чай, не куря, чего я, по крайней мере, ни для кого, насколько мне помнится, – по охоте не делал, ибо хотя я очень люблю хорошие светские гостиные, но ничто вас так не раздражает, как эта какая-то нерусская претензия многих наших знатных дам не позволять у себя курить.
Обыкновенно я в таких случаях отказывался и от чая, но иное дело европейские претензии какого-то полурационалистического характера, и совсем простодушные предубеждения своеобразного отечественного и милого сердцу моему «обскурантизма»!
Семен Васильевич для себя и не требовал подобного воздержания; он привык иметь дела с курящими людьми, но наше внимание к его похищенной по любви невестке, видимо, сильно его тронуло.
На другой день они оба вместе с Осипом Семеновичем Гончаровым обедали у меня и за обедом держали себя так хорошо, ели так ловко и прилично своими огромными рыбацкими руками, что дай Бог всякому. Они, даже не задумавшись, стали есть не хуже всех нас и пирожки с супом; ели именно так, как надо; тогда как многие европейцы не знают, что делать с этими пирожками, и я видел сам, как одна богатая венская немка, обедая в первом классе на русском пароходе «Таврида», положила, беспокойно озираясь, такой пирожок в суп!..
А наши староверы в поддевках и рубашках навыпуск даже и не озирались!..
После этого дружеского обеда мы втроем вдоволь побеседовали о текущих делах и вообще о политике, уверяя, что Гольденбергу нечего тут будет взять, если он приедет.
Случайное присутствие Семена Васильевича на турецком берегу имело для меня особое значение. Гончаров был человек характера очень живого, ума изобретательного и смелости редкой; все со смехом и шутками да прибаутками (иногда и весьма неприличными, но всегда почти забавными) он совершал самые важные и разнообразные дела… Я, веря его основному, так сказать, расположенно к России и к русской политике того времени, считал его в то же время способным на всякую выдумку и почти на всякий рискованный шаг, ввиду какой-нибудь ближайшей, очередной, по его мнению, цели. Я знал о его прежних сношениях с Кельсиевым, с поляками, с Герценом, с французским министром; знал, как он их всех обманул и как он их всех, так сказать, нам выдал и предал, добившись прежде с их помощью от Турции и Румынии нужных для староверов льгот… Я глядел на его длинную рыжую, с проседью бороду, на это вечно веселое лицо старого русского балагура, на его серые, беглые и смеющиеся глаза, и думал:
«Ты, пожалуй, напишешь и три письма в пользу поляков и Петра III, когда тебе что-нибудь сейчас нужно для твоих общенекрасовских, а может быть, даже и личных целей!.. Напишешь и опять обманешь поляков и вывернешься, и отречешься как-нибудь искусно и от них, и от писем, потому что и по душе более все-таки ты нам сочувствуешь, да и по острому разуму твоему понимаешь, что настоящее и ближайшее будущее за нас, а не за них. Я не верю что-то, хитрый и милый рыжий мой, разгульный и набожный, истинно великорусский старик, на этот именно раз, я что-то не верю тому, что ты написал письмо в пользу Гольденберга. Не то время!.. Ты так умен, лукав и опытен… И так как ты пишешь по-детски, самыми грубыми и крупными печатными палочками, то всякий поляк, знающий по-русски, может, не рискуя быть сразу уличенным, подделаться под твой, почти безличный почерк, – с какою целью?.. Мало ли их, этих целей! Бывают у пройдох и личные цели – подслужиться, сведение важное сообщить. Сочинил же тот скуластый незнакомец, что из Галиции идет на нас «атака» чуть не бесчисленной кавалерии?.. Сочинили это письмо за тебя другие, мне все сдается, бедный мой Осип Семенович, а ты тут ешь мои пирожки и остришь, и про Герцена мне рассказываешь (атеизму в таком умном человеке все удивляешься), а моих секретных сведений про тебя и не знаешь! Не верю что-то я им, этим сведениям, Осип Семенович, не верю!.. Но знаешь, «береженого Бог бережет»… Попробую пока на всякий случай подозревать тебя…»
Так я размышлял, глядя на Гончарова; но тихий, основательный, сдержанный и осторожный Семен Васильевич производил на меня другое впечатление. Он был также очень влиятелен в своей среде, и раз он не согласен был с Гончаровым, раз он замешан был в эти «письма», половина дела была сделана…
Я больше верил в его личный характер, чем в характер Гончарова, и это неожиданное свидание с ним и долгая беседа утвердили меня окончательно в мысли, что это все вздор… Хотя, разумеется, вздор такого рода, которым пренебрегать заранее мы никакого не имеем права.
III
Итак, мы поговорили, простились друзьями, и Семен Васильевич уехал в Измаил со своими возлюбленными детками. Гончаров отправился тоже в одну из некрасовских деревень, а я остался на своем месте… Остался и ждал. Гольденберг все не показывался, и слухов о нем не было никаких. Я стал уже и забывать о нем за другими заботами и впечатлениями…
Однажды, под вечер, мне вздумалось зайти в одну кофейню. Кофейня эта находилась в месте вовсе не торговом, в дальней улице, на углу тихого переулка, и отличалась приличным, как бы семейным характером. Хозяин ее, полурусский-полупольский еврей, предпочитал избранное общество многолюдству… У него были две взрослые дочери, которые, как «барышни», играли на рояле, пели и занимали разговором гостей. Рассказывают, будто бы они не дочери ему, а прижиты были где-то в России женою его, еще до брака с ним, от какого-то дворянина, который и доставил им возможность получить небольшое образование.
В эту кофейню ходили иногда консулы австрийский, греческий, французский, турецкие офицеры и чиновники, которые вообще держат себя в обществе очень скромно и хорошо, и торговые люди всех наций и самого высшего по состоянию слоя. В ней, в этой кофейне, никогда не бывало ни шума, ни крика, ни буйства, и даже случалось очень редко, чтобы разом в ней собиралось больше трех-четырех посетителей. Для карьеры молодых девушек это было довольно выгодно. К ним приходили точно в гости, слушать их музыку и беседовать с ними о том о сем. Старшая – Софья, вскоре после моего приезда вышла замуж, по любви, за грека, служившего чиновником Порты; он был довольно хорошо принят в греческих домах торгового сословия. В кофейне оставалась тогда одна младшая, Розалия; она была во всех отношениях гораздо лучше и даровитее сестры и одна продолжала привлекать посетителей.
В те сумерки, о которых я хочу рассказать, я зашел туда случайно. Пошел гулять, иду мимо; улица такая тихая; в окнах кофейни огонь и слышно, что Розалия что-то играет… Спиной к окну сидит мужчина… Я очень давно не заходил… Подумал и зашел.
Поздоровался с Розалиею и, обернувшись, увидал того мужчину, который сидел у окна.
Розалия, «по-семейному», тотчас же рекомендовала нас друг другу: «русский консул, г. Леонтьев; г. Гольденберг», – сказала она как ни в чем не бывало.
Мы поздоровались; Гольденберг раскланялся как нельзя уважительнее, avec empressement[3 - поспешно, с готовностью (фр.)]. Так вот он, мой страшный Петр Феодорович, еще раз восставший из мертвых!.. Не ожидал!
Мы сели, и начался веселый, общий, неважный разговор. Я смотрел на своего противника внимательно.
Он показался мне роста среднего; был бледен, как-то сер, низок, очень длиннолиц, долгоног и носил длинные и широкие книзу польские усы. Одет он был в какое-то форменное австрийское платье, военное или нет, не знаю. Может быть, я теперь уже и сбился в чем-нибудь, только мне словно помнится, что Розалия говорила, будто он военный доктор австрийской службы.
Прекрасно! Мы сидели с Петром III за одним столом, курили и пили кофе. Розалия слегка поддерживала общий разговор. Я похвалил ее игру, спросил: зачем она ее прекратила с моим приходом, и просил возобновить.
– Что же вам сыграть теперь, не знаю, – сказала она.
– Что-нибудь наше, русское.
– Русское! А, ну хорошо! – воскликнула она, и вдруг, плутовски и весело оглянувшись на меня, заиграла и запела:
Еще Польска не сгинела,
Покель мы …
Гольденберг «деликатно» чуть-чуть улыбнулся и быстро взглянул на меня… Розалия вдруг остановилась, захохотала и, краснея, обернулась ко мне с видом, почти умоляющим, точно говоря: «Не сердитесь, простите мое дурачество».
– Продолжайте, продолжайте, – сказал я ей с полной искренностью, – музыка эта мне ужасно всегда нравилась… Она такая лихая; так приятно возбуждает мне нервы… Играйте, играйте, – повторял я.
Но она не захотела продолжать; она не верила, видимо, искренности моего желания и боялась потерять выгодного для кофейни посетителя.
Я вздумал обратиться тогда к Гольденбергу и сказал ему так:
– М-llе Розалия напрасно не верит мне… А я в самом деле очень люблю все политические польские вещи. Чем они нам вредят?.. У нас, в России, например, славится опера Глинки «Жизнь за царя»… Там поляки веселятся и пируют на радостях, что задумали убить русского царя… Они пляшут мазурку, и пляска эта, и музыка, и костюмы польские до того хороши, что мы всегда с восторгом слушаем и заставляем повторять… Мы ведь очень хорошо знаем, что из этого геройства и молодечества ничего все-таки не выйдет… И победа окончательно всегда на нашей стороне… Я нахожу даже, что поляки своими движениями скорее полезны, чем вредны нам… Ведь вы, если я не ошибаюсь, немец, и потому я говорю с вами так прямо… Не правда ли?
Гольденберг уже не улыбался, но пока я говорил, он стал серьезен и сидел неподвижно, вытянув длинные и тонкие ноги свои; но когда я кончил и спросил у него так «искательно» и невинно: «Не правда ли?» – он вдруг взволновался, как бы с изысканною учтивостью что-то прошептал, вроде: «О… конечно»… или… «Oui, oui, sans doute»[4 - «Да, да, без сомнения» (фр.)]… И ни слова более.
Закончил и я; собираясь уйти, заплатил за кофе, простился с Розалиею; подал и ему руку. Он вскочил поспешно, расшаркался почтительно и пожал мне руку как нельзя сердечнее…
В тот же вечер г. Глизян принес мне известие об его приезде.
– Опоздали вы, – сказал я ему и рассказал о неожиданной нашей встрече.
Тем все и кончилось. Гольденберг скоро уехал, и я больше никогда уже о нем не слыхал.