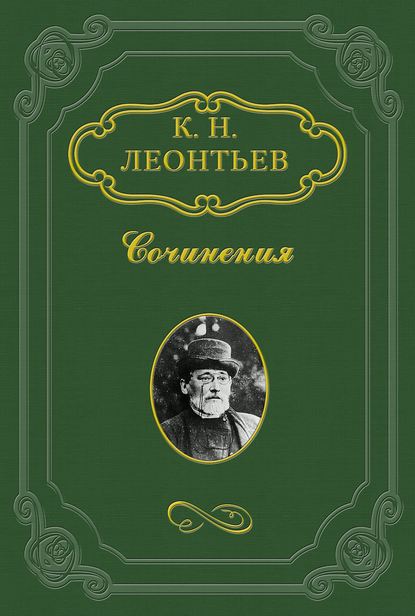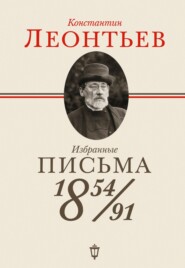По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мои воспоминания о Фракии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мы съезжали рысью с горок, въезжали опять на горки… Все поля и поля – холмистые, необработанные. Ни одной деревни я не помню… Я помню, солнце садилось на левой стороне нашего пути… Молодой цыган все пел и пел… Встречались стада баранов и болгарские пастухи в бараньих шапках и коричневых одеждах. Не умею назвать того впечатления, которое произвели на меня эти коричневые пастухи на этих сероватых полях. Скорее всего его можно назвать скучным.
Спутником моим был один мусульманин, молодой заптие Билау[1 - Не знаю, что значит это имя; оно больше похоже на немецкую фамилию, чем на мусульманское имя.], из крымских татар. Билау был юноша лет двадцати с небольшим, тихий, некрасивый, но очень приятный лицом; он переселился из Крыма недавно. Я тоже был в Крыму не так давно. Я знал слов двадцать-тридцать турецких и татарских; он знал столько же по-русски. Я Крым и крымских татар любил. Во все время он был чрезвычайно ко мне внимателен, и видно было по выражению доброго лица его и по его улыбкам, то вовсе не одна надежда на скромный какой-нибудь бакшиш одушевляла его; ему было приятно встретиться с человеком, который знает его родину, видал Карасу-базар и Бахчисарай, который умел сказать: якши и яман, мог считать по-татарски (или все равно по-турецки) почти до ста и с которым и он мог сказать два-три слова на языке знакомых с детства урусов. Внимание его особенно обнаруживалось ночью, на ночлеге. Суруджи на этом перегоне попался нам широкоплечий, тяжелый, угрюмый и очень уж старый цыган в пестрой по красному фону большой чалме. Он еще ездил с почтой по нужде и, вероятно, по привычке, но страдал хроническим кашлем и одышкой, и никакие обещания и угрозы не могли заставить его ускорить шаг своей лошади. Как ни старался я восхищаться его живописными морщинами, седою бородой, пестрым турбаном и огромною спиной, но все-таки мы опоздали на городской ночлег и уже было совсем темно, когда мы свернули с дороги в какой-то хан, стоявший посреди поля. Взошли. В тесной комнате было уже кроме нас человек пять-шесть проезжих или прохожих турок простого звания. Они курили, пили кофе и разговаривали громко. Лица все были суровые и одежды бедные. Наш старик суруджи с громким кашлем и ужасным хрипом потребовал себе яичницу, и хозяин (вероятно христианин) развел огонь в очаге. Старик все был чем-то недоволен и бранился. Остальные улыбались. Я спросил у Билау: «За что старик сердится?» Билау отвечал мне по-русски, смеясь: «Старый человек! Порядок любит! Должно быть хозяин что-нибудь неаккуратно по его понятию сделал». Однако дело было для меня не так просто на этом мрачном и подозрительном ночлеге, как может казаться с первого раза. Со мной, кроме моих собственных вещей, ехал на вьючной лошади ящик, в котором были казенные деньги золотом на довольно значительную сумму, сверх того новый секретный шифр, который посылала константинопольская миссия для нашего консульства, и еще несколько богослужебных ценных предметов для болгарских церквей Фракии. Доброе юношеское лицо Билйу внушало мне доверие; но он был, вероятно, еще неопытный человек, геркулесом не казался, и во всяком случае он был один. А этих неизвестных людей в чалмах или в старых платках, повязанных на фески, было много, и они держали себя очень независимо и даже надменно. У меня оружия не было. Я думал об ящике и, поглядывая на Билау, сказал ему тихо, указывая на него: – «Что будем делать?» Билау тотчас же понял меня и, сделав мне знак головой, отвечал: «Ничего! Все хорошо сделаем!» Были у одной стены этой тесной и грязной комнаты какие-то не очень высокие деревянные нары; они были широкие, как двуспальная кровать. Билау поместил заветный ящик в самый угол, загородил его моим саквояжем и чемоданчиком и поставил надо всем этим в угол свою шашку и заряженное ружье, подмигнул мне тихонько и предложил лечь к стене; я подложил себе в голову мою еще сырую бурку и лег не раздеваясь; а Билау свернул точно так же свой толстый солдатский бурнус и лег с краю около меня, спросив меня вежливо и тихо: ничего мне, если и он со мной ляжет? Я был очень рад; он устроил все так ловко, что худому человеку невозможно было коснуться ящика, не разбудив нас и не наделав шуму и стуку. Ружье и шашка были у нас под рукой. Итак, с этой стороны я успокоился. Но громкие разговоры и смех очень долго не давали мне заснуть. Как только утомленный путем я начинал сладко дремать, вдруг раздавались громкий возглас или хохот, или три-четыре человека разом начинали кричать и спорить, как будто дело доходило у них до ссоры. Старик суруджи курил наргиле у очага, вода журчала и он громко хрипел и кашлял еще сильнее прежнего, так как усилие легких при курении наргиле всегда облегчает отделение мокроты у людей, страдающих атоническим, застарелым кашлем. Я не говорю уже о том, что блох было множество и что мы с Билйу, оба одетые, бились с ними нестерпимо и только сообщали друг другу со вздохом: «Чок пире вар! чок пире!» Билау, видя, что я не сплю и мучаюсь, сперва распорядился привести в порядок мусульманскую публику и сказал разговаривающим:
– Перестаньте громко говорить, видите человек спать хочет!
На это один турок ответил резко:
– Это что такое, чтоб из-за одного человека семеро молчали!
Но Билау, несмотря на свою молодость, ответил ему твердо и строго:
– Молчи! это царский человек… векиль московский… слышишь?
Эти слова подействовали прекрасно, и громкий крик заменился надолго тихим и очень сносным шепотом. Только старый цыган мой в пунцовой чалме все курил, все журчал водой, все хрипел и все кашлял… Но и при этих условиях спать было невозможно. Утомление еще не было настолько велико, чтобы не чувствовать блох.
И Билау не мог спать. Соболезнуя обо мне, он приказывал хозяину раза два-три, по собственной инициативе, подавать мне черный кофе и всякий раз, не спрашивая даже, брал мой табак, крутил мне папиросы и без стеснения сам смачивал их языком. Мне эта простота и душевность его очень нравились, и я курил эти папиросы, думая о Крыме и о первой молодости моей, проведенной на войне в Крыму… Поздно заснули и мы, и все другие посетители хана… да и то ненадолго. Старик цыган разбудил нас на рассвете, и мы опять тронулись в путь. На следующем привале я простился с добрым Билйу. Мне дал мудир другого заптие, с которым я должен был доехать до самого Адрианополя. Больше ничего я из этого путешествия моего не помню. Разве только то, что не слишком далеко от Адрианополя мне пришлось видеть одного разбойника и подать ему милостыню.
III
Погода разгулялась; осеннее солнце начинало приятно греть нашу сырую от двухдневного дождя одежду; дорога быстро сохла; мы ехали к Адрианополю веселою рысью, и новый молодой суруджи, который сменил сурового, больного и огромного старика нашего, громко кричал и весело пел: «Аман, аман, Багдатлы!» Я с тех самых пор всем сердцем полюбил эту турецкую песню, и когда прошлого года я посетил в Калуге двух турецких офицеров, взятых в плен в Никополе, и узнал, что один из них играет на кларнете, первая просьба моя к нему была сыграть «Багдатлы!» Эту простую песенку, вероятно, все товарищи мои по службе на Востоке знают, а может быть, и военным нашим она теперь знакома… (Впрочем, у наших соотечественников есть большая способность ничего почти не выносить из чужой страны, в которую заносит их судьба… Особенно об этой бедной Турции, я думаю, кроме того, что мостовые не хороши в городах, редко можно что-нибудь услышать. Я, по крайней мере, редко слышал.)
Так мы ехали, говорю я, весело, и мне беспрестанно приходилось то радоваться, что я в Силиврии оставил цивилизованные средства сообщения, то негодовать на себя за то, что я сначала послушался константинопольских знакомых и поехал на этом тошном и гнусном пароходе. Около полудня подъехали мы к какому-то мостику через ров или небольшую речку, и спутники мои, заптие (не милый Билау, а новый, какой-то бесцветный) и суруджи, свернули с дороги на травку дать лошадям постоять немного. Заптие уехал подальше и стал на горке. У моста сидел на земле очень смуглый и худощавый мужчина, казалось, лет тридцати. Он был одет очень бедно, грязно и не по времени года легко. Старая феска его была обвязана оборванным платком, потерявшим всякий цвет; на ногах были старые башмаки на босу ногу; на теле, кроме грязной рубашки и полотняных узких шальвар до колен, не было ничего; только старый красноватый кушак вокруг гибкого стана. Человек тот сидел на сырой земле раскинувшись очень живописно и задумчиво. Когда мы отъехали на траву, на противоположную сторону дороги, незнакомец этот встал и направился к нам… Я принял его за нищего и стал доставать деньги. Но молодой суруджи мой сказал мне громко, делая отрицательный знак головой: «Не давай, эфенди, не давай ему!» и потом начал кричать на незнакомца очень сердито и громко; я мало понимал изо вес… его довольно многословной и, казалось, взволнованной речи, но догадывался только, что суруджи запрещал ему подходить. Смуглый оборванец остановился шагах в двадцати и отвечал ему сперва с кротким и убедительным видом; потом, внезапно размотав и бросив на землю свой старый кушак, приподнял короткую, только до перехвата стана доходившую рубашку и показал, что у него там ничего, кроме его нагого бронзового тела, нет… В эту минуту только я догадался, что это не нищий, а какой-нибудь опасный человек, который хотел доказать, что при нем нет оружия. Я подозвал его поближе движением руки и дал ему пять пиастров. Он поглядел на меня очень ласково томными прекрасными черными очами своими, поклонился почтительно и, вернувшись опять к мосту, сел на прежнее место. Когда мы тронулись в путь, отъехав от него подальше, суруджи обратился ко мне и сказал: «Фэна адам! (худой человек) Гайдут! «Я знал, конечно, слово гайдук, а гайдут еще не знал, но догадался, что это значило; чтоб удостовериться в справедливости моих догадок, я знаком показал, что не совсем еще понимаю; тогда суруджи показал очень выразительно сперва в сторону Балкан, приговаривая: «дат! дат!» (гора! гора!), а потом провел несколько раз по горлу, придавая лицу своему выражение ужаса и отчаяния… Этого объяснения было достаточно. Но я не пожалел ничуть моих пяти пиастров.
Я восточных разбойников, каюсь, люблю, люблю, конечно, не в том смысле, что желал бы быть пойман ими, или чтоб они оставались всегда безнаказанными, а в том смысле, в каком можно волка, гиену и тем более леопарда предпочитать домашней свинье или безвредному ослу. Всего этого домашнего я довольно уже насмотрелся и в Петербурге, и можно было пожертвовать пять пиастров за то, чтобы видеть так близко и безопасно настоящего Арнаута-разбойника.
В Турции все еще было ново для меня тогда, особенно в этой части Турции; я пред этим прожил только шесть-семь месяцев в Крите, где было все иначе, чем во Фракии: природа, климат, люди, одежда, политические интересы; да еще провел я четыре месяца в Константинополе при посольстве нашем в Буюк-Дере. Я с жадностью и радостью ловил всякий самобытный образ, всякое самородное явление… И потому все меня тогда занимало, приятно волновало, радовало невыразимо: и песни цыгана-извозчика, и свежий, приветливый, гостеприимный дом черноусого русофила, силиврийского щеголя в оливковой одежде, и красная чалма больного старика суруджи, и ночлег на жестком ложе с Билйу, с заветным ящиком в изголовье, в обществе неизвестных, полудиких людей, посреди пустынного, бесконечного поля темною осеннею ночью, и бледный каймакам с острым носом, и разбойник, просящий милостыню, и мелкий дождь, мочивший меня точно на родине, и заря, которая краснелась в таинственной дали за степью, все по правую руку от нашей дороги, и болгарские пастухи в бараньих шапках, и травка зеленая, и мысль о том, как я буду управлять в первый раз делами консульства, которое считалось одним из самых деятельных и важных для нас… Мне, впрочем, было уже за тридцать лет в то время, и радуясь, я понимал, что, прожив всего только семь месяцев в Крите, где тогда делать было почти нечего, разве только наблюдать за действием других, я во Фракии должен буду взяться за дело серьезно и рассудительно. Не говоря уже о долге гражданском, которого благородное и высокое бремя я готов был тогда нести с любовью, ибо личные убеждения и наклонности мои в то время были в высшей степени патриотические и почти в славянофильском смысле народные; но и самое самолюбие мое было возбуждено. Меня считали литератором, поэтом, так сказать… Надо было доказать, что поэзия не мешает делу.
Мы приехали в Адрианополь еще засветло. С этой стороны, с константинопольской, нет ни садов шелковичных, ни виноградников; пред въездом в предместье, около дороги, белеется множество мраморных и каменных столбов, увенчанных турбанами и другими головными уборами старого времени; это большое турецкое кладбище. От въезда до нашего консульства было недалеко. Город мне очень понравился: в нем самом и в окрестностях его много садов; и хотя в то время года, когда я приехал, листья уже опали, но и множество нагих ветвей вокруг строений, их тонкие фантастические узоры, сливающиеся издали в какую-то легкую дымку, мне нравились всегда и в иные дни больше самой свежей и тенистой зелени; я заметил еще, что в городе довольно много хороших домов, расписанных разноцветными красками: розовою, темно-красною, голубою, коричневою; много высоких тополей и минаретов. Местами, конечно, Адрианополь имеет бедный и неопрятный вид, но есть в нем виды восхитительные, вроде московских; есть прелестные уголки, есть достаточно удобные и внутри очень красивые дома, хотя и не прочной постройки, как большая часть турецких построек. Народ одет пестро… Этому я тогда радовался столько же, сколько радуются живописцы; а до ужасной мостовой (сознаюсь к стыду моему) мне в то время не было никакого дела. Я едва замечал мостовую, я был рад взяться за серьезное дело; я был рад, что город оригинален, я был рад, что отдохну сегодня, я был рад, что так мало отдыхал все эти дни, что ехал так долго и по-варварски верхом, что ночевал так ужасно в таком ужасном хане; я был рад, что видел разбойника и дал ему пять пиастров… Я был всем доволен; но особенно я обрадовался, когда увидал, что суруджи мой остановился на углу одной довольно оживленной улицы, около каких-то лавок, где толпился столь милый мне восточный народ, пред каменным крыльцом двухэтажного, темно-коричневого, очень опрятного и, казалось, нового дома. Над дверьми висел круглый герб с двуглавым орлом и надписью: «Consulat Imperial de Russie»[2 - Консульство Российской империи (фр.)].
Дверь мне отворил с приветствием настоящий русский Иван, красивый, круглолицый, несколько бледный молодой человек в поддевке; глаза его были очень выразительные и немного монгольские… Это был верный слуга Золотарева, из бывших крепостных, теперь свободный и сохранивший одни лишь хорошие стороны крепостной благовоспитанности. Он тотчас же ввел меня в очень веселую гостиную с пестрыми стенами и ярким красным ковром; послал скорее за консулом, который беспрестанно бывал тогда у г. Блонта, и тотчас же, по собственной инициативе, почтительно предложил мне холодных котлет, жаркого, вина и варенья… Я на все согласился с удовольствием… Мне все нравилось, мне всего хотелось тогда…
IV
Золотарев уехал чрез три дня после моей» приезда. Он ехал в Россию через Балканы сухим путем на Белград (Сербию) вместе с английским вице-консулом г. Блонтом, тем самым Блонтом, который теперь, стал так известен у нас своею к нам враждой. Блонт ехал в Сербию управлять генеральным английским консульством в Белграде, на время отсутствия родственника своего г. Лонгворта (тоже одного из самых ожесточенных врагов России на Востоке). У англичан, насколько я слышал, консулы нередко сами предлагают себе заместителей на случай отъезда, и непотизм допускается у них охотнее, чем во всех остальных государствах. О г. Блонте мне придется говорить позднее еще много. О нем стоит говорить. В Адрианополе Блонт оставил будто бы управлять своего младшего брата Жоржа, юношу всего лет девятнадцати или двадцати, весьма ограниченного и необразованного, но довольно доброго малого, который отлично танцевал и ездил верхом. По странному сочетанию обстоятельств (я их объясню впоследствии), этот мосьё Жорж, управляя за брата британским консульством, был в то же время у нас вольнонаемным писцом за четыре турецкие лиры в месяц и даже поселился в одной комнатке в нижнем этаже нашего консульства по распоряжению г. Золотарева. Всю свою квартиру, мебель и утварь Золотарев уступил по обычаю мне как управляющему. Так делали почти всегда наши консулы на Востоке, когда уезжая надолго сдавали дела вместо себя управляющему.
Дождливым утром собрался народ пред нашим подъездом, верховые лошади, конные заптие и кавасы в красных одеждах, фургоны дорожные, известные во Фракии под названием брошов… Красивая белокурая мадам Блонт, несмотря на дурную погоду, села молодецки на свою вороную лошадку; муж ее, тоже лихой наездник, гарцевал суетясь около экипажей; но наш Золотарев ездил верхом нехорошо; сам он был очень красив и мужественен на вид, высок и величав, но ездить не умел, и супруги Блонты, которые жили тогда с ним душа в душу, в то время только что учили его верховой езде. Золотарев не хотел ехать верхом; он сел в повозку; верховую его лошадь повели в поводу, и караван тронулся весело в дальний и трудный путь.
Им было всем весело; а я остался один в незнакомом городе, с незнакомыми людьми, никому не доверяя, не имея еще понятия о текущих делах консульства, плохо зная по-гречески, по-болгарски почти ни слова и по-турецки слов тридцать, как я уже сказал. Уезжая, Золотарев оставил, однако, мне очень хорошую и ясную инструкцию на французском языке и послал с нее копию в Петербург и Константинополь. И на словах, и в самой инструкции официально он указал мне на драгомана консульства, адрианопольского уроженца, г. Э. С, которого знание дел и всей нашей местной политики после 1856 года внушало консулу полное доверие. Э.С. служил при трех консулах подряд, при людях весьма несхожих характеров и взглядов, и всем им внушал доверие. Золотарев разрешил мне официально пользоваться вначале смело и не колеблясь его советами.
Консул, сверх того, в течение этих трех дней, которые мы провели с ним вместе, представил меня толстому, красному Сулейман-паше, турку старого стиля, не из злых, а из лукаво-простодушных, и паша очень патриархально обещал Золотареву «любить меня как сына своего!» (Он был гораздо старше меня.) С западными консулами я также в эти три дня со всеми познакомился; не только с французским, английским и греческим, которые были действительные консулы, присланные, consuls envoyes, но мы объехали верхом и целую толпу почетных консулов (honoraires) Испании, Дании, Пруссии, Голландии, Бельгии и т. д. Все эти псевдоконсулы, не получавшие ни жалованья, ни повышения, а только изредка ордена, были из местных купцов-католиков, дети давних итальянских или французских переселенцев, нечто вроде цареградских перотов с провинциальным тяжелым оттенком. Все они были родня или почти родня между собою; все из двух родов: Бадетти и Вернацца, так что я сначала не мог их почти различать и не знал, что мне делать, кого как называть и кому что говорить…
– А теперь куда же мы еще едем? – спрашивал я Золотарева.
– Теперь к Фредерику Вернацца, – смеясь говорил Золотарев. – Погодите будет еще Антуан Вернацца, Франсуа Вернацца, Франсуа Бадетти.
Я терялся в этом лесу скучной, лукавой, тупой и враждебной нам западной буржуазии, которой надо было, если не любезности говорить, то, по крайней мере, оказывать какое-нибудь внешнее внимание… Те из греческих и болгарских влиятельных в городе лиц, которые были нашей партии и более или менее расположены к нам, пришли все сами в эти первые дни познакомиться со мною.
Когда Золотарев уехал, я остался пред целым архивом предыдущих бумаг и донесений, с которыми необходимо было познакомиться, чтобы хотя сколько-нибудь наглядно представить себе страну, ее интересы, положение и страсти, группировку партий, характер тех влиятельных лиц, с которыми мне придется иметь дело и с духом деятельности моих опытных и чрезвычайно способных предместников – Ступина, Шишкина и Золотарева. Я остался один, окруженный политическими врагами, знавшими страну и дела, которые захотят, вероятно, воспользоваться отсутствием влиятельного консула, уже успевшего приобрести значительный вес и в среде единоверцев, и в Порте, и в глазах своего русского начальства. Я остался с целою грудой неоконченных тяжебных дел русских подданных, которых, насколько помню, было здесь больше семидесяти; цифра эта вовсе не ничтожная, если взять, с одной стороны, в расчет, что все эти греки, болгары, евреи и армяне, снабженные русскими паспортами, люди торговые и оборотливые, все с расписками, что паспорта свои они всякими правдами и неправдами добыли в Кишиневе или Одессе; все охотники до тяжб и препирательств в судах, и почти всех их турки не признают в принципе русскими; а с другой стороны, если вспомнить, что консул на Востоке (консул всякой державы, а не только русской) в одно и то же время дипломат и нотариус, революционер и консерватор, смотря по нужде, по эпохе, интересам своей державы, по местности. Я же всю молодость мою провел с русскими помещиками, с военными в Крыму и отчасти с литераторами и учеными. Был военным врачом, жил отчасти помещичьего жизнью, отчасти военного, а потом в Петербурге. Все больше «нараспашку», по-русски, по-офицерски, по-студенчески; жил то старательным и точным доктором, то каким-то свободным поэтом… Но ничем, кроме больничных палат, не управлял и ни над кем, кроме крепостных слуг, фельдшеров и вестовых солдат, не начальствовал… Никого не судил юридически; стесняться в выражениях идей, вкусов и взглядов не привык; никаких нотариальных заметок в книги не заносил и книг таких не видывал; казенными деньгами никогда не распоряжался, а свои очень любил тратить; статистикой никакою не занимался; с иностранцами дел не вел… А здесь нужно было сейчас, сейчас, с завтрашнего дня, быть может, предстать во всеоружии: считать хотя бы и не очень большие казенные деньги, судить, управлять, бороться с иностранцами, остерегаться всех и всего, и при этом быть все-таки смелым и твердым; подданных судить и сноситься с Портой, с представителями западных держав, иногда защищать их с энергией, но и самих этих подданных, не всегда честных и покойных людей, держать в руках.
Консул на Востоке это в меньшем виде посол, и посол в Константинополе это в большем размере консул. Послы при европейских дворах имеют дело только с государем и министром. Послы при дворах восточных (особенно в Турции) имеют дело и со двором, и с населением, и к своим подданным отношения их гораздо проще в принципе и вместе с тем многосложнее в частности, чем в Европе. В Париже, Лондоне и Вене и т. д., русский посол не мешается прямо в дела судебные; русских подданных судят судами местными по законам страны; точно так же, как французские или австрийские подданные судимы в Москве русскою судебного властью по законам русским… В Турции было иначе, и судебную деятельность наших дипломатов и консулов в Турции можно было в то время разделить на три ветви: русский собственно суд в тех случаях, когда обе тяжущиеся стороны имеют русский паспорт; когда же случались ссоры, столкновения, какие-нибудь гражданские тяжбы или торговые препирательства между подданными русскими и подданными французскими, греческими, бельгийскими и т. д., то по договорам судило то консульство, которому подлежал не истец, а ответчик. Истец жалуется своему консулу на иностранного подданного; консул подписывает на прошении по-французски «читано» (vu) и препровождает в такое-то (чужое) консульство «pour fins, etc»… а консульство ответчика, получившее эту бумагу или само судило, или чаще назначало смешанную судебную комиссию из почетных и известных в городе лиц, которых тяжущиеся стороны имели, однако, право отвести. Так делалось большею частию в делах гражданских и коммерческих. Уголовные мелкие дела судили довольно патриархально и просто обыкновенно сами консулы. Подданные всех держав строго обязывались к безусловному повиновению. Крупные уголовные дела, особенно убийства, насилия и т. п., случались в Турции как-то редко между иностранными подданными, особенно между нашими. Может быть это потому, что большая часть этих русских подданных во Фракии были все скромные лавочники, мелкие торговцы, евреи-менялы и небольшие банкиры, учителя болгарские, греки хлебопеки и золотых дел мастера, каменщики и тому подобные мирные и осторожные люди и более или менее буржуазно-настроенные. Впрочем, в Адрианополе было двое севастопольских героев-охотников, оба греки, и один из них хлебопек (которого имя я забыл) был человек весьма энергический и с Георгиевским крестом за храбрость. Но и он жил, как многие герои, по возвращении к пенатам своим очень скромно. У греческих консулов, я понимаю, чаще случалось судить преступников; им были подведомственны: отважные островитяне, пылкие и страстные, жители Морей и Акарнании, стран, в которых молодечество выражается, между прочим, большою охотой к разбою и всяким приключениям…
На Дунае и у нас были уголовные дела серьезнее фракийских, но в Адрианополе, как я сказал, мелких дрязг судебных и полицейских было много.
Я отвлекся этим замечанием и не сказал о главном – о судебных отношениях к турецкой власти. Судебную власть Порты над иностранными подданными державы до последнего времени вообще не признавали. Отвержение это, с одной стороны, основывалось на том, что в Турции все дела уголовные и гражданские, по вопросам недвижимости и наследования и т, п. судились по шариату, по Корану муллой и кадием в белой чалме. С другой стороны, как объясняет один из европейских авторов (не помню кто именно), сама Порта находила более сообразным со своими обычаями допустить фактически для иностранцев некую фикцию «экстерриториальности», предположить, так сказать, что их тут и нет вовсе, что они не покидали вовсе своей страны и остаются вполне подведомственными своему начальству, чем в принципе дозволить иностранцам жить в Турции и считать их иностранцами. Мне это объяснение кажется темным и очень натянутым. Слабость Турции, издавна уже вынужденной обстоятельствами и географическим положением своим вести дела с европейцами, не позволяла ей отстаивать свои права на равенство с христианскими державами; вот причина и вот единственное объяснение этому факту. Коммерческий суд (тиджарет), устроенный отчасти по французскому образцу, хотя и вполне турецкий по внешним формам, державы признавали и в столице, и в провинции; туда ходили судиться и наши подданные в случае торговых тяжб с подданными турецкими (как христианами, так и мусульманами); но драгоман посольства и еще более драгоман консульства были всемогущи в тиджарете и редко случалось, чтобы турецкий подданный, даже и мусульманин, выигрывал бы тяжбу против иностранного подданного.
Все это мне нужно было сразу понять и разом все помнить. Ни служба в Петербурге, ни полгода, проведенные мною на острове Крите, не могли «наглядно» и практически обучить всему этому. В Петербурге я читал много консульских донесений, новых и старых, образцовых и плохих, внимательно просматривал руководства международного права; но в петербургских канцеляриях (или лучше сказать в столичных канцеляриях всех стран) видишь не самую ту жизнь, с которою будешь иметь дело, а лишь «отражения этой жизни», как выразился граф Л. Толстой, говоря про мужа своей героини, Анны Карениной. Отражения же дальнего востока были в Петербурге особенно туманны, и в самых лучших образцовых, именно сжатых и дельных донесениях и депешах ясны были лишь общие черты наших интересов, лишь голые факты политических событий, разумеется безо всякой врезывающейся глубоко в память «иллюстрации». Крит в то время был только очень важный пост политического наблюдения. Наших подданных там было всего одна вдова гречанка, г-жа Ставрула, с тремя красивыми дочерьми. Полгода в Крите были каким-то очаровательным медовым месяцем моей службы; там я гулял по берегу морскому, мечтал под оливами, знакомился с поэтическими жителями прелестной этой страны, ездил по горам и читал от времени до времени умные донесения моего почтенного начальника г. Дендрино, мастерски написанные превосходным французским языком. Больше ничего! Не только подданных и тяжб в Крите не было, но даже и «политического» было мало. Критская жизнь приезжему казалась тогда благоуханною эклогой, непостижимо, однако, грозящею перейти в кровавую народную драму, весенним ясным днем на заросшем цветами поле старых битв, виноградником веселым и мирным на краю утихшего на время вулкана… В Адрианополе было гораздо меньше картинности, меньше души, меньше поэзии, но зато было гораздо больше дела, всякого дела политического и неполитического… Адрианополь был понедельник в школе после сладкого воскресенья на веселой даче.
Надо было в одно и то же время и учиться, и действовать безотлагательно. Я был осторожен, но вместе с тем не сомневался, что, по крайней мере, не испорчу дела Золотарева. Житейский, уже значительный опыт и та привычка к серьезной ответственности, которую я приобрел уже с ранних лет как врач у постели больных, что-нибудь да значит и на всяком новом поприще.
Помню, почти в первые дни моего водворения в Адрианополе я сделал одну невозможную формальную ошибку. Один русский подданный подал мне прошение на греческого подданного. Я воспользовался читанным мною в разных Guides Consulaires[3 - Консульских путеводителях (фр.)] и т. п. и сказал драгоману нашему Э. С:
– Что же, надо нам смешанную судебную комиссию назначить?
Лукавый Э. С. несколько времени молча смотрел на меня и потом, радостно улыбаясь, сказал: «как прикажете!..»
– Чему же вы улыбаетесь так выразительно? – спросил я, немного смущаясь в сердце.
Объяснив, что надо препроводить бумагу истца в консульство ответчика и что не мне в этом случае, а греческому консулу надо решать, Э. С. прибавил:
– Это еще раз мне доказывает, как я прав, когда глядя на русских консулов, думаю, что Россия посылает их вовсе не для таких пустяков, как все эти тяжбы наших лавочников и судебные комиссии. Я не видал еще ни одного русского, который бы приехал сюда знакомый с торговыми и тяжебными делами Востока; но зато ни англичане, ни французы, ни австрийцы не могут сравниться с русскими чиновниками в серьезных вопросах высшей политики… Выучиться этим мелочам недолго и ошибиться в них не беда. Но надо, чтобы слава нашего флага гремела, вот цель… И она гремит. У нас старые люди сравнивают Россию с черепахой. Черепаха хочет напиться в ручье и идет к нему тихо. Вдруг слышит – топочут лошади, кричат люди у ручья… Она сейчас и голову и ноги спрятала; она уже не хочет пить. Утих шум, черепаха опять приближается… И она все-таки выберет час свой и дойдет до ручья. Ручей – это, понимаете, Босфор. А шумят европейцы. Вот что нужно… и Россия таких консулов посылает, какие для этого нужны. А не для пустяков.
– Не знаю, – отвечал я, – в народе нашем есть какие-то смутные чувства чего-то подобного; но могу вас уверить, что правительство наше не имеет видов на Константинополь.
– Конечно, – возразил Э. С, – вы обязаны так говорить. Это дипломатия, потому что у ручья все еще шумит Европа.
– Нет, право, – продолжал я, – говорю вам искренно. Мне-то самому, признаюсь вам, очень нравится ваша басня о черепахе этой. Только я совершенную правду говорю вам, что правительство наше об этом не думает. По крайней мере, я не слыхал.
– И это дипломатия хорошая, что вы так просто и так искренно говорите… И черепаха дойдет до ручья непременно!..
Я засмеялся и больше не спорил… На Востоке невозможно, по крайней мере, было невозможно в то время ни друзей, ни врагов наших разубедить в том, что главная цель всей политики нашей есть завладение Царьградом. Надо помнить это; надо помнить, что как бы мы ни были бескорыстны, никто нашему бескорыстию не поверит и все будут действовать против нас, как будто бы наши только подозреваемые замыслы доказаны были, как несомненный факт. О мудрости и дальновидности нашей политики составилось везде такое выгодное понятие по примерам прежнего, что никто и не может верить, будто бы мы в самом деле наивны, будто бы мы слишком уж простодушно дорожим общественным мнением Запада и т. п…
VI[4 - Глава V этих воспоминаний была выделена автором и помещена в сборник «Восток, Россия и славянство»]
Я сказал, что положение Адрианопольского консульства было без прибавления блестящее, когда я приехал им управлять в конце 1864 года. Мне предшествовали один за другим замечательные консулы: Ступин, Шишкин и Золотарев. Ступин и Золотарев уже умерли оба, а г. Шишкин теперь посланником в Соединенных Штатах.
Они все трое были очень влиятельные и способные люди, но вовсе не были похожи друг на друга ни воспитанием, ни характером, ни родом памяти, которую они оставили в стране. Гг. Шишкин и Золотарев были люди светские, молодые, с хорошими средствами, благовоспитанные, приспособленные уже для настоящей дипломатической службы при посольствах и с широкою дорогой впереди. Ступин был человек небогатый, семейный, довольно грубый, пожалуй, и даже видом своим походил гораздо менее на дипломата, чем на храброго и сурового армейского полковника.
Бледный и сухой, но крепкий с виду, белокурый, с одними усами без бороды, взгляд строгий и покойный… Я его видел в Петербурге. Он тогда был не то чтобы в опале, а как бы под следствием; его влияние и неслыханная популярность возбудили против него целую коалицию иностранцев, и наше тогдашнее посольство, поддавшись их внушениям, удалило Ступина временно из Адрианополя. Ступин поехал в Петербург и оправдался. Это было именно в то время, когда я только что поступил на службу в Петербурге. Об истории его говорили в министерстве, но так, как обо всем говорят в Петербурге, мимоходом, пусто, легко и с шуточками.
Иначе относились к этому делу христиане во Фракии: там смотрели на Россию, на чиновников русских, на слуг русского царя серьезно, говорили о них скорее уже с трагическим или эпическим оттенком, чем с комическим.
Наше юмористическое балагурство, наше легкомыслие в разговорах о государственных делах и государственных деятелях там неизвестно. На Востоке совсем не тому и не над тем смеются, над чем смеются у нас. Остроумия там мало; остроты и насмешки там не забавны, не остры; это, конечно, иногда очень скучно в общественной жизни; но есть, однако, в этом недостатке и прекрасная сторона, – некоторая простота и серьезность взгляда на государственные отношения, на службу казенную и тому подобные предметы. Там, например, постичь не могли бы, как это можно так подтрунивать над чинами и орденами, как делают у нас именно те, которые ими украшены. Еcли кто-нибудь и окажется там в этом отношении настолько искренним приверженцем равенства, что ордена и чины ему нежелательны и неприятны как выражения монархизма, то он будет чувствовать к ним враждебное чувство серьезного характера, то никакое шпыняние 1а Щедрин чиновников с их знаками отличия на Востоке и в голову не придет. В этом отношении большинство восточных христиан больше сходно с нашими прежними дворянами, которые гордились своею службой, заслугами, орденами, которые готовы были, как говорили у нас насмешники, «спать в орденах», а не стыдились их и не подтрунивали над ними, как делают у нас теперь.
Прибавлю еще, что в Адрианополе в то время все самые влиятельные лица города были люди самого охранительного направления, – как болгары, так и греки, – и все более или менее русской партии. Понятное дело, каким восторженным тоном они говорили о Ступине, которого боялись не только турки, но и местные консулы из католиков, все эти богатые и бесчисленные Бадетти и несметные Вернацца, которыми кишел православно-турецкий город (об этих Бадетти и Вернацца я поговорю после подробнее).
Le grand consul![5 - Великий консул (фр.)]Омегас проксенос! Так звали христиане Ступина.
Радость была велика, когда узнали, что Ступин оправдался в Петербурге, что его повысили, назначили генеральным консулом в Тавризе (в Персии) и пожаловали даже ему землю в одной из отдаленных губерний наших (в аренду или собственность – не знаю). Рассказывали с гордостью, будто бы сам князь Горчаков по поводу обвинений, взводимых на Ступина, выразился так: «Я никогда не поверю, чтобы русский консул делал все то, в чем его обвиняют. Все это клевета!» При этом с тонкою таинственностью во взгляде восточные люди прибавляли одобрительно: «Не хочет дядя Горчаков верить!»