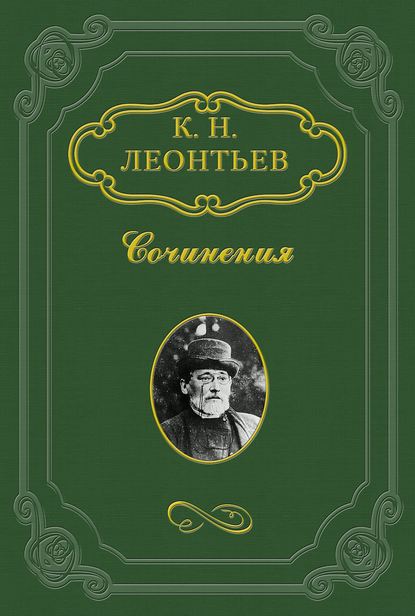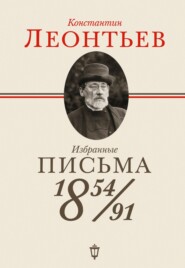По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Египетский голубь
Год написания книги
1881
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я сколько раз просил вас о Михалаки при мне худо не говорить, – воскликнул он, – не только вы, но и я без него здесь бы ничего не значил. Нельзя…
Спор наш был прерван слугой, который позвал нас обедать; у дверей столовой мы встретились с Михалаки. Он вошел в нее вслед за нами и остался обедать. Лицо его сияло.
– Eh bien? – спросил его консул.
– Eh bien, – повторил драгоман самодовольно и весело, – des succ?s, des succ?s et encore des succ?s!..
– Говорите, говорите…
– Антониади рад, Москов-Самуил рад. Пропаганде новый удар; десятого гостя для пустого места нашел… С чего начать прикажете мой отчет?
– С гостя, с десятого гостя! – весело закричал консул.
– Осман-паша из города Эноса приехал за инструкциями к Вали-паше. Un bon Turc, un vrai Turc! старый, такой, каких нам нужно. Ничего не понимает. Калос Христианос, как мы здесь говорим; я уже велел стороной предупредить его, чтобы не уезжал; извините, я позволил себе сказать, что вы завтра сделаете ему визит.
– Непременно, непременно! благодарю вас… Какой вы молодец, monsieur Михалаки, вы все умеете сделать. Ну дальше что?
– Теперь о пропаганде. На днях пришел ко мне Куру-Кафа[17 - Очень известный в свое время вождь болгар-униатов, возвратившийся потом в Православие. Простой лавочник, но очень способный.]. Я пока молчал об этом. В этом деле было нечто щекотливое, и потому я молчал и предпочел принять все на себя. Приходит ко мне Куру-Кафа и говорит: «Есть еще у нас в Киречь-Хане несколько униатских семейств. Они хоронили своих покойников в одном пустом месте, на котором был прежде, давно, виноградник одного грека. Я задумал искоренить все это и предложил этому человеку обратиться в Порту с прошением, чтобы кости этих болгар приказали перенести, куда хотят. Земля его. Народ у нас, вы знаете, простой, скажут: нет, мы в самом деле верно согрешили, что стали униатами, вот и кости наших родителей повыкидали! И перейдут все опять в Православие». Это Куру-Кафа мне все говорит и просит доложить вам.
– Что же вы ему на это сказали? – спросил Богатырев.
Михалаки придал своему лицу особого рода серьезный оттенок, который был нам уже очень хорошо известен. Оттенок этот означал: «теперь я притворяюсь. Поймите это!» И мы понимали.
– Я сказал Куру-Кафе (продолжал Канкелларио невинно), что консулу докладывать об этом боюсь, что русские не то, что здешние люди. Они очень все религиозны и сочтут такое дело за поругание святыни… А надо как-нибудь иначе. Что ж, конечно, хозяин виноградника, одно слово «хозяин», имеет право! Мешать этому нельзя.
– Ну и что ж?
– Кости выкинули, и униаты были у митрополита и покаялись: возвратились в Православие. Только неприятно то, что отцов этих семейств посадили теперь турки в тюрьму. Пропаганда платила за них подати, и польские священники имеют от них расписки, как всегда. Их представили, и этот толстый Ариф-каймакам-паша посадил их в тюрьму. Надо их выкупить. Мы с доктором Чобан-оглу немного собрали. Но надо еще. Я уверен, что это все интриги Виллартона; он очень сближается с Арифом и действует даже в пользу католиков, чтобы только повредить Православию и нам.
– Вот видите! – воскликнул Богатырев, обращаясь ко мне. – Разве можно его щадить!.. Мы завтра же выкупим этих болгар. Дайте знать им туда, чтоб они были покойны. Я сам поеду к митрополиту и к паше. А сколько нужно еще денег?
– Не так много, – отвечал Канкелларио, – пять-шесть лир, не более.
Богатырев тотчас же достал свой портмоне и положил 1 золото пред торжествующим драгоманом.
После этого Михалаки приступил к отчету о своих свиданиях с Антониади и Москов-Самуилом.
– Самуил, бедный, очень рад. Он в восхищении от мысли, что у него будет золотая медаль, тогда как даже у меня серебряная. Антониади тоже, кажется, доволен. Впрочем, о службе у Виллартона или у Остеррейхера я ему ничего не говорил. Я не был на то уполномочен.
Богатырев заметил, что этим уже я занялся и что с одной стороны мы, кажется, обеспечены. Потом он рассказал ему о записке и об огорчении английского консула, и мне опять стало жаль Виллартона и стало досадно, зачем это Богатырев предает уже до такой степени этого джентльмена на поругание… И кому же! Этому злому хаму?
Михалаки слушал с умилением и потом, обратясь ко мне, воскликнул:
– Des succ?s! Partout des succ?s?! N'est ce pas, monsieur Ladnew? Я издали увидал вас, как вы поворачивали в Кастро, и тогда же подумал: Антониади наш!.. И там, вероятно, был успех…
Рассуждая теперь, через столько лет, я думаю, что слова Михалаки были очень просты и что в них не было ни малейшего яду; но тогда, под влиянием других впечатлений, я прочел в них какую-то фамильярность, какое-то поползновение на что-то, которое меня несколько раздражило.
Я пожал только слегка плечами и молчал.
– Как! – с удивлением спросил Михалаки, – вы не находите, что у нас во всем теперь успех и беспрестанные, хотя и небольшие, но очень важные по своим последствиям, победы?
Мне захотелось сказать ему что-нибудь неприятное. Я всегда удивлялся, как это может Богатырев так тесно и неразрывно сливать в поведении своем свои политические сочувствия с личными: про ненавистного Михалаки он даже и мне, даже с глазу на глаз не давал сказать ничего худого; а к Виллартону, лично столь приятному и доброму, он был беспощаден; я до сих пор не знаю, чему приписать это, крайней ли жестокости сердца и фальшивости Богатырева или чему-нибудь лучшему, иному – не знаю.
Я, разумеется, понимал, что действовать по службе надо в тесном союзе с Михалаки против Виллартона; но зачем же быть точно как бы в самом деле искренним в своей дружбе к политическому союзнику и в отвращении к политическому врагу? Мне казалась такая односторонность всегда чем-то лишним и чуть не глупым.
И на этот раз мне захотелось отравить хоть немного радость нашего гадкого союзника, и на второй его вопрос я отвечал так:
– Я согласен, что удач много; но я нахожу, что ругаться над могилами униатов все-таки не следовало. Уж лучше просто бы пообещать, что заплатят за них подати, Как можно принимать на себя такую ужасную ответственность из-за таких пустяков. Если бы здешние приматы, как болгары, так и греки, претендующие на образованность, имели более искренности в религиозном чувстве своем и не делали бы тайком всяких мерзостей, не обманывали бы народ, так не нужно было бы прибегать ни к каким «sacril?ges»… A то какой-нибудь архонт православный ест дома постное для детей и прислуги и потом тихонько бежит в локанду и жрет там мясо (Михалаки это делал). Нет, это не только ужасно, это низко и мелко!.. И народ не обманешь… Он остается верен своей святыне, но в вождей своих он утрачивает веру, и прямые пути обращения и проповеди теряют свою силу.
Я попал метко… Михалаки покраснел и смутился; он отвечал довольно мягко:
– Меня это удивляет в вас, – сказал он. – Конечно, я из деликатности должен был простому лавочнику болгарину Куру-Кафе упомянуть о религиозности русских; но позвольте… Разве monsieur Ладнев, человек столь начитанный и ученый… философ, можно сказать, – разве он может верить, что есть душа? Что такое эта душа?
Я засмеялся и возразил:
– Один русский писатель… Вы ведь здесь русских писателей не знаете… Он описывает, что у его отца был крепостной лакей, которого посылали учиться фельдшерскому искусству. Он заболел, и когда отец писателя предложил ему причаститься, то он отвечал, что не может, потому что учился анатомии и знает, что души нет! Теперь и я вам то же скажу, что и вы мне: как это вы, господин Михалаки, человек умный, не стыдитесь говорить то же, что этот слуга?
Это уже было слишком! Глаза Михалаки засверкали яростью: он побледнел теперь и взволнованным голосом возразил совершенный вздор:
– Бывают разные философии, но мы здесь люди практические и без них обходимся!
Богатырев был, видимо, ужасно недоволен мною за это. Он так дорожил своим незаменимым драгоманом! Он молча и нахмурившись ел, пока мы говорили, и потом, возвысив тон, почти до повелительности, обратился ко мне по-русски (Михалаки по-русски не знал):
– Вы бы уж оставили это… Всякий имеет право верить или не верить, как хочет…
– Оставил, оставил, – сказал я, улыбаясь. – Довольно с вас и этого.
– Напрасно, напрасно! – прошептал Богатырев очень тихо и опять замолчал.
Обед наш, начавшийся так весело, кончился мрачно… Никому говорить не хотелось. После обеда Михалаки ушел к себе, поклонившись мне очень почтительно, но издали; я спросил у консула, отправил ли он ко мне на дом те бумаги, которые он приказывал давеча мне переписать к завтрашнему курьеру.
– Отправил, – глухим басом, чуть слышно и вовсе не глядя на меня, отвечал Богатырев.
Я ушел к себе домой, говоря про себя: много случилось сегодня такого, о чем надо подумать!
XX
Как я был рад вернуться домой! С утра я был все с людьми, и мне было так приятно сосредоточиться и отдать самому себе медленный и внимательный отчет во всех моих впечатлениях за этот оживленный день. Я велел зажечь лампы и затопить обе чугунные печки в приемной с диваном кругом стен и на узкой галерее, которая служит залой. Лампы засветились; печи запылали тотчас; добрый старик Христо и оба юноши мои Велико и Яни с особою радостью и усердием, как будто они целый месяц меня не видали, спешили исполнить мои приказания. Они все улыбались мне, смотрели мне в глаза. Яни даже заговорил со мной первый; затапливая печку, он приподнялся немного и, опираясь одною рукой на пол, взглянул на меня ласково и спросил:
– Что это вас целый день не было дома? Мы без вас соскучились…
– Дела, Яни, разные дела, – сказал я.
– Дела! – повторил Яни, качая головой. – А вот для нашего молодца, для Велико, – продолжал он, – дела не хороши!
– Чем? что такое? – спросил я с нетерпением (мне так хотелось, чтоб они все поскорее ушли!)
– Один лях офицер (такой здоровый!) нанял себе дом на углу против нас. Теперь, я говорю, Велико, совсем к нашим воротам не подходи: увидят тебя, и эффенди нашему будут неприятности.