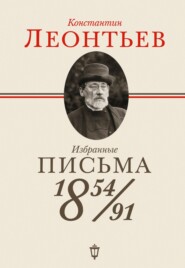По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Одиссей Полихрониадес
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И не было, скажу я вам, у христиан тогда ни друзей, ни заступников. Жили и торговали тогда в Адрианополе некоторые богатые франки (их много и теперь); но и они не любили и не жалели нас, и когда привлекаемые воплями христиан жены и дети этих франков бежали к окнам со страхом, отцы-франки успокаивали их, говоря с равнодушием: «Это ничего. Греков режут!» И жены их возвращались спокойно к своим домашним трудам, и дети франков предавались обычным играм, господин Несториди! Тогда-то блаженной памяти император Николай Всероссийский решился двинуть войска свои на султана (продолжал старик, одушевляясь и вставая). – Да успокоит Господь Бог в жилище присноблаженных его высокую и могучую душу!.. Тогда!.. Слушайте!.. Смотрите, Адрианополь стоит северною частью своей на высотах… За высотами этими широкая равнина, и течет извиваясь Тунджа, небольшая река… Смотрите, и теперь все так же. Вот здесь, направо, большие деревья Эски-Сарая. Две древние башни у реки, стена высокая, а за ней старый дворец султанов. А тут налево, подальше, большая казарма для солдат, давнишняя казарма, и за казармой этой поле и холмы. Никто не ждал русских в нашей стороне. Турки не спешили укреплять город, и войска в казармах было мало. Под Шумлой, все знали, стоял корпус турецкий в 60.000 человек; надо было одолеть его, чтоб идти дальше. Иначе судил Божий промысл. Не спешили турки; однако велел паша весь народ сгонять за город, чтобы копать окопы. Себе приказал поставить шатер поблизости и приезжал глядеть на работу. По его приказанию приезжал и митрополит благословлять христиан и возбуждать их усердие. Работали христиане усердно от страха… Вот, однажды, – друзья мои, слушайте… однажды утром рано, день был светлый, вышли мы к Эски-Сараю; вышел и я. Стоял около меня с лопатой один старик-христианин и смотрел долго вдаль. «Гляди!», – сказал он им. – Я взглянул налево… О, Боже мой! Черная пыль поднималась вдали за Тунджей. Больше все, больше. Смотрю, уже и сверкнуло там и сям что-то на солнце… Старик побледнел; задрожал и я… Хочу сказать слово ему, и руки дрожат, и ноги слабеют, и голоса нет у меня, несчастного! Старик положил лопату и сказал мне: «Пойдем к деспоту». «Деспот мой! – говорит он митрополиту, – клянусь тебе хлебом моим и душой моей матери, что пришли к нам русские…» Как огонь стал митрополит наш, спешит к шатру паши и говорит ему: «Паша, господин мой! Позволь мне потревожить тебя… Все мы в опасности нынче, райя султанские, от злых московов; что? за войско, паша господин, идет сюда с северной стороны?» Вышел паша из шатра своего… Глядит… Что? глядеть… Уже казаки с пиками едут, красуясь, по холмам и дороге… А пыль черная все гуще и ближе… И вот раздались крики, и безоружные солдаты турецкие в испуге стали выбегать из ворот и кидаться из окон казармы и спасаться в город. Один миг, – и вся толпа наша огромная побежала туда же. Паша сам скакал верхом, и слуги его, и офицеры в ужасе, не разбирая, попирали народ. Турки, христиане, евреи, старцы и дети, – все бежали в город вместе. И я бежал. Да, Несториди, страшно было тогда и туркам и нам… Нам отчего? ты спросишь. А оттого нам было страшно, что страх и трепет был нам привычен, как хлеб насущный, и не умели мы верить тогда, что есть на свете сила сильнее грозной и безжалостной силы наших тиранов. Вот отчего я и говорю: «Да помянет Господь Бог в жилище присноблаженных державную душу императора Николая!» Не видали вы, как видели мы, крови отцовской, не слыхали вы воплей родительских, не знаете вы теперь, вы, которые смолоду жили в Афинах, настоящего страха турецкого, господин Несториди, и не пустила в гордые сердца ваши благодарность глубокие корни.
И садился старик, отдыхал немного. И Несториди молчал, слушал доброго старика. И не мешал ему отдыхать.
Потом старик Стилов начинал опять свой рассказ, и по мере того, как изображал он торжество русских, светлело лицо его, и речь его становилась все веселее и теплее.
– И вот, эффенди мой, вступили русские войска. Внутри города и до сей поры целы бесполезные ныне и старые стены крепости; и теперь этот центр зовется «Кастро», и живут в нем христиане и евреи. Улицы там узки и дома высоки. По этим улицам, по двое в ряд, стояла кавалерия до самой митрополии. Уланы на рыжих конях. Архистратиг императорский, граф Дибич-Забалканский, хотя и был протестант (как с сокрушением сердца и с удивлением не малым узнали мы все позднее), однако присутствовал сам, во множестве царских крестов и всяких отличий, на торжественном богослужении в митрополии нашей и соизволил исполнить все приличия и обряды, свойственные православию: целовал он руку деспота нашего и прикладывался ко святым иконам. И это ему сделало у нас в народе великую честь. Дивились люди наши только его безобразию и неважному виду. Митрополит наш был вне себя от восторга, и когда мы к нему накануне пришли и сказал ему один из архонтов: «Добрый день, святой отче!» – «Что? ты! – воскликнул епископ. – Что? ты? Так ли ты знаменуешь великую зарю нашей свободы!.. Христос воскресе! скажи… Христос воскресе!» и со слезами поднял он руки к небу, повторяя: «Христос воскресе!» И мы все ему вторили: «Воистину, воистину воскресе, отче святый, хорошо ты сказал! Воистину Господь наш воскресе! И православию ныне праздник из праздников и торжество из торжеств!»
Долго стояли у нас русские. Христиане все ободрились. Женщины стали выходить смелее на улицу; люди наши начали ходить туда, куда и в помыслах прежде хаживать не осмеливались. Около предместья Ени?-Маре?т не смели, бывало, проходить христиане; турки их крепко бивали за это. Почему? И сам я не знаю. Стали при Дибиче и туда дерзать. Иные грозили местью туркам. Глядеть глазами иначе начали, руками стали больше махать. Я и сам стал, по молодости моей тогдашней, ощущать иные чувства в сердце моем и проходил мимо турецких домов, по-моему неразумию детскому, с такою дерзновенною гордостью, как будто бы я сам перешел Балканские горы и завоевал всю Фракию у султана. А после, когда ушли благодетели наши, перестал и я тотчас же руками махать и сложил их почтительно под сердцем, и полы опять стал смиренно запахивать, и очи опустил поприличнее до?лу… Да, недолго продолжался наш первый пир. Начал Дибич с того, что успокоил всячески испуганных турок, приставил стражу к мечетям, дабы никто из нас или из русских не смел тревожить турок в богослужении и в святыне их; повелел всем нам объявить, что всякое посягательство на мусульман, и месть наша всякая, и обида им будет наказана строго. И, посетив митрополита, он в присутствии старшин так объявил ему: «Государь император мой не имеет намерения ни удержать за собой эти страны, ни освобождать их из-под власти султана. Цель наша была лишь дать понятие туркам о могуществе нашем, принудить их исполнять строже обещанное и облегчить вашу участь. Не враждуйте теперь с турками, не озлобляйте их против себя, вам с ними опять жить придется; старайтесь, чтоб у них добрая память осталась за время моего присутствия о вашей умеренности. Мы уйдем – это неизбежно, но будьте покойны! Отныне участь ваша будет облегчена». Так говорил архистратиг российский, и митрополит, и старшины слушали его в ужасе и грусти за будущее. Однако, Дибич правду сказал: «отныне участь ваша будет облегчена». Да, Несториди, с тех пор каждый турок фракийский понял, что есть на свете великая православная сила, и наше иго с тех пор стало все легче и легче.
Такие рассказы старика Стилова я слушал с восторгом. И зимой по длинным вечерам еще охотнее, чем летом в тени родимого платана.
В доме у нас есть зимняя комната с большим очагом. Это моя любимая комната, и я недавно велел обновить ее по-старому, так, как она была прежде. Она не очень велика; по обеим сторонам очага стоят низкие, широкия, очень широкия две софы во всю длину стены и покрыты они тою яркою пурпуровою шерстяною и прочною тканью, которую ткут в Болгарии и Эпире для диванов нарочно. Стены этой комнаты простые белые и чистые, пречистые, как всегда в нашем доме они бывают; а против очага дула?пы[15 - Шкапы в стенах; когда они хорошо расписаны или покрыты искусною резьбой, то они очень украшают комнату.] в стене, и решеточки, и полки по стене узенькие во всю комнату кругом, и окна, и двери, все окрашено зелеными полосами и трехугольниками, и еще такого цвета, какого бывают весенние маленькие цветки, в тени благоухающие, по-турецки «зюмбюль».
Вот в этой комнате была у нас как будто бы сама Россия! Лампада в углу теплилась пред золотыми и прекрасными русскими иконами; была одна из этих икон Божия Матерь Иверская, дивный, божественный лик! Новой живописи московской, но по древним образцам; лик, исполненный особой кротости и необычайно красивый; за золотым венцом её был укреплен другой венец из ярких роз самой восхитительной работы, какая-то особая пушистая зелень, как бархат нежная, и на цветах сияли капли искусственной росы. Теперь венок этот снят от ветхости, но мне было неприятно знать, что Божия Матерь наша без него, и я послал недавно отсюда новый венок такой же на её святое чело.
На белых стенах этой комнаты висели картины. Портрет государя Николая I и его ныне столь славно царствующего сына. Оба, ты знаешь, что? за молодцы на вид и что? за красавцы!
На картинках других ты видишь коронацию Александра II в Москве, его шествие с царицей в митрополию Кремля с державой и скипетром, видишь победу при Баш-Кадык-Ларе и взятие турецкого лагеря еще при князе Паскевиче-Эриванском. Турки одеты тогда были иначе: в высоких и узких шапках убегает их кавалерия стремглав, напирая друг на друга сквозь теснину, а русские с обнаженными саблями мчатся на них. Посреди картины молодой казак хватает за грудь рукой самого пашу, у которого на красивом мужественном лице изображена прекрасно смесь испуга и решимости. Он думает еще защищаться, старый янычар не хочет отдаться легко; он спешит выхватить пистолет из-за пояса. Но… ты уже понимаешь, что это тщетно! Он пленник, и его отвезут на смиренное поклонение Царю в Петербург.
Не была забыта у нас и Эллада! О, не думай ты этого. В нашем доме увенчаны были цветами любви нашей обе дщери эти великой православной матери нашей, церкви восточной, и старая дщерь, полная северной мощи, и юная наша Греция, которая любуется на себя в голубые волны южных морей и цветет, разнообразно красуясь на тысяче зеленых островов, над мирными и веселыми заливами, на крутизнах суровых и бесплодных вершин.
В нашем доме, в сердцах наших, не разделяясь враждебно, цвели тогда любовью нашей эти прекрасные обе ветви.
Победы блестящего князя Паскевича не затмевали подвигов нашего великого и простого моряка Кана?риса, и царь Николай взирал, казалось мне, с сожалением и благосклонностью, как на другой стене умирал у нас Марко Боцарис в арнаутской одежде, склонясь на руки своей верной дружины.
Вот в этой родительской и старой комнате, в ней самой и отец мой лежал больной когда-то и полюбил впервые мою мать. Зимой, темным вечером, когда ветер шумел в долине, или падал снег в горах, или лился скучный дождь, мы зажигали приветный и широкий очаг наш, и отцовские друзья приходили одни или с женами и вели у очага долгую беседу. Мать моя и старая Евге?нко пряли и вязали чулки и молча слушали мужчин.
Слушал и я старика Стилова с восторгом, и раннюю жизнь сердца, мой добрый афинский друг, поверь мне, не заменит ничто, и никакой силе лживого разума не вырвать с корнем того, что? посеяно было рано на нежную душу отрока.
VI.
Я уверяю тебя, что и Эллада не могла быть забыта у нас.
Забыть Элладу! Возможно ли было забыть ее, когда на нас так грозно и умно глядел из-под густых бровей наш патриот Несториди?
Как я боялся сначала и как после любил и почитал этого человека!
И он с каждым годом, с каждым шагом моим на пути первых познаний становился все благосклоннее и благосклоннее ко мне, отдавая справедливость моим способностям и прилежанию.
Позднее еще, когда в Янине у меня открылся небольшой поэтический дар, Несториди первый ободрил меня и не раз тогда проводил он со мною целые часы в дружеской беседе, прочитывал мне отрывки из древних поэтов и объяснял мне все неисчерпаемое богатство нашего царственного языка, который пережил такое дивное разнообразие событий, подчинялся стольким чуждым влияниям и возносился всякий раз над всеми этими влияниями, овладевая вполне духом века и присвоивая его себе.
Несториди был наш загорец из небогатой семьи; отец его, почти столетний старец, и теперь еще живет, бродя кой-как с палочкой и греясь на солнце в дальнем селении Врадетто, которое стоит на неприступных каменных высотах, у берегов горного, холодного и безрыбного озера.
Несториди в детстве пас овец и часто спал, завернувшись в бурку, под открытым небом. Потом отец взял его домой и обучил немного грамоте. Проезжал тогда через Врадетто один богач загорец из Молдо-Валахии. Остановился отдохнуть и вышел под вечер прогуляться с друзьями. На небольшой полянке он увидел толпу играющих детей. Играли они в игру, которая зовется у нас клуцо?-скуфица[16 - Бросаю шапочку.].
Дети становятся в круг; один снимает с себя бумажный или валеный колпачок или феску, и все на лету должны успеть ударить ее ногой так, чтоб она дальше и дальше летела.
Богатый загорец сел на траву и любовался. Он лет двадцать уже не был на родине и не мог вдоволь насытиться радостью, глядя на веселье и крики загорских детей.
Сын старика Нестора превосходил всех других мальчиков красотой, энергией и ловкостью. Смуглый, курчавый, румяный и стройный, в бедной куцо-влашской одежде, в синих шальварчиках, в белом валеном колпачке, этот мальчик прыгал как олень молодой, глаза его сияли; он ни разу не промахнулся, и быстрые движения его были так сильны, что иные товарищи его падали на землю, когда он и нечаянно отталкивал их.
– Какой паликар и что? за бравый мошенник! – говорил про него купец.
Священник сказал, что он к науке способен.
Потом, когда проезжий спросил у детей, кому из них дать в подарок деньги для всех и кто из них разделит эти деньги честнее, дети все в один голос избрали маленького Несториди.
Тогда купец сказал: «Он и паликар, он и мошенник, он же и честный! Человеком будет!» И предложил отцу отвезти его в янинское училище и устроить его там на общественный счет.
Отец с радостью согласился, и Несториди уехал с своим благодетелем сперва в Янину, а потом в Афины.
Тотчас по приезде нашем с Дуная я подружился с маленькими дочерьми учителя и очень любил бывать в их скромном и чистом жилище. Оно и недалеко было от нашего дома.
Жена его, кира-Мария, была еще молодая, кроткая, смирная, белокурая, «голубая», как говорят иногда у нас, но не слишком красивая. Он очень ее любил, но принимал с ней почти всегда суровый вид. Она знала, что он ее любит, и была покорна и почтительна. В семейном быту он был древний человек и не любил свободы. «Я деспот дома! В семье я хочу быть гордым аристократом!» восклицал он нередко и сам.
Жена стояла перед ним до тех пор, пока он не говорил ей: «Сядь, Мария!» Она ему служила, подавала сама гостям варенье и кофе; сама готовила кушанье, сама успевала дом и дворик подмести.
И дочерей своих, и нас, учеников, Несториди за шалости и лень бил крепко иногда и замечал при этом, что «палка из рая вышла. Но надо бить без гнева и обдуманно, ибо в гневе побои могут быть и несправедливы и ужасны».
Жена, впрочем, своими просьбами нередко умела смягчать его. У неё было много сладких и ласкательных слов.
– Учитель ты мой любезный! – говорила она ему, складывая пред ним руки. – Очи ты мои, золотой мой учитель, кузум-даскала! барашек ты мой! Отпусти ты это дитя домой не бивши. Я, твоя жена, прошу тебя об этом. Жалко мне, прежалко видеть эти детские слезы.
И он уступал ей.
Сам Несториди одевался хотя и бедно, но по-европейски и носил шляпу, а не феску, потому что был греческий подданный, а не турецкий. Но жене не позволял менять старинного платья, и она покрывалась всегда платочком и носила сверх платья толстую нашу загорскую абу без рукавов.
Кира-Мария, бедная, не родила ему ни одного сына. Несториди жаловался на это и был прав, потому что в Эпире без хорошего приданого очень трудно выдавать дочерей.
Мать моя однажды спросила у него:
– Здорова ли супруга ваша кира-Мария?
Несториди с досадой ответил:
– Что? ей делается! Собирается новую девчонку родить!
– А может быть и сына? – сказала мать.
– Куда ей сына родить!
Был тут и доктор Стилов, старик, он ласково сказал Несториди:
– Это все оттого, что вы, господин Несториди, очень страстный эрос к молодой супруге питаете. Сила чувства на вашей стороне, оттого женский пол и родится. Это и наукой замечено нашей.
Несториди покраснел и сказал сердито:
– Если это истинною наукой открыто, – иной разговор, а если вашею наукой загорских врачей, которых университет тут недалеко в пещере воздвигнут, так уж позволь мне не верить этому открытию[17 - Загоры, между прочим, славились прежде своими врачами-эмпириками. Они продолжают и теперь лечить в Турции. Есть между ними, конечно, и способные люди, полезные своим опытом. Над загорскими докторами смеются, утверждая, что они обучались в большой пещере, в Загорском университете.].