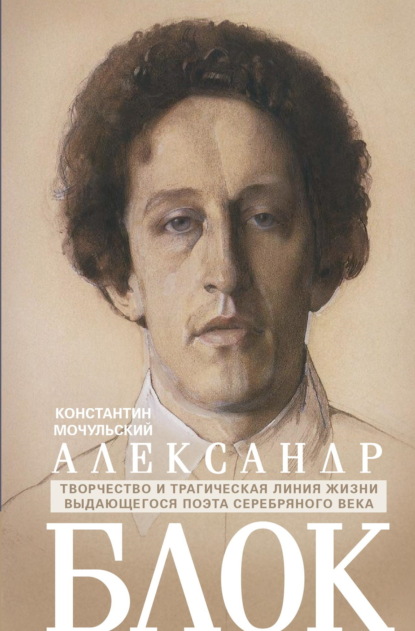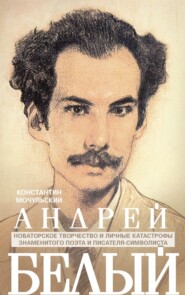По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Александр Блок
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Александр Блок
Константин Васильевич Мочульский
Книга литературоведа Константина Васильевича Мочульского посвящена жизни и творчеству одного из крупнейших представителей русского символизма Александра Блока. Автор прослеживает жизненный путь поэта с детских лет до последних дней жизни, рассказывает о его творческой деятельности, анализирует произведения, уделяя особое внимание проблемам философского содержания творчества А. Блока.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Константин Мочульский
Александр Блок
О, я хочу безумно жить:
Всё сущее – увековечить,
Безличное – вочеловечить,
Несбывшееся – воплотить!
Пусть душит жизни сон тяжелый,
Пусть задыхаюсь в этом сне, —
Быть может, юноша веселый
В грядущем скажет обо мне:
Простим угрюмство – разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь – дитя добра и света,
Он весь – свободы торжество!
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2024
© «Центрполиграф», 2024
Об авторе книги
Константин Васильевич Мочульский родился в Одессе 28 января 1892 года. Он был старшим сыном в семье. Мать его, Анна Константиновна, урожденная Попович, была греческого происхождения. Вероятно, это обстоятельство давало Мочульскому повод подчеркивать, что он – человек средиземноморской цивилизации. Говорилось это полушутя, но, несомненно, такое утверждение соответствовало некоторому внутреннему ощущению; было в нем тяготение к ясности, к равновесию, к аполлиническому восприятию мира; путешествуя в странах, где всего явственнее чувствуется наследие классической культуры – по югу Франции, по Италии, Сицилии, – он с какой-то особенной радостью впитывал в себя и блеск южного солнца, и впечатления от художественных богатств, уцелевших от Античного мира. Что эта тенденция была не единственной в духовном складе Мочульского, что параллельно с нею в нем заложено было и другое начало, начало мистически-религиозного отношения к миру, – в этом сомневаться не приходится. Крайняя впечатлительность, очень рано в нем сказавшаяся, не могла оставить его равнодушным к религии, обряды которой строго соблюдались в доме его родителей. Но на первых порах едва ли эти впечатления имели решающее влияние. Им суждено было сказаться – зато с какой силой! – лишь много позднее.
Учился Константин Васильевич отлично. Ребенок несколько болезненный, он держался вдалеке от шумных игр, увлекался поэзией и театром. В 1910 году он окончил курс второй одесской гимназии и поступил на филологический факультет Санкт-Петербургского университета, по романогерманскому отделению. Здесь он очень быстро выделился своими исключительными способностями и серьезностью своих интересов, предопределявшими, как тогда казалось, его жизненный путь: блестящая учено-университетская карьера могла считаться ему обеспеченной. Она, впрочем, соответствовала и семейной традиции: отец его был профессором Новороссийского университета, где занимал кафедру русской словесности. Одновременно, однако, живой интерес к текущей литературе сблизил Мочульского с кругом молодых писателей, среди которых острота его художественного восприятия и личное обаяние привлекли к нему немало друзей.
По окончании курса Мочульский оставлен был при университете. Предметом его занятий была история романских литератур. Уже после революции, в 1918 году, он был назначен приват-доцентом в Саратовский университет, но события помешали ему туда отправиться, и первые лекции с университетской кафедры ему суждено было читать в родной Одессе, в стенах Новороссийского университета. Однако судьбе неугодно было дать ему пойти по тому пути, который с такой естественностью перед ним открывался. В 1919 году, вовлеченный в общий беженский поток, он покидает Россию. В течение двух лет он читает лекции в Софийском университете, и притом с немалым успехом. Но рок эмиграции неумолим: «Из края в край, из града в град»… В 1922 году Мочульский уже в Париже. И здесь он еще не решается расстаться с мыслью об академической карьере. В составе русского отдела, который образован был при Сорбонне и объединял многих русских ученых, оказавшихся во Франции, он объявляет курс лекций – уже по русской литературе, в рамках задания и программы отдела. И здесь у него – полная аудитория, и курс свой он читает из года в год, переходя от одного писателя к другому. Но самый русский отдел постепенно хиреет, и деятельность его замирает. Скоро приходится признать очевидность: университетским ученым Мочульскому не стать.
Если еще в студенческие годы Мочульский, наряду с научными занятиями, испытывал свои силы в качестве писателя (хотя, кажется, никогда не печатался), то в Париже, когда виды на академическую карьеру становились все менее реальными, он, естественно, обратился к занятиям чисто литературным. Приезд его в Париж почти совпал с выходом (в феврале 1923 года) литературного еженедельника «Звено», основателями которого были П.Н. Милюков и М.М. Винавер и который фактически редактировался и вдохновлялся только последним. Вместе с Андреем Левинсоном, Б.Ф. Шлецером, Г.В. Адамовичем, В.В. Вейдле, Н.М. Бахтиным, Г.Л. Лозинским Мочульский входил в состав редакционной коллегии журнала, и на протяжении пяти с лишним лет его существования не выходило почти ни одного номера, в котором не было бы статьи Мочульского. Помещал он преимущественно критические очерки о русских и французских писателях, но этим сотрудничество его не ограничивалось: в течение нескольких лет он вел отдел театральных рецензий (за подписью «Театрал») и, кроме того, от поры до времени давал «маленькие фельетоны», полные тонкого и очаровательного юмора. Наконец, появилось в «Звене», под псевдонимом Версилов, и несколько его рассказов, свидетельствовавших о том, что техника художественного повествования не имела для него секретов.
Мочульский не был и не мог стать профессиональным журналистом. При всей впечатлительности его натуры, при всем внимании и интересе к новым веяниям в литературе, он никогда не соглашался подчиниться рутине журнальной работы: он не писал о том, о чем писать ему не хотелось, подход его был скорее подходом историка литературы, чем обозревателя, откликающегося на злобу дня. Поэтому многие из его очерков – несмотря на относительную краткость – выходят за пределы эфемерид, предназначенных для легкого чтения и столь же быстрого забвения. Я не имею возможности перечислить здесь хотя бы только важнейшие из его статей: слишком длинен был бы этот список. Перечитывая их, убеждаешься, что часто они заключают в себе суждения окончательные о писателях, что они – итог пристального изучения их творчества и глубокого проникновения в его смысл. Почти наугад называю очерки об Андре Жиде (1927) и о Некрасове (1928), где с необыкновенной точностью и выпуклостью даны едва ли не исчерпывающие формулы, могущие служить ключом к личности и творчеству обоих авторов. В этом смысле работа Мочульского в «Звене» может считаться предвосхищением его трудов о Гоголе, Соловьеве, Достоевском.
Однако прежде чем произошло такое переключение на иные масштабы, на систематическую литературно-исследовательскую работу, Мочульскому суждено было пережить духовный кризис, глубоко потрясший все его существование.
В жизни Мочульского были стороны, которые он едва ли открывал даже близким друзьям. Всем, кто знал его в первое десятилетие пребывания во Франции, кого он привлекал и очаровывал своей приветливостью и простотой, своим доброжелательством и искренностью, своим беззлобным остроумием, той чистотой, которую он неизменно излучал, – всем он казался существом жизнерадостным, повернутым к солнечной, «средиземноморской» стороне жизни. Но, несомненно, были в его душе не зарубцевавшиеся раны, делавшие это светлое равновесие обманчивым. Его молодость была омрачена тяжкими утратами: один из двух младших его братьев, Николай, будучи еще студентом, погиб на Кавказе во время экскурсии, спасая тонувшую девушку. Другой брат, тоже еще студент, умер от туберкулеза в 1923 году, в Швейцарии, на руках у Константина Васильевича. Мать его, к которой он был нежно привязан, скончалась в России, в 1920 году. Все это переживалось тяжело, и все это, надо думать, подготовляло Мочульского к тому перелому, который совершился в нем в конце 20-х или в самом начале 30-х годов.
Ни точный момент, ни обстоятельства этого перелома никто с определенностью установить не может. Некоторые факты дают указания на совершавшуюся в нем перемену. Некогда усердный посетитель русских литературных кружков, он перестает показываться в монпарнасских кафе, где они собирались. Зато его можно встретить на собраниях Религиозно-философской академии, основанной Н.А. Бердяевым. В 1933 году он читает в академии цикл лекций, посвященных западным мистикам. Тема, им избранная, свидетельствует о его занятиях философией и богословием, – занятиях, позволивших ему впоследствии проявить солидные философские познания в книге о Владимире Соловьеве. На религиознофилософское миросозерцание его, несомненно, сильно воздействовал отец Сергий Булгаков, с которым его связывали близкие личные отношения (ему Мочульский посвятил «с сыновней любовью» свою книгу о Соловьеве). Нет также сомнения в том, что Бердяев, в окружение которого он входил, со своей стороны сильно влиял на его мышление.
Но духовное преобразование, испытанное в то время Мочульским, шло гораздо дальше освоения философских и религиозных проблем. По-видимому, приобщившись к церковной жизни, он готов был всецело себя в ней растворить; монашество казалось ему единственно возможным завершением происходившей в нем эволюции. И он себя к нему постепенно готовил: упростил свое существование до последних пределов, стал раздавать свое скудное имущество – в частности, книги, которые ранее с любовью собирал. Вероятно, подвергал себя и другим испытаниям, готовясь к иноческому аскетизму. Вот что сказал об этом епископ Касьян в слове, произнесенном на панихиде по Мочульском в Сергиевском подворье в Париже: «В конце двадцатых годов мы видели его здесь, в этом храме, простертым ниц перед иконою Божией Матери. А несколько лет спустя многих удивило слово, сказанное ему покойным митр. Евлогием. Это было здесь же, в этом храме, вскоре после архиерейской хиротонии тоже покойного епископа Иоанна. Встретив Константина Васильевича, владыка Евлогий сказал ему: „Теперь ваша очередь“. Митрополит Евлогий был человек большого жизненного опыта и большого знания людей. И он намечал мирянина Мочульского на высшее – архиерейское – служение в Церкви».
Мочульский остался в миру (хотя и был посвящен митрополитом Евлогием – сперва в церковные чтецы, а потом в иподиаконы). Однако, говоря словами старца Зосимы, он и «в миру пребыл как инок».
Вероятно, решающее значение имело для него общение с матерью Марией (Скобцовой), монахиней, для которой тоже монастырской кельей был весь Божий мир. Еще не написана ни биография этой удивительной женщины, ни история «Православного дела», во главе которого она стояла, но хочется думать, что найдется человек, который эту миссию исполнит. Слишком значительным – если не по внешним своим проявлениям, то по общему своему смыслу – было дело, созданное матерью Марией, и образ ее не должен забыться, как не забылся образ других женщин, сочетавших высокий склад души, сильную веру и необычайный духовный подъем с практическим действием, не отступавшим ни перед какими трудностями. «Православное дело» возникло в 1935 году. Мать Мария была его председательницей, Мочульский – товарищем председателя. Вот как описывает их сотрудничество один из ближайших участников «Православного дела»:
«Мать Мария и Константин Васильевич были очень дружны, трудно сказать, кто на кого больше влиял; их дружба определялась русской религиозной мыслью, искусством, поэзией, богословием. Они были противоположных характеров: К.В. был кабинетный, ученый человек, мать Мария была общественницей. К.В. был тихий, скромный, избегал борьбы, боялся столкновений; общественность, особенно эмигрантская, была ему совершенно чужда, он ее сторонился. Мать Мария считала, что новый тип монашества должен идти в мир, на площади, не думать о своем спасении; нужно спасать других; мир горит, говорила она, мир нуждается в спасении. Нужно идти к пьяницам, к обездоленным. В дневнике К.В. Мочульского, в связи с воспоминаниями о матери Марии, об этом много сказано. Он часто был зачарован проектами и деятельностью матери Марии. Ко всем ее начинаниям он относился с сочувствием, в обсуждениях принимал горячее участие. Многое не удавалось. К.В. разделял горячо наши неудачи.
В первые годы деятельности объединения „Православное дело“ Константин Васильевич много отдавал энергии и сил миссионерской деятельности в пригородах Парижа или в нашем центре, читая лекции и призывая слушателей к церкви, к помощи обездоленным. Не всегда его попытки были успешны. К.В. падал духом, но после встреч с матерью Марией вновь одушевлялся. В группах при объединении „Православного дела“ К.В. был в своем роде духовным руководителем, и действительно он пользовался уважением и любовью и на путях духовной жизни оказывал нам огромную помощь».
Наступил 1940 год. Париж оказался в руках немцев. Что гестапо не потерпит существования демократической христианской организации, не различавшей между эллином и иудеем, было заранее ясно. Ясно это было, конечно, и самим участникам «Православного дела». Но все они, во главе с матерью Марией, мужественно оставались на посту. И неизбежное произошло. В начале 1943 года, после обысков и допросов, произведенных в помещении «Православного дела», арестованы были сама мать Мария, сын ее, Юрий Скобцов, священник отец Дмитрий Клепинин, И.И. Фундаминский-Бунаков, Ф.Т. Пьянов и др. Все они были депортированы, и, кроме последнего, никто не вышел живым из немецких концентрационных лагерей.
Мочульский уцелел каким-то чудом. Но потрясение, испытанное им при виде участи, постигшей людей, с которыми связывало его не только общее дело, но и узы личной любви и тесного духовного общения, было огромно. От этого удара он так и не оправился, и нет сомнения, что трагедия, разыгравшаяся на его глазах, способствовала развитию его физического недуга не менее, чем ужасные материальные условия, в которых пришлось ему жить в годы немецкой оккупации.
Серия литературных трудов Мочульского открылась появлением в 1934 году книги «Духовный путь Гоголя». За ней последовала в 1936 году работа о В.С. Соловьеве, а в 1942 году закончен был Мочульским обширный его труд о Достоевском, вышедший в свет только в 1947 году. Очень верно отметил Ю.К. Терапиано, что все эти книги выросли естественно из личного опыта Мочульского, что в судьбе авторов, над духовной историей которых он с таким вниманием склонялся, он стремился найти ответ на вопрос о том, как человек обретает самого себя, свое религиозное призвание: иначе говоря, искал параллели с собственным духовным переломом, пережитым nel mezzo del cammin[1 - В середине пути (ит.).].. Но это – только объяснение – очень правдоподобное – того, почему Мочульский выбрал предметом исследования одних авторов, а не других. Объективная ценность его работ, разумеется, в другом: он сумел дать убедительный синтез творческого развития всех трех писателей, пролить новый свет на источники их мысли, на силы, которым повиновалось их художественное воображение. Эти построения Мочульского приобретают особенную убедительность еще и потому, что домыслы его покоятся на прочном историко-литературном фундаменте; здесь сказалась его научная формация, заставившая каждое утверждение, подсказанное интуицией, подкреплять критическим анализом имевшихся в его распоряжении литературных источников, вариантов, черновиков, переписки и т. д. Не может быть сомнения в том, что в будущем ни один историк русской словесности не пройдет мимо работ Мочульского и новых концепций, им выдвинутых.
В последние годы своей жизни Мочульский, несмотря на подавленность, вызванную страшными событиями военных годов, и, несмотря на усиливающуюся болезнь, продолжает усердно работать: читает лекции в парижской Духовной академии, председательствует в «Православном деле», а главное – продолжает писать. Закончив свой труд о Достоевском, он обратился к русским поэтам-символистам, возвращаясь тем самым к интересам своей молодости (он был некогда сторонником «формального» метода, и кое-какие следы этого раннего увлечения читатель найдет на страницах, посвященных разбору звукового строения блоковских стихов). Работал он, как всегда, с чрезвычайным подъемом и вдохновением; он, можно сказать, жил жизнью тех людей, творчеством и духовной историей которых занимался. Плодом этой работы является настоящая книга о Блоке.
Однако болезнь неумолимо подтачивала его силы. В 1946 году ему пришлось перейти на санаторный режим. Он жил сперва в Фонтенбло, а потом переехал в Камбо, в Пиренеях. Здесь как будто наступило улучшение, и летом 1947 года врачи разрешили ему вернуться в Париж. Он поселился за городом, в Нуази-ле-Гран. Несмотря на дружеское внимание и тщательный уход, там его окружавшие, обнаружился рецидив, сразу принявший угрожающую форму. Пришлось возвращаться в Камбо. Всем друзьям К.В. было ясно, что дни его сочтены. Последние месяцы он провел в тяжких страданиях. Но он сумел побороть их непреклонным мужеством перед лицом смерти и высоким религиозным подъемом. В одном из последних своих писем он писал: «Трудно болеть, трудно задыхаться, трудно не видеть того, кого любишь, но верьте, умоляю вас, верьте, что во всем этом есть смысл». Эту веру, эту силу духа он сохранил до последней минуты.
М. Кантор
Глава 1
Детство и отрочество (1880–1900)
По отцу Блок – немецкого происхождения. Его прапрадед, мекленбургский выходец Иоганн фон Блок, переселился в Россию в 1755 году и состоял лейб-медиком при императрице Елизавете Петровне. Дед, камер-юнкер и предводитель дворянства, был женат на дочери псковского губернатора Черкасова; последние два года жизни он провел в психиатрической больнице. Душевную неуравновешенность унаследовал от него сын – профессор и внук – поэт. Отец Блока, Александр Львович, блестяще окончил юридический факультет Петербургского университета, был любимым учеником профессора А.Д. Градовского и занимал кафедру государственного права в Варшавском университете. Научное наследие его довольно скудно: две небольшие книжки по государственному праву и незаконченный труд «Политика в кругу наук», над которой он работал 21 год. В первой своей книге «Государственная власть в европейском обществе» (1880) Александр Львович восстает против государства и проповедует революционный анархизм. «Не лучше ли, – пишет он, – людям упразднить такого рода от них независимую и стесняющую форму общежития (государство)». Цензура первоначально присудила книгу к сожжению. Вторая книга А.Л. Блока «Политическая литература в России и о России» (1884) – причудливое сочетание научности с публицистикой, памфлета с социальной утопией. Автор саркастически обличает буржуазную Европу и противопоставляет ей русское «мужичье царство»; его характеристика русского народа остра и парадоксальна; А.Л. Блок восхваляет «беспринципность, язвительную насмешливость, едкую иронию, не лицемерность самого зла, дающие нам гордое сознание наших варварских преимуществ»[2 - Спекторский Е. Александр Львович Блок, государствовед и философ // Варшавские университетские известия. 1912. III.].
Поэт едва ли знал сочинения отца – тем поразительнее сходство их умонастроения. Своеобразное славянофильство отца отразилось в статьях Блока о России и в его поэме «Скифы».
Александр Львович был очень красив в молодости: черноволосый, с длинным бледным лицом, порывистый и легкий; у него были серо-зеленые глаза, тонкие черты, сросшиеся брови, ярко-красные губы и тяжелый взгляд. Он отличался большой физической силой, неожиданно и громко смеялся и, волнуясь, немного заикался. Сын был похож на отца сложением и общим складом лица.
Александр Львович – натура раздвоенная, неудовлетворенная, мучительно дисгармоничная. Научная карьера легла тяжким бременем на его артистический темперамент. В душе он был поэт, знал наизусть множество стихов, считал себя стилистом, учеником Флобера и изысканно оттачивал свои фразы. Книги его написаны острым афористическим языком, с французскими pointes[3 - Острие, жало (фр.).] и литературной злостью. Блок говорит об отце: «Судьба его исполнена сложных противоречий, довольно необычна и мрачна… Свои непрестанно развивавшиеся идеи он не сумел вместить в те сжатые формы, которых искал; в этом искании сжатых форм было что-то судорожное и страшное, как во всем душевном и физическом облике его».
Неудавшийся ученый, неудавшийся поэт, Александр Львович находил выход своему лирическому волнению в музыке. Его ученик Е. Спекторский вспоминает: «Когда нередко среди глубокой ночи он садился за рояль, раздавались звуки, свидетельствовавшие, что музыка была для него не просто техникой, алгеброй тонов, а живым, почти мистическим общением с гармонией, если не действительной, то возможно, космоса». Он любил Бетховена и Шумана; играл с надрывом, страстью, вдохновением».
Стихия музыки в Блоке – от отца. Но и страшный недуг, которым страдал поэт – «болезнь иронии», – тоже отцовское наследие. Александр Львович писал в своей книге, что «в гармоническом сочетании реализма и идеализма заключается высший смысл русской поэзии, литературы и жизни». Но сам он был разорван между идеализмом и реализмом. Мечтатель, потерявший веру в мечту, романтик, отравленный скепсисом, «русский Байрон» и «демон» – образом страшным и роковым врезался он в воображение поэта.
«Ирония, – пишет Е. Спекторский, – властно толкала его мысль на путь критики всякого рода иллюзий, и притом критики, дающей отрицательный, более или менее безотрадный плод, рассеивающий воздушные замки и ничего не осуществляющий, кроме действительности во всей ее печальной наготе. Но вместе с тем она сопровождалась какой-то грустью, какой-то тоской по иллюзии, каким-то желанием все-таки не расстаться окончательно с мечтою и верить в нее… Он обладал твердой, непреклонной, можно сказать, упрямой волею. Раз начатое дело он доводил до конца. Беспощадно-аналитический ум как бы тешился дисгармонией настоящей, единственно-реальной действительности и расстраивал всякие мечты, всякую веру и надежду. В результате – глубокая ирония, разочарованность и резиньяция[4 - Резиньяция – полная покорность судьбе.]».
Так протягиваются нити от отца к сыну. То же раздвоение в восприятии мира, та же тревога и мечтательность, та же музыкально-лирическая стихия, чувство гибели и отравленность иронией.
Мать Блока – Александра Андреевна – чисто русская. Ее отец – знаменитый профессор ботаники и ректор Петербургского университета Андрей Николаевич Бекетов. В молодости поклонник Фурье и Сен-Симона, он принадлежал к благородному поколению русских романтиков-идеалистов. Возвышенность души и детская чистота сердца, дворянский либерализм и бескорыстное служение добру, идеалы эпохи Великих реформ и народничество соединялись в нем с научной одаренностью, темпераментом, артистичностью. Его любили товарищи, студенты, домашние. Он отстаивал независимость университета, был одним из основателей Бестужевских курсов и в правительственных кругах слыл революционером. Для любимца внука – будущего поэта – дед сочинял сказки и рисовал занятные картинки. В «Автобиографии» Блок называет Андрея Николаевича «дворянином-шестидесятником», «идеалистом чистой воды». «В своем сельце Шахматове, – пишет он, – дед мой выходил к мужикам на крыльцо, потряхивая носовым платком, совершенно по той же привычке, по которой И.С. Тургенев, разговаривая со своими крепостными, смущенно отколупывал кусочки краски с подъезда, обещая отдать всё, что ни спросят… Встречая знакомого мужика, дед мой брал его за плечо и начинал свою речь словами: „Et bien, mon petit…“
Иногда на том разговор и кончался. Любимыми собеседниками были памятные мне отъявленные мошенники и плуты… Однажды мой дед, видя, что мужик несет на плече из лесу березу, сказал ему: „Ты устал, дай я тебе помогу“. При этом ему и в голову не пришло то очевидное обстоятельство, что березка срублена в нашем лесу».
С любовным юмором поэт набрасывает портрет деда в поэме «Возмездие»:
Глава семьи, сороковых
Годов соратник: он поныне
В числе людей передовых
Хранит гражданские святыни;
Константин Васильевич Мочульский
Книга литературоведа Константина Васильевича Мочульского посвящена жизни и творчеству одного из крупнейших представителей русского символизма Александра Блока. Автор прослеживает жизненный путь поэта с детских лет до последних дней жизни, рассказывает о его творческой деятельности, анализирует произведения, уделяя особое внимание проблемам философского содержания творчества А. Блока.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Константин Мочульский
Александр Блок
О, я хочу безумно жить:
Всё сущее – увековечить,
Безличное – вочеловечить,
Несбывшееся – воплотить!
Пусть душит жизни сон тяжелый,
Пусть задыхаюсь в этом сне, —
Быть может, юноша веселый
В грядущем скажет обо мне:
Простим угрюмство – разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь – дитя добра и света,
Он весь – свободы торжество!
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2024
© «Центрполиграф», 2024
Об авторе книги
Константин Васильевич Мочульский родился в Одессе 28 января 1892 года. Он был старшим сыном в семье. Мать его, Анна Константиновна, урожденная Попович, была греческого происхождения. Вероятно, это обстоятельство давало Мочульскому повод подчеркивать, что он – человек средиземноморской цивилизации. Говорилось это полушутя, но, несомненно, такое утверждение соответствовало некоторому внутреннему ощущению; было в нем тяготение к ясности, к равновесию, к аполлиническому восприятию мира; путешествуя в странах, где всего явственнее чувствуется наследие классической культуры – по югу Франции, по Италии, Сицилии, – он с какой-то особенной радостью впитывал в себя и блеск южного солнца, и впечатления от художественных богатств, уцелевших от Античного мира. Что эта тенденция была не единственной в духовном складе Мочульского, что параллельно с нею в нем заложено было и другое начало, начало мистически-религиозного отношения к миру, – в этом сомневаться не приходится. Крайняя впечатлительность, очень рано в нем сказавшаяся, не могла оставить его равнодушным к религии, обряды которой строго соблюдались в доме его родителей. Но на первых порах едва ли эти впечатления имели решающее влияние. Им суждено было сказаться – зато с какой силой! – лишь много позднее.
Учился Константин Васильевич отлично. Ребенок несколько болезненный, он держался вдалеке от шумных игр, увлекался поэзией и театром. В 1910 году он окончил курс второй одесской гимназии и поступил на филологический факультет Санкт-Петербургского университета, по романогерманскому отделению. Здесь он очень быстро выделился своими исключительными способностями и серьезностью своих интересов, предопределявшими, как тогда казалось, его жизненный путь: блестящая учено-университетская карьера могла считаться ему обеспеченной. Она, впрочем, соответствовала и семейной традиции: отец его был профессором Новороссийского университета, где занимал кафедру русской словесности. Одновременно, однако, живой интерес к текущей литературе сблизил Мочульского с кругом молодых писателей, среди которых острота его художественного восприятия и личное обаяние привлекли к нему немало друзей.
По окончании курса Мочульский оставлен был при университете. Предметом его занятий была история романских литератур. Уже после революции, в 1918 году, он был назначен приват-доцентом в Саратовский университет, но события помешали ему туда отправиться, и первые лекции с университетской кафедры ему суждено было читать в родной Одессе, в стенах Новороссийского университета. Однако судьбе неугодно было дать ему пойти по тому пути, который с такой естественностью перед ним открывался. В 1919 году, вовлеченный в общий беженский поток, он покидает Россию. В течение двух лет он читает лекции в Софийском университете, и притом с немалым успехом. Но рок эмиграции неумолим: «Из края в край, из града в град»… В 1922 году Мочульский уже в Париже. И здесь он еще не решается расстаться с мыслью об академической карьере. В составе русского отдела, который образован был при Сорбонне и объединял многих русских ученых, оказавшихся во Франции, он объявляет курс лекций – уже по русской литературе, в рамках задания и программы отдела. И здесь у него – полная аудитория, и курс свой он читает из года в год, переходя от одного писателя к другому. Но самый русский отдел постепенно хиреет, и деятельность его замирает. Скоро приходится признать очевидность: университетским ученым Мочульскому не стать.
Если еще в студенческие годы Мочульский, наряду с научными занятиями, испытывал свои силы в качестве писателя (хотя, кажется, никогда не печатался), то в Париже, когда виды на академическую карьеру становились все менее реальными, он, естественно, обратился к занятиям чисто литературным. Приезд его в Париж почти совпал с выходом (в феврале 1923 года) литературного еженедельника «Звено», основателями которого были П.Н. Милюков и М.М. Винавер и который фактически редактировался и вдохновлялся только последним. Вместе с Андреем Левинсоном, Б.Ф. Шлецером, Г.В. Адамовичем, В.В. Вейдле, Н.М. Бахтиным, Г.Л. Лозинским Мочульский входил в состав редакционной коллегии журнала, и на протяжении пяти с лишним лет его существования не выходило почти ни одного номера, в котором не было бы статьи Мочульского. Помещал он преимущественно критические очерки о русских и французских писателях, но этим сотрудничество его не ограничивалось: в течение нескольких лет он вел отдел театральных рецензий (за подписью «Театрал») и, кроме того, от поры до времени давал «маленькие фельетоны», полные тонкого и очаровательного юмора. Наконец, появилось в «Звене», под псевдонимом Версилов, и несколько его рассказов, свидетельствовавших о том, что техника художественного повествования не имела для него секретов.
Мочульский не был и не мог стать профессиональным журналистом. При всей впечатлительности его натуры, при всем внимании и интересе к новым веяниям в литературе, он никогда не соглашался подчиниться рутине журнальной работы: он не писал о том, о чем писать ему не хотелось, подход его был скорее подходом историка литературы, чем обозревателя, откликающегося на злобу дня. Поэтому многие из его очерков – несмотря на относительную краткость – выходят за пределы эфемерид, предназначенных для легкого чтения и столь же быстрого забвения. Я не имею возможности перечислить здесь хотя бы только важнейшие из его статей: слишком длинен был бы этот список. Перечитывая их, убеждаешься, что часто они заключают в себе суждения окончательные о писателях, что они – итог пристального изучения их творчества и глубокого проникновения в его смысл. Почти наугад называю очерки об Андре Жиде (1927) и о Некрасове (1928), где с необыкновенной точностью и выпуклостью даны едва ли не исчерпывающие формулы, могущие служить ключом к личности и творчеству обоих авторов. В этом смысле работа Мочульского в «Звене» может считаться предвосхищением его трудов о Гоголе, Соловьеве, Достоевском.
Однако прежде чем произошло такое переключение на иные масштабы, на систематическую литературно-исследовательскую работу, Мочульскому суждено было пережить духовный кризис, глубоко потрясший все его существование.
В жизни Мочульского были стороны, которые он едва ли открывал даже близким друзьям. Всем, кто знал его в первое десятилетие пребывания во Франции, кого он привлекал и очаровывал своей приветливостью и простотой, своим доброжелательством и искренностью, своим беззлобным остроумием, той чистотой, которую он неизменно излучал, – всем он казался существом жизнерадостным, повернутым к солнечной, «средиземноморской» стороне жизни. Но, несомненно, были в его душе не зарубцевавшиеся раны, делавшие это светлое равновесие обманчивым. Его молодость была омрачена тяжкими утратами: один из двух младших его братьев, Николай, будучи еще студентом, погиб на Кавказе во время экскурсии, спасая тонувшую девушку. Другой брат, тоже еще студент, умер от туберкулеза в 1923 году, в Швейцарии, на руках у Константина Васильевича. Мать его, к которой он был нежно привязан, скончалась в России, в 1920 году. Все это переживалось тяжело, и все это, надо думать, подготовляло Мочульского к тому перелому, который совершился в нем в конце 20-х или в самом начале 30-х годов.
Ни точный момент, ни обстоятельства этого перелома никто с определенностью установить не может. Некоторые факты дают указания на совершавшуюся в нем перемену. Некогда усердный посетитель русских литературных кружков, он перестает показываться в монпарнасских кафе, где они собирались. Зато его можно встретить на собраниях Религиозно-философской академии, основанной Н.А. Бердяевым. В 1933 году он читает в академии цикл лекций, посвященных западным мистикам. Тема, им избранная, свидетельствует о его занятиях философией и богословием, – занятиях, позволивших ему впоследствии проявить солидные философские познания в книге о Владимире Соловьеве. На религиознофилософское миросозерцание его, несомненно, сильно воздействовал отец Сергий Булгаков, с которым его связывали близкие личные отношения (ему Мочульский посвятил «с сыновней любовью» свою книгу о Соловьеве). Нет также сомнения в том, что Бердяев, в окружение которого он входил, со своей стороны сильно влиял на его мышление.
Но духовное преобразование, испытанное в то время Мочульским, шло гораздо дальше освоения философских и религиозных проблем. По-видимому, приобщившись к церковной жизни, он готов был всецело себя в ней растворить; монашество казалось ему единственно возможным завершением происходившей в нем эволюции. И он себя к нему постепенно готовил: упростил свое существование до последних пределов, стал раздавать свое скудное имущество – в частности, книги, которые ранее с любовью собирал. Вероятно, подвергал себя и другим испытаниям, готовясь к иноческому аскетизму. Вот что сказал об этом епископ Касьян в слове, произнесенном на панихиде по Мочульском в Сергиевском подворье в Париже: «В конце двадцатых годов мы видели его здесь, в этом храме, простертым ниц перед иконою Божией Матери. А несколько лет спустя многих удивило слово, сказанное ему покойным митр. Евлогием. Это было здесь же, в этом храме, вскоре после архиерейской хиротонии тоже покойного епископа Иоанна. Встретив Константина Васильевича, владыка Евлогий сказал ему: „Теперь ваша очередь“. Митрополит Евлогий был человек большого жизненного опыта и большого знания людей. И он намечал мирянина Мочульского на высшее – архиерейское – служение в Церкви».
Мочульский остался в миру (хотя и был посвящен митрополитом Евлогием – сперва в церковные чтецы, а потом в иподиаконы). Однако, говоря словами старца Зосимы, он и «в миру пребыл как инок».
Вероятно, решающее значение имело для него общение с матерью Марией (Скобцовой), монахиней, для которой тоже монастырской кельей был весь Божий мир. Еще не написана ни биография этой удивительной женщины, ни история «Православного дела», во главе которого она стояла, но хочется думать, что найдется человек, который эту миссию исполнит. Слишком значительным – если не по внешним своим проявлениям, то по общему своему смыслу – было дело, созданное матерью Марией, и образ ее не должен забыться, как не забылся образ других женщин, сочетавших высокий склад души, сильную веру и необычайный духовный подъем с практическим действием, не отступавшим ни перед какими трудностями. «Православное дело» возникло в 1935 году. Мать Мария была его председательницей, Мочульский – товарищем председателя. Вот как описывает их сотрудничество один из ближайших участников «Православного дела»:
«Мать Мария и Константин Васильевич были очень дружны, трудно сказать, кто на кого больше влиял; их дружба определялась русской религиозной мыслью, искусством, поэзией, богословием. Они были противоположных характеров: К.В. был кабинетный, ученый человек, мать Мария была общественницей. К.В. был тихий, скромный, избегал борьбы, боялся столкновений; общественность, особенно эмигрантская, была ему совершенно чужда, он ее сторонился. Мать Мария считала, что новый тип монашества должен идти в мир, на площади, не думать о своем спасении; нужно спасать других; мир горит, говорила она, мир нуждается в спасении. Нужно идти к пьяницам, к обездоленным. В дневнике К.В. Мочульского, в связи с воспоминаниями о матери Марии, об этом много сказано. Он часто был зачарован проектами и деятельностью матери Марии. Ко всем ее начинаниям он относился с сочувствием, в обсуждениях принимал горячее участие. Многое не удавалось. К.В. разделял горячо наши неудачи.
В первые годы деятельности объединения „Православное дело“ Константин Васильевич много отдавал энергии и сил миссионерской деятельности в пригородах Парижа или в нашем центре, читая лекции и призывая слушателей к церкви, к помощи обездоленным. Не всегда его попытки были успешны. К.В. падал духом, но после встреч с матерью Марией вновь одушевлялся. В группах при объединении „Православного дела“ К.В. был в своем роде духовным руководителем, и действительно он пользовался уважением и любовью и на путях духовной жизни оказывал нам огромную помощь».
Наступил 1940 год. Париж оказался в руках немцев. Что гестапо не потерпит существования демократической христианской организации, не различавшей между эллином и иудеем, было заранее ясно. Ясно это было, конечно, и самим участникам «Православного дела». Но все они, во главе с матерью Марией, мужественно оставались на посту. И неизбежное произошло. В начале 1943 года, после обысков и допросов, произведенных в помещении «Православного дела», арестованы были сама мать Мария, сын ее, Юрий Скобцов, священник отец Дмитрий Клепинин, И.И. Фундаминский-Бунаков, Ф.Т. Пьянов и др. Все они были депортированы, и, кроме последнего, никто не вышел живым из немецких концентрационных лагерей.
Мочульский уцелел каким-то чудом. Но потрясение, испытанное им при виде участи, постигшей людей, с которыми связывало его не только общее дело, но и узы личной любви и тесного духовного общения, было огромно. От этого удара он так и не оправился, и нет сомнения, что трагедия, разыгравшаяся на его глазах, способствовала развитию его физического недуга не менее, чем ужасные материальные условия, в которых пришлось ему жить в годы немецкой оккупации.
Серия литературных трудов Мочульского открылась появлением в 1934 году книги «Духовный путь Гоголя». За ней последовала в 1936 году работа о В.С. Соловьеве, а в 1942 году закончен был Мочульским обширный его труд о Достоевском, вышедший в свет только в 1947 году. Очень верно отметил Ю.К. Терапиано, что все эти книги выросли естественно из личного опыта Мочульского, что в судьбе авторов, над духовной историей которых он с таким вниманием склонялся, он стремился найти ответ на вопрос о том, как человек обретает самого себя, свое религиозное призвание: иначе говоря, искал параллели с собственным духовным переломом, пережитым nel mezzo del cammin[1 - В середине пути (ит.).].. Но это – только объяснение – очень правдоподобное – того, почему Мочульский выбрал предметом исследования одних авторов, а не других. Объективная ценность его работ, разумеется, в другом: он сумел дать убедительный синтез творческого развития всех трех писателей, пролить новый свет на источники их мысли, на силы, которым повиновалось их художественное воображение. Эти построения Мочульского приобретают особенную убедительность еще и потому, что домыслы его покоятся на прочном историко-литературном фундаменте; здесь сказалась его научная формация, заставившая каждое утверждение, подсказанное интуицией, подкреплять критическим анализом имевшихся в его распоряжении литературных источников, вариантов, черновиков, переписки и т. д. Не может быть сомнения в том, что в будущем ни один историк русской словесности не пройдет мимо работ Мочульского и новых концепций, им выдвинутых.
В последние годы своей жизни Мочульский, несмотря на подавленность, вызванную страшными событиями военных годов, и, несмотря на усиливающуюся болезнь, продолжает усердно работать: читает лекции в парижской Духовной академии, председательствует в «Православном деле», а главное – продолжает писать. Закончив свой труд о Достоевском, он обратился к русским поэтам-символистам, возвращаясь тем самым к интересам своей молодости (он был некогда сторонником «формального» метода, и кое-какие следы этого раннего увлечения читатель найдет на страницах, посвященных разбору звукового строения блоковских стихов). Работал он, как всегда, с чрезвычайным подъемом и вдохновением; он, можно сказать, жил жизнью тех людей, творчеством и духовной историей которых занимался. Плодом этой работы является настоящая книга о Блоке.
Однако болезнь неумолимо подтачивала его силы. В 1946 году ему пришлось перейти на санаторный режим. Он жил сперва в Фонтенбло, а потом переехал в Камбо, в Пиренеях. Здесь как будто наступило улучшение, и летом 1947 года врачи разрешили ему вернуться в Париж. Он поселился за городом, в Нуази-ле-Гран. Несмотря на дружеское внимание и тщательный уход, там его окружавшие, обнаружился рецидив, сразу принявший угрожающую форму. Пришлось возвращаться в Камбо. Всем друзьям К.В. было ясно, что дни его сочтены. Последние месяцы он провел в тяжких страданиях. Но он сумел побороть их непреклонным мужеством перед лицом смерти и высоким религиозным подъемом. В одном из последних своих писем он писал: «Трудно болеть, трудно задыхаться, трудно не видеть того, кого любишь, но верьте, умоляю вас, верьте, что во всем этом есть смысл». Эту веру, эту силу духа он сохранил до последней минуты.
М. Кантор
Глава 1
Детство и отрочество (1880–1900)
По отцу Блок – немецкого происхождения. Его прапрадед, мекленбургский выходец Иоганн фон Блок, переселился в Россию в 1755 году и состоял лейб-медиком при императрице Елизавете Петровне. Дед, камер-юнкер и предводитель дворянства, был женат на дочери псковского губернатора Черкасова; последние два года жизни он провел в психиатрической больнице. Душевную неуравновешенность унаследовал от него сын – профессор и внук – поэт. Отец Блока, Александр Львович, блестяще окончил юридический факультет Петербургского университета, был любимым учеником профессора А.Д. Градовского и занимал кафедру государственного права в Варшавском университете. Научное наследие его довольно скудно: две небольшие книжки по государственному праву и незаконченный труд «Политика в кругу наук», над которой он работал 21 год. В первой своей книге «Государственная власть в европейском обществе» (1880) Александр Львович восстает против государства и проповедует революционный анархизм. «Не лучше ли, – пишет он, – людям упразднить такого рода от них независимую и стесняющую форму общежития (государство)». Цензура первоначально присудила книгу к сожжению. Вторая книга А.Л. Блока «Политическая литература в России и о России» (1884) – причудливое сочетание научности с публицистикой, памфлета с социальной утопией. Автор саркастически обличает буржуазную Европу и противопоставляет ей русское «мужичье царство»; его характеристика русского народа остра и парадоксальна; А.Л. Блок восхваляет «беспринципность, язвительную насмешливость, едкую иронию, не лицемерность самого зла, дающие нам гордое сознание наших варварских преимуществ»[2 - Спекторский Е. Александр Львович Блок, государствовед и философ // Варшавские университетские известия. 1912. III.].
Поэт едва ли знал сочинения отца – тем поразительнее сходство их умонастроения. Своеобразное славянофильство отца отразилось в статьях Блока о России и в его поэме «Скифы».
Александр Львович был очень красив в молодости: черноволосый, с длинным бледным лицом, порывистый и легкий; у него были серо-зеленые глаза, тонкие черты, сросшиеся брови, ярко-красные губы и тяжелый взгляд. Он отличался большой физической силой, неожиданно и громко смеялся и, волнуясь, немного заикался. Сын был похож на отца сложением и общим складом лица.
Александр Львович – натура раздвоенная, неудовлетворенная, мучительно дисгармоничная. Научная карьера легла тяжким бременем на его артистический темперамент. В душе он был поэт, знал наизусть множество стихов, считал себя стилистом, учеником Флобера и изысканно оттачивал свои фразы. Книги его написаны острым афористическим языком, с французскими pointes[3 - Острие, жало (фр.).] и литературной злостью. Блок говорит об отце: «Судьба его исполнена сложных противоречий, довольно необычна и мрачна… Свои непрестанно развивавшиеся идеи он не сумел вместить в те сжатые формы, которых искал; в этом искании сжатых форм было что-то судорожное и страшное, как во всем душевном и физическом облике его».
Неудавшийся ученый, неудавшийся поэт, Александр Львович находил выход своему лирическому волнению в музыке. Его ученик Е. Спекторский вспоминает: «Когда нередко среди глубокой ночи он садился за рояль, раздавались звуки, свидетельствовавшие, что музыка была для него не просто техникой, алгеброй тонов, а живым, почти мистическим общением с гармонией, если не действительной, то возможно, космоса». Он любил Бетховена и Шумана; играл с надрывом, страстью, вдохновением».
Стихия музыки в Блоке – от отца. Но и страшный недуг, которым страдал поэт – «болезнь иронии», – тоже отцовское наследие. Александр Львович писал в своей книге, что «в гармоническом сочетании реализма и идеализма заключается высший смысл русской поэзии, литературы и жизни». Но сам он был разорван между идеализмом и реализмом. Мечтатель, потерявший веру в мечту, романтик, отравленный скепсисом, «русский Байрон» и «демон» – образом страшным и роковым врезался он в воображение поэта.
«Ирония, – пишет Е. Спекторский, – властно толкала его мысль на путь критики всякого рода иллюзий, и притом критики, дающей отрицательный, более или менее безотрадный плод, рассеивающий воздушные замки и ничего не осуществляющий, кроме действительности во всей ее печальной наготе. Но вместе с тем она сопровождалась какой-то грустью, какой-то тоской по иллюзии, каким-то желанием все-таки не расстаться окончательно с мечтою и верить в нее… Он обладал твердой, непреклонной, можно сказать, упрямой волею. Раз начатое дело он доводил до конца. Беспощадно-аналитический ум как бы тешился дисгармонией настоящей, единственно-реальной действительности и расстраивал всякие мечты, всякую веру и надежду. В результате – глубокая ирония, разочарованность и резиньяция[4 - Резиньяция – полная покорность судьбе.]».
Так протягиваются нити от отца к сыну. То же раздвоение в восприятии мира, та же тревога и мечтательность, та же музыкально-лирическая стихия, чувство гибели и отравленность иронией.
Мать Блока – Александра Андреевна – чисто русская. Ее отец – знаменитый профессор ботаники и ректор Петербургского университета Андрей Николаевич Бекетов. В молодости поклонник Фурье и Сен-Симона, он принадлежал к благородному поколению русских романтиков-идеалистов. Возвышенность души и детская чистота сердца, дворянский либерализм и бескорыстное служение добру, идеалы эпохи Великих реформ и народничество соединялись в нем с научной одаренностью, темпераментом, артистичностью. Его любили товарищи, студенты, домашние. Он отстаивал независимость университета, был одним из основателей Бестужевских курсов и в правительственных кругах слыл революционером. Для любимца внука – будущего поэта – дед сочинял сказки и рисовал занятные картинки. В «Автобиографии» Блок называет Андрея Николаевича «дворянином-шестидесятником», «идеалистом чистой воды». «В своем сельце Шахматове, – пишет он, – дед мой выходил к мужикам на крыльцо, потряхивая носовым платком, совершенно по той же привычке, по которой И.С. Тургенев, разговаривая со своими крепостными, смущенно отколупывал кусочки краски с подъезда, обещая отдать всё, что ни спросят… Встречая знакомого мужика, дед мой брал его за плечо и начинал свою речь словами: „Et bien, mon petit…“
Иногда на том разговор и кончался. Любимыми собеседниками были памятные мне отъявленные мошенники и плуты… Однажды мой дед, видя, что мужик несет на плече из лесу березу, сказал ему: „Ты устал, дай я тебе помогу“. При этом ему и в голову не пришло то очевидное обстоятельство, что березка срублена в нашем лесу».
С любовным юмором поэт набрасывает портрет деда в поэме «Возмездие»:
Глава семьи, сороковых
Годов соратник: он поныне
В числе людей передовых
Хранит гражданские святыни;